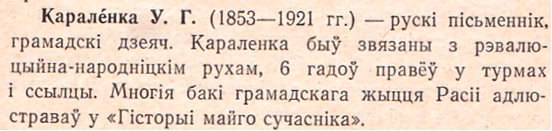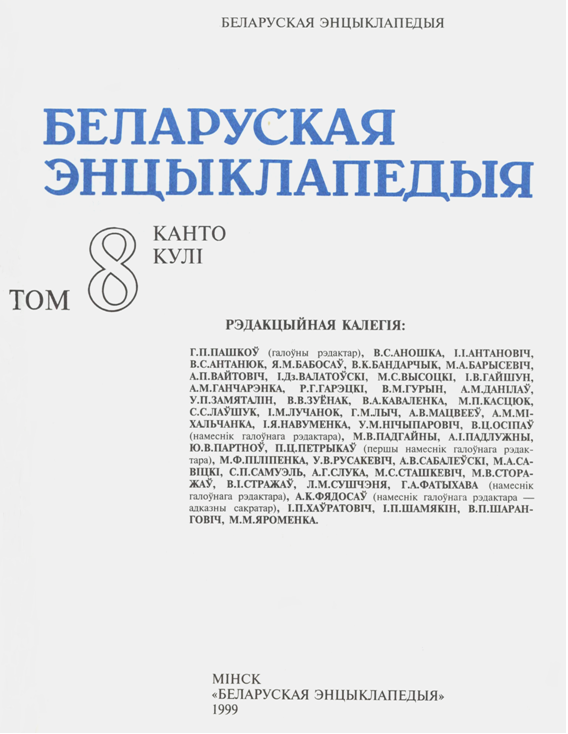ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
XXVI.
Обратный путь
Наконец стали объявлять сроки. Первому объявили Хаботину, и этот молодой человек, о котором мне приходилось говорить так мало лестного, уехал, ни в ком не возбудив сожаления и участия. Можно сказать, что он совсем не был нашим товарищем. Он с нами пил, ел, но не работал, и вернулся в свою Ярославскую губернию, не оставив никакого следа в нашей памяти.
Затем объявили срок и Папину. Его отсутствие мы почувствовали очень живо. Здесь уже пришлось говорить о некотором разделе имущества. Надо заметить, что нам очень повезло: все три года урожай у нас был средний, а это в тех местах большая редкость. У нас хлеб ни разу не вымерзал, а после нашего отъезда неурожай был целых пять лет, и население сильно бедствовало. Мы поделились по-товарищески: речь шла только об остающихся, уезжающий считался счастливцем, и ему товарищи выделяли только на дорожные расходы. Папин вернулся в Западную Сибирь, откуда был родом.
За Папиным последовал Вайнштейн, и мы проводили его дружески. Он поступил впоследствии в Казанский университет, окончил там курс медицины, и некоторое время мы виделись с ним уже в России. В голодный год в Нижегородской губернии мы часто с ним виделись, пока не потеряли друг друга из виду. Знаю, что он был медиком в Петербурге и обзавелся семьей.
Наконец подошла и моя очередь. Меня очень занимал вопрос, потребуют ли у меня присяги. Я решил ее не давать. Надо заметить, что за нами было небольшое дело уже в Якутской области. Однажды мы решили съехаться у товарищей Чернявских, и это стало известно начальству. Дело это тянулось и кончилось только после моего отъезда. Меня оно волновало исключительно как задержка. Впоследствии я был приговорен к чему-то — кажется, две недели тюремной высидки; об этом мне писали товарищи, но дело так и заглохло без последствий.
Наконец объявили срок и мне. После моей ссылки в Сибирь мне предстояло три года. Такой же срок был объявлен моему брату, который оставался все в Вятской губернии, и зятю Лошкареву, который жил с семьей в Минусинске. Таким образом, мне ничего не прибавили за самовольную отлучку.
О сроке мне, государственному преступнику Короленко, говорили уже заседатель Слепцов, другой заседатель Антонович и исправник Бубякин, но сменивший его новый исправник Пиневич упорно не сообщал об этом в мирскую избу.
Этот исправник вообще был человек странный. Прежде всего было известно, что он не берет взяток, зато было известно и другое — он отличался феноменальной ленью, и дела у него совсем не шли. Письма наши залеживались по неделям и месяцам, что вызывало у ссыльных сильное неудовольствие, и мы собирались на него жаловаться. Я имел причину особенно нервничать по этому поводу. Было известно, что и другим ссыльным, которым приближался срок, полицейским управлением ничего об этом не сообщалось по улусам. В мою поездку в Якутск я узнал, что в полицейском управлении уже несколько недель лежит присланная для меня посылка от младшей сестры из Петербурга. Когда я получил ее, то оказалось, что там была, между прочим, коробка конфет. Она оказалась пустой, и в ней как бы в насмешку была каким-то служащим в полицейском управлении вложена записка: «Кушайте на здоровье». Записку эту я потерял и не мог ее представить по требованию полицейского управления на мою жалобу [* Жалоба эта была написана в форме частного письма (от 4 марта 1883 года) на имя якутского окружного исправника.]. Вообще небрежность полицейского управления, руководимого Пиневичем, выводила нас всех из терпения. Предвидя, что и со мною может случиться такое же замедление, я подал амгинскому старосте следующее заявление:
«Согласно объявленному уже мне решению комиссии по пересмотру дел административно-ссыльных, срок моей ссылки сего 9-го числа сентября окончился, и с этого числа я не состою более под надзором крестьянского общества. Как известно из положения об охране, срок ссылки может быть продолжен лишь по особому представлению г. министра внутренних дел, а так как ничего подобного мне объявлено не было, то я считаю себя вправе уехать из Амги, что представляется мне тем более важным, что для дальнейшего пути я должен воспользоваться последними благоприятными днями перед распутицей. А так как до сих пор неизвестно, по какой причине из города за мной до сих пор никого не присылают, то я вижу себя вынужденным уехать отсюда на нанятых лошадях, если амгинский староста не найдет нужным препроводить меня, ввиду неожиданно возникшего недоразумения, в сопровождении старшины на обывательских лошадях. Задерживать же меня, вопреки официально объявленному мне распоряжению Верховной комиссии, полагаю, не во власти крестьянского старосты и даже полицейского управления.
Дворянин
Владимир Короленко.
9 сентября 1884 года».
Поданное мною добродушному нашему амгинскому тойону заявление это привело его в чрезвычайное затруднение. На его заявление, что он не вправе распорядиться без бумаги от исправника, я решительно сказал ему, что 10-го числа, если он не распорядится иначе, я сажусь на свою лошадь и еду в город. Если он станет задерживать, я окажу сопротивление. Староста сочинил бумагу, вернее — сочинил ее Николай Васильевич Васильев, который изъяснил, что:
«Государственный преступник Короленко, кроме сего заявления, заявил словесно, что если он, староста, не примет никаких мер к отправке его со старшиной, то он, государственный преступник Короленко, несмотря на его запрещение, отправится в город Якутск верхом и один. Я просил его, — продолжал тойон, — остановиться и выждать или присылки нарочного, или какого распоряжения. Короленко на это согласия не изъявил, а решительно заявил, что 10 сентября отправится в Якутск и более не живет в Амге ни одного часа. За отсутствием господина заседателя и ввиду столь решительного заявления государственного преступника Короленко, я нашел себя вынужденным отправить его со старшиной амгинского общества Егором Артемьевым»... [* Полный текст донесения амгинского крестьянского старосты в якутское полицейское правление от 10 сентября 1884 года, с пометкой «Секретно», напечатан в журнале «Сибирские вопросы», 1912, № 24.].
Эта моя решительность подействовала, и 10 сентября у Яммалахской пади, под большим деревом, которое все было увешано какими-то амулетами (якуты, отправляясь в дальнюю дорогу, вешают на деревья мелкие тряпки, волосы, выдернутые из конских хвостов, и тому подобные умилостивительные жертвы), все знакомые из Амги и ближайших улусов устроили мне проводы [* Т. А. Афанасьева писала Короленко в 1904 году из Якутска, что просила В. С. Панкратова (шлиссельбуржца), приезжавшего в 1903 году в Якутскую область с научной экспедицией, «найти в Амге то дерево, до которого когда-то провожали Короленко». «Но, увы, — пишет она, — его не нашли. Может быть, срубили, — жаль. Они даже хотели снять, но его не было».]. Тут, помню, было все семейство Афанасьевых, Н. С. Тютчев и еще кое-кто из амгинских (Орлов уехал еще ранее). Помню легкую смесь веселья и грусти, которая царила в нашем настроении при этих проводах под развесистым деревом. Наконец они кончились, товарищи и знакомые усадили меня со старшиной Артемьевым в повозку, и я тронулся в обратный путь [* О. В. Аптекман, присутствовавший при проводах Короленко, так описывает их в своих воспоминаниях: «Мы расположились на лужайке. Т. А. Афанасьева заварила чай, приготовила закуску. Последнее прости. Поднялись, чтобы попрощаться. Т. А. Афанасьева с детьми плакала навзрыд. Остальные сосредоточены. Что со мною было — не знаю, но Н. С. Тютчев, взглянув на меня, проронил: „Как разно прощанье действует на людей“. Я, должно быть, был бледен, потому что чувствовал, как кровь отливает у меня от сердца. Вл. Гал. вскочил в тележку, снял фуражку и всем послал общий привет».].
Под Якутском больше чем на сутки задержала нас сильная буря. Лена расходилась, как море. На мой вопрос, нельзя ли мне переехать, якут-перевозчик ответил (до сих пор помню это якутское выражение):
— Бу тызга почта да кельябат (в такой ветер и почта не ходит). — Он отвернулся и опять заснул под шум ветра и плеск воды.
Делать было нечего: пришлось почти полторы сутки провести над бушующей рекой в виду Якутска.
Это было очень досадно. День был яркий. Город был виден как на ладони, а вместе с тем недоступен. Река бушевала. Волны подымались и падали с шумным плеском. Я должен был согласиться, что переправа была немыслима, и, кажется, именно в это время в нашей ссыльной колонии случилось печальное происшествие. Я говорил уже, что среди нас был смелый охотник, Доллер. Он задумал переправиться через Лену, несмотря на бурю. Несмотря на уговоры товарищей и посторонних, он все-таки отправился один, на середине реки лодка опрокинулась, и Доллер утонул. Не знаю, в этот раз это было или в другой, но только Доллер покончил жизнь именно таким образом.
На следующий день, по еще не стихшей реке, мы наконец переправились, причем придирок никаких к старшине не было. Артемьев сдал меня в полицейское управление, и мы с ним радушно попрощались, причем я просил его передать мой привет всей Амге. В полицейском управлении сказали мне, что приезжие из улусов останавливаются обыкновенно у Зубрилова [* Зубрилов Василий Петрович (1851–1917). — В 1879 году приговорен по делу о пропаганде среди крестьян к каторжным работам на четыре года. Отбывал на Каре. В 1883 году вышел на поселение в Якутскую область.], и дали мне его адрес.
Я отправился туда. Зубрилов принял меня очень радушно. У нас с ним были уже некоторые отношения. Однажды мы, вся амгинская колония, получили от него и его сожителя профессора Богдановича [* Богданович Флориан Григорьевич (1845–1894) — австрийский подданный. В 1876 году, будучи приват-доцентом Львовского университета, организовал доставку в Россию заграничных изданий. Приговорен в Киеве в 1879 году к каторжным работам на шесть лет, которые отбывал на Каре. В 1884 году отправлен в Австрию. Некоторые черты Богдановича, спутника Короленко во время его возвращения из Якутской области, воспроизведены им в образе Игнатовича в рассказе «Мороз».] странное письмо. Он сообщал нам, что, когда он явился со своим сожителем, львовским профессором Богдановичем, к якутскому губернатору, последний поставил им в пример нашу якутскую колонию: дескать, трудятся и подают пример местным жителям. Автор письма считал это с нашей стороны крайне предосудительным. Мы ответили, что мы не сообразуемся со взглядами начальства на наше поведение и поступаем, как считаем нужным. На этом переписка закончилась, и более об ней не было речи. Впоследствии мы убедились, что инициатива этого заявления принадлежала Зубрилову, а Богданович присоединился по мягкости и слабости характера. Теперь Богданович, по требованию австрийского правительства, был, в ожидании дальнейшей отправки, отправлен в Иркутск и находился в столице Сибири, где мы должны были встретиться и, может быть, ехать дальше вместе.
Зубрилов был брат моего товарища по Петровской академии [* Этим товарищем был Зубрилов Михаил Петрович. Арестованный вместе с братом в станице Михайловской, он был привлечен по одному с ним делу, но судом был оправдан.], очень хорошего человека, и мы встретились как старые знакомые. В его квартире я нашел уже Ромася, из Балагурского улуса, прибывшего раньше, и Кобылянского, третьего брата из моих земляков Кобылянских, о которых я говорил уже выше [* Это был Кобылянский Казимир Александрович.]. Зубрилов жил в маленьком мезонине, в деревянном доме, у какой-то вдовы купца, торговавшей, кажется, с тунгусами. Я ее видел в Амге, у Афанасьевой, когда она с караваном на оленях отправлялась в свою торговую экспедицию. Кроме нас троих, в квартире Зубрилова мы увидели еще молодую якуточку. Зубрилов, конфузясь, объяснил нам, что якуточку к нему прислали товарищи из улуса для «охраны». Дело в том, что среди ссыльных начала распространяться особая форма брака. Ссыльный покупал девушку, платя за нее калым, и считался ее мужем. Многим эта форма брака показалась безнравственной. Невеста и ее родители считали ее пристроенной прочно, тогда как для другой стороны брак был легко расторжим. Вот ссыльные из какого-то улуса решили брак расторгнуть, а для охраны невинности невесты послать ее к Зубрилову. Эта особая форма доверия (причем молодая девушка вынуждена была жить в одной квартире с молодым человеком) внушила нам несколько игривостей; Зубрилов отнесся к ним очень строго. Он сказал нам, что у него на Дону есть невеста Надежда Ивановна и что он получил письмо, что она вскоре едет к нему.
Зубрилов был человек вообще не без странностей. Когда его арестовали, он вел себя довольно малодушно и дал странные показания. После этого он покушался на самоубийство, и товарищи, обсудив все дело, простили ему его малодушие и решили, что об этом не будет больше речи.
Вся квартира была полна именем Надежды Ивановны. Когда Кобылянский, вообще невоздержанный на язык и позволявший себе довольно грубые выражения, порою оглашал комнаты какой-нибудь сальностью, Зубрилов каждый раз краснел и смотрел на Кобылянского с таким красноречивым укором, точно Надежда Ивановна была уже здесь. В этом было много трогательного. Было известно, кроме того, что Зубрилов после своей попытки к самоубийству пристрастился к морфию. К своей задаче охраны девственности якутской девушки он относился чрезвычайно строго. На его просьбы, обращенные к нам, мы с Ромасем ответили, что в этом отношении понимаем его положение.
— Представьте себе, — говорил он, — приедет Надежда Ивановна и услышит какую-нибудь сплетню…
Насмешливый Ромась уверял его, что мы не можем поручиться только за Кобылянского и что лучше всего надо на ночь привязывать Кобылянского за ногу к столу (надо заметить, что относительно Кобылянского это была тоже напраслина). И вот, однажды ночью, в нашей квартире послышался гром. Кобылянский поднялся с самыми невинными намерениями, не подозревая, что он привязан за ногу, вслед за чем на столе загремела посуда. Зубрилов выскочил из своей комнаты с настоящим ужасом в лице. Узнав, в чем дело, Кобылянский очень рассердился.
Мне приходится отметить еще одно маленькое приключение, которое, впрочем, для нас в то время не казалось маленьким.
Однажды ранним утром мы все проснулись от сильного холода. Кобылянский сидел на своей постели, на полу, и, глядя перед собой бессмысленным взглядом, повторял одну фразу:
— Что такое, что такое…
Все двери были раскрыты, в том числе и наружная, выходившая на лестницу, прилаженную довольно нелепо к наружной двери, которая вела в наш мезонин. Все наши вещи, в том числе и микроскоп Зубрилова, оказались снесенными к порогу этой наружной двери. Под головой Кобылянского — нам это было известно — находились кожаные брюки, в кармане которых было семьдесят пять рублей, которые он скопил тяжелым слесарным трудом. Брюк теперь не оказалось. Кобылянский в ужасе вскочил и бросился на лестницу. Через несколько секунд оттуда послышался его веселый голос: «Брюки тут». Ромась усмехнулся иронически. «Да в брюках-то все ли?» — сказал он. И вслед за тем на пороге появился Кобылянский. Он держал в руках распластанные брюки и говорил самым жалким образом:
— Бедный я, бедный, несчастный человек! Теперь у меня нет на дорогу. И зачем я только приехал в эту квартиру? Жил бы у якута, деньги были бы целы.
Мы с Ромасем уверили его, что считаем это несчастье общим и дорожные средства тоже считаем общими. Вдобавок оказалось, что в ту же ночь ограбили того самого якута, у которого он жил до переезда к Зубрилову. Когда мы в этот день вышли на улицу и проходили мимо Лены, с барок, которые всякий год остаются после якутской ярмарки, неслись веселые песни бродяг, которые до зимы ютятся в этих барках.
— Мои деньги прокучивают, подлецы, — печально говорил Кобылянский.
Я находил, что в полицейское управление обращаться нечего, но Кобылянский все-таки обратился. Результатом этого было появление к нам одного полицейского чина, Бобохова, который стал нас убеждать, чтобы мы заявили подозрение на домохозяйку. Но эту хитрость мы поняли и решительно отказались. Мы поняли, что полиции нужно затеять дело, которое если кому-нибудь будет выгодно, то только самой полиции. А с полицией, кстати, у меня начинались нелады.
Я уже говорил ранее о феноменальной лености исправника Пиневича. Товарищи просили меня в разговоре с губернатором предъявить жалобу. Я это и сделал. При этом присутствовал и сам исправник, причем он был чрезвычайно неприятно поражен таким оборотом.
Я человек вообще мягкий, мы с ним разговаривали, вообще говоря, любезно, но я считал своим долгом сказать губернатору о всех неудовольствиях, которые имели мои товарищи против полицейского управления. Благообразное лицо Пиневича сразу стало как будто злобным. Все это при таких свойствах губернатора, о которых я уже говорил выше, ни мне, ни моим товарищам не принесло никакой пользы. Наоборот, мне, Ромасю и Кобылянскому это очень повредило. Мы уже имели бумагу, в которой значилось, что мы должны следовать не как арестованные, но этапным порядком.
Этапный порядок на Лене не похож на все другие места. По Лене даже простые бродяги, пересылаемые на место жительства, обыкновенно следуют на лошадях. Да это и понятно: жители должны сопровождать такого бродягу тоже пешком. Между тем на ленских станках недостатка в лошадях нет, и поэтому жители сами предпочитают поскорее доставить бродягу со станка на станок, лишь бы избавиться от неприятных жильцов, которых надо кормить. Зато по временам закутившие приказчики из Иркутска выхлопатывают себе в полицейском управлении бумаги, согласно которым они тоже препровождаются этапным порядком. Жители хорошо знают эту манеру полицейского управления, не считающего нужным отказывать в ничтожной услуге «хорошему человеку». Хитрый хохол снабдил нас именно такой бумагой, отняв у нас прежнюю.
И это сопровождалось для нас значительным неудобством в дальнейшем. Население станков принимало нас за таких прокутившихся приказчиков, злоупотребляющих знакомством с полицией.
В один прекрасный день к квартире Зубрилова подкатила лихая тройка с колокольчиком [* Выезд Короленко с товарищами из Якутска состоялся 23 сентября 1884 года. С этого времени Владимир Галактионович стал вести в записной книжке дорожный дневник, законченный им 18 ноября того же года (день выезда из Иркутска).]. Первую станцию мы ехали со звоном и шумом и думали (нас так уверили в полицейском управлении), что так же мы поедем и дальше. Но на следующей станции нам запрягли уже не тройку с колокольчиком, а пару волов. Мы было думали вернуться в Якутск и потребовать другой бумаги. Мы поняли план мести исправника. В бумаге было сказано только глухо, что такие-то отправляются этапным порядком и должны быть сданы в Олекминское полицейское управление. Но нам сказали на этом станке, что на других станциях волы едва ли найдутся и нас повезут на лошадях, и мы решили отправиться с этой станции на волах. День вдобавок был светлый, хотя и свежий. Мы очень весело, смеясь над местью Пиневича, отправились пешком, сопровождая телегу с нашими вещами. Я написал очень язвительное письмо исправнику и губернатору, в котором выразил сожаление, что легкое и нехитрое дело, как отправка трех человек установившимся уже порядком, доставляет его превосходительству столько хлопот. Исправник, конечно, бумагу эту губернатору не передал и приобщил ее к делам полицейского управления, откуда она была уже после революции извлечена и напечатана в одном из сибирских журналов [* Письмо Короленко якутскому губернатору Г. Ф. Черняеву от 21 сентября 1884 года было напечатано в журнале «Сибирские вопросы», 1912, № 24.].
А мы двинулись дальше, не подозревая, сколько нам предстоит затруднений. На следующей станции старик станочный староста выразил нам прямо подозрение, что мы прокутившиеся приказчики. Мы вдобавок сделали ошибку: согласились платить за одну лошадь. После этого на каждой станции каждый раз выходили большие споры. Ямщики требовали с нас полную плату; дело дошло до того, что однажды они совсем отказались везти нас, и нам пришлось бы сидеть голодными на голодном станке. Так мы просидели сутки. Я описывал эти впечатления в своем рассказе «Государевы ямщики». Нас выручила внезапно пришедшая почта. Я принялся писать письмо к губернатору, и, должно быть, физиономия у меня была довольно выразительная, так что ямщики согласились везти и дальше. Почти вплоть до Олекмы мы проехали уже беспрепятственно.
Наше положение при этих спорах было тем неприятнее, что мы чувствовали себя в чрезвычайно ложном положении. Я не встречал людей в таком тяжелом положении, как эти ленские станочники. Раз, кажется, в три года из Иркутска отправляется особая комиссия с целью установить цену на почтовую гоньбу. При этом, конечно, чиновничье усердие выражается в возможно дешевых ценах. Каждый раз, когда чиновники имеют дело с сравнительно хорошо обставленными жителями, имеющими, например, свою землю или покосы и имеющими возможность существовать без гоньбы, последние оказываются в сравнительно благоприятных условиях. Там же, где ни земли, ни покосов нету, местное население попадает на милость или немилость почтовых чиновников и вынуждено принимать всякие условия. Бедность на некоторых станках доходит до потрясающих размеров, и торговаться на этих станках было для нас истинным мучением [* В рассказе «Государевы ямщики», написанном много лет спустя по возвращении из ссылки, Короленко говорит: «И теперь еще я не могу вспомнить без некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров, с людьми, порой так глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд… Да, это была настоящая пытка…»]. Я начал собирать данные, намереваясь огласить их в печати. На каждой станции я записывал ее население, имущество и государево жалованье. У меня накопилось, таким образом, много данных.
Однажды, когда мы ехали с одного из станков, снизу по Лене надвигалась большая туча. Мы ехали верхами, вещи наши прикреплялись к седлам в виде вьюков, и нам постоянно приходилось смотреть, чтобы из этих вьюков что-нибудь не упало на каменистый берег. Особенные затруднения доставлял нам Кобылянский. Он был чрезвычайно здоров и мог спать, сидя в седле. Его лошадь постоянно отставала, а ямщик покрикивал пронзительным голосом:
— Не отставай, не отставай!
И я до сих пор слышу его высокий голос: «Не отставай, не отставай!»
Мы не заметили из-за вьюги, что Кобылянский у нас потерялся. Мне пришлось вернуться, и я увидел Кобылянского спокойно спавшим в седле. Лошадь его стояла у берега и щипала зеленые еще листья, и его засыпало снегом. Я разбудил его, и мы поехали дальше. Крик «не отставай, не отставай» едва доносился спереди из-за шума вьюги. Моя книжка со статистическими данными лежала у меня в кармане. Когда мы заторопились, я не заметил, что карман прорвался и мои записки упали в снег. Приехав на станцию, я спохватился, но о поисках не могло быть и речи: снаружи была настоящая пурга, а на следующий день все уже было бело от глубоко выпавшего снега. Так мои записи и пропали — наверно, следующей весной мою книжку унесло на какой-нибудь льдине в Ледовитый океан.
Уже за Крестовской станцией нас застигли морозы. Мы предпочитали ночевать на открытом воздухе, чтобы избегнуть духоты юрт. Но на этой станции мы едва могли выдержать мороз. Лена уже замерзала. Помню, как у меня на подушке обмерзал иней, и я рисковал отморозить себе нос или ухо. Товарищи предпочитали ночевать в юрте.
XXVII.
Олекма. — Ночное посещение скопца
Наконец мы прибыли в Олекму [* Прибытие в Олекму (так Короленко называет Олекминск) отмечено в дневнике 4 октября 1884 года, отъезд из Олекмы — 16 октября.]. Здесь нам предстояло избавиться от бумаги, выданной в якутском полицейском управлении, и получить другую уже до Киренска. Избавляясь от бумаги, мы избавлялись, таким образом, от постоянных столкновений с ямщиками на станках, которые, конечно, были нам очень неприятны.
Исправник был человек очень добродушный. Кроме того, здесь жил политический ссыльный, доктор Белый [* Белый Яков Моисеевич (1847–1922). — В 1879 году арестован «за крайнюю политическую неблагонадежность» и выслан в административном порядке на пять лет в Якутскую область. В 1885 году возвратился в Центральную Россию.], родом из Черниговской губернии, человек очень популярный. Ранее, до Олекмы, он жил, помнится, в Верхоянске, и о нем рассказывали легенды. Однажды они заспорили с исправником за картами.
— Можно ли так поступать с начальством? — шутливо сказал исправник. — Я вот вас велю арестовать!
— Знаете что, — ответил ссыльный, — давайте выстроим унтовое войско и выйдем вдвоем. Вы прикажете арестовать меня, а я вас… Кого ваше войско послушает?
Исправник почесался.
— Пожалуй, — шутливо сказал он, — послушают вас. Это мне невыгодно.
Приблизительно такие же отношения были у благодушного доктора и с олекминским исправником, и потому после Олекмы мы поехали с новой бумагой.
Я приобрел здесь интересное знакомство со скопцами. Я уже был знаком с ними в Амге. Здесь в Амге был представитель одного очень громкого процесса семидесятых годов. Это был сухой высокий старик, из известной московской купеческой фамилии. По-видимому, он был истинный скопец, занимался живописью, писал иконы, причем местный протоиерей обращал внимание, что Христос у него был похож на скопца.
Была в Амге еще целая колония скопцов. Внимание на себя обращал некто М-лов. Он жил с двумя женщинами. Одна была скопчиха и исполняла по дому хозяйственные функции. Другая не была оскоплена и имела притязание на некоторую кокетливость. Порой по слободе проносился слух, что М-лов «закрутил». Тогда на нем и на его любовнице, как говорится, лица не было. Только скопчиха вела себя, как обыкновенно: справлялась по хозяйству и ничем не обращала на себя внимание. Это продолжалось несколько дней. Потом М-лов прекращал крутить, и все приходило в норму.
Компания эта хотя жила и отдельно, но порой устраивала вечеринки, и к ним ходили. Был среди них некто П. Анисимов. Это был человек озлобленный, и было известно, что он писал доносы, особенно на священников.
— Человек ехидный, — говорили про него.
В Олекме мы попали в квартиру, занимаемую тоже скопчихой, но это была скопчиха особенная.
Никогда я не видел существа более чистого и непорочного.
Историю своего оскопления она рассказывала следующим образом. По Лене ссыльные отправляются партиями. Она тогда была почти ребенком. Как только они тронулись по реке, она заметила, что к ней ее партия относится как-то особенно: ее гоняли с места на место, называли поганой. Наконец стали грозить бросить ее на берегу Лены. Они решили сделать вид, что бросают ее на пустынном берегу. Голые скалы, неприветные утесы и полное одиночество. Они соглашались взять ее с собой на одном условии, что она дозволит себя оскопить. Ей ничего не оставалось, как согласиться. И вот она поступила в руки «исправителей». Ее бросили на дно барки и здесь над нею произвели операцию, которую назвали добровольной. Как она перенесла ее — она и сама не знает. По холоду, между мрачных скал, в руках жестоких людей, без настоящего ухода… И тем не менее во всех отзывах ее сквозила какая-то мягкость, хотя по временам прорывалось невольное раздражение за испорченную жизнь. Более кроткого человека, чем эта скопчиха, я встречал только раз в жизни, и это был тоже скопец (это было в Румынии) [* Короленко писал об этом в своей заметке «Русские скопцы в Румынии» («Русские ведомости», 1903, № 264, подпись — W).].
Очевидно, если уж человек решится простить такое искажение природы, как оскопление, то нет ничего, чего бы он не простил. Скопцы довольно жестоки. В Румынии я знаю случай, когда скопец-отец заменил обманом родного сына на тайное собрание и там оскопил его, несмотря на его протесты. У сына была невеста, которую он сильно любил… Скопцам удалось затушить это дело, хотя стоило оно недешево. Вообще это самая изуверная секта, какую я знаю, и надо сказать, что она внушает отвращение даже своим. Редкий скопец не сожалеет горько о том, когда он решился на этот шаг. Много молодых скопцов признавались мне, что они раскаиваются и рады вернуть ту минуту, когда они решились, и ни за что бы не повторили эту ошибку.
В Олекме один скопец пригласил меня к себе… Меня предупреждали (положим, шутя), чтобы я не ходил и что бывали случаи насильственного оскопления. Но я этому не поверил. К тому же наша хозяйка сказала:
— Ступайте, ступайте, Владимир Галактионович, такой-то (она назвала хозяина) человек хороший и этого себе никогда не позволит. К тому же вы идете при всех.
Я пошел.
Был поздний прекрасный зимний вечер, когда я приблизился к дому скопца. Я постучал. Внутри двора гулко раздался мой стук. Залаяли собаки. Внутри началось какое-то движение и шум… Я пожалел, что не условился точнее. Мне пришлось ждать довольно долго. Наконец раздались последовательно звуки, приближавшиеся к двери…
— Кто тут? — спросил женский голос.
— Политический… по приглашению хозяина. Послышался женский шепот.
— Пожалуйте. — Вслед за тем раздался звук отодвигаемого засова.
Я вошел. Во второй комнате меня встретил хозяин, веселый старик, несмотря на скопчество, с живыми движениями.
— А, знаем… Самоварчик нам живее. А я уж думал, вы не придете. Нас боятся, в особенности в вечернее время.
В квартире было тихо. Через некоторое время женщина внесла самовар. Войдя, она истово поклонилась. В это время хозяин занимал меня разговором. Он показывал мне гравюру с этикеткой Дациаро [* Дациаро — фамилия владельца крупнейшего в свое время магазина картин в Петербурге.]. Она была довольно любопытной. Какой-то царь, по-видимому Александр Благословенный, лежал на ложе, собираясь, по-видимому, приподняться. День был светлый, какой-то полк стоял, готовый его встретить. Солдаты были выстроены вдоль стены со стеклянной решеткой. Верховные начальники — к сожалению, я не мог назвать ни одного имени — бежали к царю с полной готовностью его встретить.
Это была, очевидно, одна из легенд, которыми так щедро окружили смерть Александра I и впоследствии нашедших отражение в известном сказании о старце, окончившем жизнь в Сибири, но с некоторыми изменениями. Толстой, впрочем, одно время придавал этой легенде известное значение [* Как известно, легенда эта легла в основу незаконченной повести Л. Н. Толстого: «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». За напечатание этого произведения в «Русском богатстве» (1912 г., кн. 2) Короленко, как редактор, был предан суду по обвинению в «дерзостном неуважении к верховной власти». Дело это разбиралось 27 ноября 1912 года в петербургской судебной палате и закончилось оправдательным приговором. Речь, произнесенная Короленко на суде, приведена им в статье «Процесс редактора „Русского богатства“».].
— Воскресение Александра Благословенного, — пояснил хозяин.
Я не счел нужным уверять, что Александр I никогда не воскресал. Разговор у нас шел вполголоса: хозяин, по-видимому, считал нужным вести его таким образом из какой-то предосторожности. Я подчинялся общему тону. К сожалению, я не счел нужным записать тотчас по приходе домой подробности этого разговора, на свою память я понадеялся напрасно, и многое исчезло. А многое было любопытно. Начать с того, что у скопцов вся новейшая история совершенно фантастическая. Начиная с Пугачева (которого они не считают самозванцем) и продолжая Александром Благословенным, они считают нужным понижать голос, когда говорят об этих царях, и вообще говорят особым тоном, и притом так, как будто допускают, что и вы тоже вместе с ними верите в эту фантасмагорию. Отчасти, положим, это объясняется особым тоном, которым интеллигентные люди часто говорят с низшими по развитию, тоном снисходительным, не считая нужным спорить.
Каковы были бы настоящие отношения между скопцами и «политическими», если бы не преследования за убеждения, сказать трудно. Для многих недоразумений места бы не было. Тогда же всякий скопец вперед предполагал, что мы союзники. И, несмотря на то что всякий из нас в глубине души питал отвращение к этому явлению, правительство делало нас союзниками.
Надо сказать, что это явление было исключительное, и ни один из нас не мог относиться к нему равнодушно. Вспомнить хотя бы оскопление нашей хозяйки. В самой Олекме был также трагический пример оскопления. Юноша полюбил молодую девушку, и она полюбила его. Любовь была искренняя и горячая, а между тем юноша был подвергнут оскоплению. Их историю рассказывала мне наша кроткая скопчиха. При этой трагедии присутствовал священник — человек, очевидно, с душой, доступной истинно трагическому. Священник нашел исход из неразрешимого положения. Он благословил союз не как брак, разумеется, но как союз, из которого они сделают, что смогут. Такова была жестокость скопцов. Нельзя простить тех, кто при таких условиях оскопляет.
Должен прибавить, что мой хозяин находил возможным отпускать двусмысленные шуточки. Они были довольно невинные, но все-таки производили отвратительное впечатление.
Наконец этот вечер кончился, и я вышел из гостеприимного дома скопца. Признаться, я вздохнул свободно, когда наконец очутился на улице. Я невольно оглянулся. Вдоль улицы веял ветер, развевая свежими дуновениями затхлые впечатления, которые я уносил от моего хозяина, с его рассказами, сдобренными скопческими двусмысленностями. Пока я шел вдоль слободской улицы, передо мной носились впечатления то от наивных легенд, то от хозяина, то от искаженных женских образов…
XXVIII.
Киренск
В первых числах ноября мы прибыли в Киренск [* Дата прибытия в Киренск в дневнике не указана; выезд из Киренска отмечен под 4 ноября 1884 года.].
У меня тут были знакомые, которые пригласили меня заехать к ним. Это были Джабадари с женой и Цицианов. Я принял это приглашение и впоследствии раскаялся, так как вначале был решительно изолирован от всей остальной ссыльной компании. Джабадари и Ольга Любатович [* Любатович, по мужу Джабадари, Ольга Спиридоновна (1854-1917). — В 1879 году примкнула к «Народной воле» и была членом Исполнительного комитета. В 1881 году арестована в Москве и в 1883 году выслана в Киренск, Иркутской губернии, где вышла замуж за ссыльнопоселенца И. С. Джабадари.] на мои вопросы о ссыльных ответили, что народ это не заслуживающий внимания и что я напрасно намерен познакомиться с ними. Я, наоборот, слышал, что среди местных ссыльных есть много людей интересных и симпатичных. В иркутском тюремном замке, где я познакомился с Джабадари, он показался мне, что называется, рубахой-парнем, задушевным и хорошим товарищем. Таковы же были отзывы о нем и других товарищей. Ольга Любатович принадлежала к другому типу — она была резка и требовательна, и всюду у нее выходили с товарищами столкновения. Ольга Любатович оказалась сильнее мужа, и этим объяснялась его перемена. Отношения их с остальными ссыльными особенно обострились из-за затеянного Джабадари побега, так как они потребовали от остальных ссыльных, чтобы за ними были признаны некоторые преимущества, без всяких к тому оснований. Из-за этого вышла ссора, и из-за этого я оказался в изолированном положении в киренской ссылке.
Я скоро от этого положения избавился, заявив решительно, что я не намерен быть удаленным от остальных товарищей, и стал посещать их. Ромась и Кобылянский уже раньше получили приглашение и поселились отдельно от меня. Я стал ходить всюду и не пожалел об, этом.
Я приобрел знакомство с Лянды [* Лянды (Ландо) Станислав Адамович (1855–1915). — В 1878 году привлечен по делу о пропаганде в Варшаве («дело 137-ми»). В 1879 году за участие в тюремных беспорядках и вооруженное сопротивление караулу приговорен к двенадцати годам каторжных работ, замененных ссылкой в отдаленные места Сибири. Позднее был членом редакции газеты «Восточное обозрение» и журнала «Сибирский сборник». После 1905 года жил в Москве, работал в журнале «Новь».] и его женой [* Лянды, урожденная Левандовская, Феликсия Николаевна (род. около 1853 г.). — Арестована в Одессе в 1878 году. Судилась вместе с Лизогубом, Виттенбергом и др. («дело 28-ми») и в 1879 году приговорена к пятнадцати годам каторги, замененной ссылкой в отдаленные места Сибири.], с сестрой его жены, Леонардой Левандовской [* Левандовская Леонарда Николаевна (род. около 1863 г.). — В 1885 году арестована в Киеве и в 1887 году выслана в административном порядке в Восточную Сибирь на три года.], и Н. В. Аронским [* Аронский (Ааронский) Николай Викторович (1860–1929). — В 1881 году был арестован в Киеве по делу народовольческого кружка и выслан административно в Восточную Сибирь на пять лет. Позднее жил в Нижнем-Новгороде и Полтаве, где встречался с Короленко.] и многими другими.
Читатель, вероятно, помнит главу о вышневолоцкой политической тюрьме. Там есть эпизод о рабочем Шиханове и его восторженных отзывах о рабочем Обручеве, сосланном именно в Киренск. Он проделал историю героя Достоевского — убил или намеревался убить богатую старуху для революционных целей. Когда об этом узнали товарищи, то отшатнулись от него, и он потонул в серой арестантской массе. Так кончился эпизод об «истинно практичном» рабочем Обручеве.
Среди остальной ссыльной братии выдающимся был Панкратьев [* Панкратьев Василий Абрамович (род. в 1855 г.). — В 1878 году арестован по обвинению в подготовке вместе с Н. С. Тютчевым убийства полицейского агента Беланова и выслан. В 1881 году бежал из Киренска. Арестован в Москве в 1882 году и выслан обратно в Киренск. В 1886 году возвратился в Центральную Россию.]. К сожалению, я познакомился с ним уже впоследствии. В это время он был в командировке от местного захудалого монастыря в Иркутск. Впоследствии он мне рассказывал юмористические эпизоды его монастырской службы; между прочим, его внимание обратил вкус подаваемой в этом монастыре ухи. Когда он спросил, каков секрет этого рецепта, то заведующий поварней ответил: «На мясной ухе варим».
Были здесь еще Свистунов [* Свистунов Григорий Васильевич (род. в 1856 г.). — Арестован в 1879 году за участие в народнической пропаганде и выслан в Восточную Сибирь.], Микитьян [* Микитьян (Никитин) Иван Гаврилович (род. около 1850 г.) — наборщик, работал в Одессе в типографии Е. О. Заславского и принадлежал к его кружку. В 1878 году арестован и выслан в Восточную Сибирь.], Геллис [* Геллис Пинкус Янкелевич (род. в 1858 г.). — Участвовал в одесском кружке молодежи, вел пропаганду среди одесских рабочих. В 1880 году приговорен к каторге на десять лет, замененной ему ссылкой на поселение. Был водворен в Киренске.] (брат каторжанина), Пылаев [* Пылаев Ефрем Федорович (род. в 1851 г.). — Находясь в одесской тюрьме, был распропагандирован политическими, исполнял их поручения и с их помощью в 1878 году бежал. В том же году был арестован и в 1879 году выслан в Восточную Сибирь.], распропагандированный в тюрьме и уже в качестве политического попавший в ссылку. Все это были люди полуинтеллигентные, единственное исключение составляла семья Лянды. Он был польский еврей, патриот в лучшем значении этого слова. Его жена, урожденная Левандовская, тоже вполне интеллигентная женщина и порядочная музыкантша. Познакомился я здесь со старой радикалкой Поповой [* Вероятно, это была Клавдия Гавриловна Попова (1849-1921), пользовавшаяся в Сибири известностью как друг политических ссыльных.].
Была здесь также группа так называемых нечаевцев [* Распропагандированных С. Г. Нечаевым караульных солдат Алексеевского равелина Петропавловской крепости.]. По-видимому, к нам в Якутскую область они попали позже. Аронский характеризовал их как мало развитых субъектов, которые не смешивались с остальными.
В 1882-1883 году ссыльное население Киренска стало возрастать. Наиболее выдающимися из них были М. П. Сажин (Росс), Е. Н. Фигнер [* Фигнер Евгения Николаевна (1858-1931). — Участвовала в демонстрации 6 декабря 1876 года на Казанской площади, вела народническую пропаганду среди крестьян. В 1879 году предана суду по «процессу 16-ти» и приговорена к каторге, замененной ссылкой на поселение. В 1881 году водворена в Киренске.] (впоследствии жена Сажина), польский писатель Шиманский (впоследствии переведенный в Якутск) и выдающийся деятель возрожденной Польши Пилсудский. Я посетил Сажина и возобновил знакомство, которое началось еще в Иркутске и которое впоследствии перешло в близкие товарищеские отношения.
Уже после моего проезда среди ссыльных появился Цицианов. Появление это было довольно неожиданно, так как он, так же как и Джабадари, не скупился на враждебные выходки против товарищей… Ссыльные, разумеется, не отказали ему в приюте на общем основании. При этом его не расспрашивали о причинах, заставивших его расстаться с Джабадари. Полагали, что Цицианов, как спутник предполагавшегося побега, стал стеснять Джабадари. А впрочем, причина могла быть и другая. Джабадари могли раньше заметить признаки начинающегося умственного расстройства у Цицианова и не захотели пускаться в опасное путешествие с сумасшедшим. Первое время он оставался угрюмым и необщительным, а затем стал обнаруживать ненормальную возбужденность. У него явилась какая-то теория путем скрещивания создать особую породу, среднюю между кошкой и собакой. Закончилось это тем, что Цицианов впал в буйное помешательство, попал в дом умалишенных и однажды оказался мертвым. Ссыльные потребовали расследования, но никаких наружных знаков насилия не было найдено.
Впоследствии Джабадари бежал. Это было значительно позже моего проезда. Он склонил было бежать с собой одного полицейского. Но тот впоследствии раскаялся и, когда Джабадари действительно бежал, отправился за ним в погоню, догнал его где-то далеко и доставил на место… Джабадари отделался очень легко. Ему удалось убедить следственную власть, что у него было в виду только повидаться с родными.
Вскоре мы распрощались с киренской ссылкой, распрощались с ссыльной братией и отправились дальше к Верхоленску. Помню светлый день, когда мы выехали из Киренска, и веселого ямщика, а также его своеобразные рассказы о киренской ссылке и начальстве.
XXIX.
Верхоленск
Следующая остановка была в Верхоленске [* Прибытие в Верхоленск отмечено в дорожном дневнике Короленко 11 ноября 1884 года, выезд из Верхоленска — 14 ноября.]. Это захудалый городишко, и в моих воспоминаниях остался только рассказ о побеге Сыцянко.
Сыцянко был сын харьковского профессора. Судился вместе с отцом. Отец был оправдан, сын попал в Верхоленск. Отсюда он затеял побег; для этого сошелся с кавказцем, и этот эпизод можно было назвать эпизодом о кавказской верности. Сыцянко был сам по себе очень располагающий юноша, и кавказец привязался к нему на жизнь и на смерть… Что касается Сыцянко, то он скоро увидел, что со спутником надо держать ухо востро.
Начать с того, что у Сыцянко не было паспорта, и это доставляло беглецам много забот.
Однажды на Лене появилась лодочка. В лодочке плыл человек, по-видимому возвращавшийся с приисков. Кавказец сразу сообразил, что это именно то, что нужно. Не успел Сыцянко оглянуться, как приискатель уже был на прицеле под метким выстрелом. Сыцянко успел помешать, чем кавказец был очень удивлен: нужен паспорт, он сам плывет под выстрел, а друг мешает.
В другой раз Сыцянко попал в станочную кутузку, он был не так ловок, попался легче, чем кавказец. Сыцянко сидит в станочной кутузке, вдруг он слышит — на станке тревога. Верный друг является, вооруженный с ног до головы, даже в зубах у него два кинжала. Один он дает Сыцянку, другой берет себе и предлагает Сыцянку напасть на караульного. Очевидно, караульный зазевался. Удар, другой кинжалом — и свобода! Но у Сыцянко была другая мораль, чем у его приятеля. Он не решился напасть и остался под караулом. Так как станочники уже сбежались в большом числе, то верному другу пришлось убегать одному, что он и сделал. Эту историю очень юмористически мне рассказывал в Верхоленске сам Сыцянко.
В Верхоленске была целая колония ссыльных. Из них я помню теперешнюю Кон [* Кон (урожденная Гринберг) Христина Григорьевна (1857-1942). — С 1880 года примкнула к «Народной воле». В 1882 году арестована и в 1883 году по «процессу 17-ти» приговорена к пятнадцати годам каторги, замененной ссылкой на поселение. В 1904 году возвратилась в Центральную Россию.] (теперь жена Феликса Кона [* Кон Феликс Яковлевич (1864-1941). — В 1884 году арестован по первому делу «Пролетариата» («процесс 29-ти»). Приговорен к смертной казни, замененной, по несовершеннолетию осужденного, каторгой. Отбыл восемь лет на Каре, после чего переведен на поселение в Якутскую область. В ссылке занимался антропологией, этнографией и сотрудничал в повременных изданиях. В 1904 году возвратился в Варшаву. Вступил в ППС, принял активное участие в оформлении левого ее крыла. С 1918 года член ВКП(б). Был секретарем ЦК КП(б)У, членом ВЦИК. Автор ряда воспоминаний и других работ по истории революционного движения. Автор статьи «Памяти В. Г. Короленко» (см. журнал «Пролетарская революция», 1922, № 5). На заседании IX съезда Советов в Большом театре в Москве 27 декабря 1921 года произнес речь памяти умершего 25 декабря В. Г. Короленко.]).
Пробыли мы в Верхоленске недолго и вскоре тронулись дальше.
Мне приходится еще отметить несколько эпизодов, без которых колорит путешествия был бы не полон.
В одном месте меня разбудил ямщик… «Медведь», — сказал он испуганным голосом. У одного из нас был револьвер. Товарищи спали, разбудить их требовалось время. Лошади рвались. Медведь сидел на обрезе горы, рисуясь на светлом небе силуэтом; очевидно, медведю стоило труда спуститься вниз. У него был явный расчет испугать лошадей: они понесут, при этом может случиться поломка, может кто-нибудь выпасть. Видя, что с револьвером дело долгое, ямщик подобрался и крикнул диким голосом на лошадей. Лошади того и ждали. Они сразу взяли с места. Береговая галька затрещала под санями, и мы пронеслись мимо. Берег был ровен, медведю жалко было расставаться с добычей, и он глухо зарычал.
— Счастливо отделались, — сказал ямщик, когда мы отъехали на порядочное расстояние. — Ишь, подлец, на что у него расчет!
Силуэт медведя долго еще рисовался на светлом небе по прямому плесу.
Несколько раз мы попадали в стаи волков. Тогда ямщики разгоняли лошадей и с гиканьем и свистом врезались в стаю, что, по-видимому, было менее опасно. Волки пробегали так близко, что можно было тронуть шерсть. Но мы не решались сделать опасный опыт.
XXX
Итак мы миновали Киренск и Верхоленск и приближались к Иркутску. Мы ночевали на Скокинской станции. Здесь шла гульба. «Помочишку» составили — лодки вырубать из торосу (большая глыба льда). Меня особенно поразила совершенно пьяная прелестная девочка лет десяти.
— Кто тебя привез? — спрашивают старшие.
— Сама пришла.
— Девять-то верст, хлопаешь зря.
— Кто тебя угощал?
— Матушка.
— А кто подносил?
— Да кто подносил, матушка и подносила.
Ее расспрашивают, находя, по-видимому, естественным явлением пьяную девочку. Мы вмешиваемся с осуждением подобных угощений водкой ребенка, находя, что это вредно. Кое-кто с нами соглашается, но большинство противоречит: мать должна угостить родную дочь как можно лучше, а лучше водки не найдешь.
— А мне-ка чего не пить? — говорит ребенок. — Даровое подносят.
Глаза девочки потускнели, подвелись синевой, круглое прелестное личико осунулось…
— Шапку потерял, — вваливается в избу пьяный зобач.
— А какова шапка-то?
— Шоболья (соболья).
— Ну шоболья, так уж пропили.
И разговор переходит с девочки на соболью шапку.
— Нарродец у нас! — говорит зобач, высовывая на подымающуюся метель седую голову.
*
Когда мы перевалили горы и перед нами открылся широкий горизонт, нами овладело бешеное веселье. Более всех смеялся Кобылянский, меньше Ромась, я занимал середину.
В одном месте ямщик указал нам крест, мелькавший среди деревьев. Я заинтересовался этим памятником и вышел с ямщиком, остановив смирных лошадей. Ямщик рассказал мне следующую историю. Был в этом месте удалой ямщик, который отбил несколько раз седоков от разбойников. Разбойники сделали засаду и убили его. Начальство и купцы, из которых многих он спас, сложились и сделали ему памятник. Ночь была светлая, над крестом склонялись деревья, и на нем мелькали лунные отсветы. Этот памятник и рассказ ямщика произвели на меня особенное впечатление, и я долго находился под его влиянием [* Приведенный рассказ ямщика был в известной степени использован Короленко при обработке в 1885 году для печати своего рассказа «Убивец».].
Наконец мы спустились и повернули к Ангаре. Это была последняя станция перед Иркутском. Здесь мы застали проводы Анучина, было много начальства… Передавали, что Анучина (бывшего генерал-губернатора) убирают вследствие высочайшего неудовольствия. Он утвердил смертный приговор Неустроеву [* Неустроев Константин Гаврилович (1859-1883). — В 1831 году был учителем в Иркутске. Поддерживал связи с политическими ссыльными, содействовал побегу Ковальской и Богомолец. Арестован в 1882 году по доносу уголовного арестанта, через которого вел конспиративную переписку с заключенными в тюрьме. Описанное в тексте столкновение с генерал-губернатором Анучиным произошло 26 октября 1883 года. За нанесенную им Анучину пощечину Неустроев был предан военному суду, приговорен к расстрелу и казнен 9 ноября 1883 года.], предпочел месть, несмотря на то что ему дано было право помилования Александром III с явной надеждой на то, что он не утвердит приговор. История была следующая: Неустроев был молодой человек, учитель, служил в Иркутске. Случилось ему быть арестованным пр каким-то пустякам. Он сидел в своей камере и играл в шахматы с товарищами в то время, когда тюрьму посетил генерал-губернатор. Подойдя к камере, он остановился у порога и поманил Неустроева пальцем. Неустроев сначала не понял, к кому относится этот жест; говорят, он в недоумении оглянулся. Но генерал-губернатор повторил жест. Неустроев подошел. «Как вам не стыдно смешиваться с шайкой негодяев?» (или нечто в этом роде). Едва раздались эти слова, в ответ им грянула пощечина. Таково было дело Неустроева. Он был казнен. В Иркутске вообще утверждение приговора произвело неблагоприятное впечатление даже на чиновников, что и сказалось в возникновении легенды, сопровождавшей отъезд Анучина. Это был акт не управления, а мести.
Наконец мы были в Иркутске [* В Иркутске Короленко пробыл с 16 по 18 ноября 1884 года. Со времени отъезда из Иркутска систематические путевые записи в путевом дневнике Короленко прекращаются.], и нам предстоял выезд оттуда. Здесь все еще было полно Анучиным, в том числе присутственные места и их порядки.
Наша компания, в которой мы приехали из Якутска, расстраивалась. У Ромася в Иркутске были друзья. Предстояло составить новую компанию. К этой компании примкнул очень интересный человек, львовский профессор Богданович, о котором львовское правительство вело с Иркутском переговоры, что выделяло его из числа остальных пересылаемых. Польский кружок в Иркутске принимал в нем большое участие, в том числе Рыхлинский, с которым мы дружески встретились и у которого я встретил старого якутского приятеля Анания Семеновича Орлова. Еще в Якутской области о Богдановиче ходили оригинальные рассказы, которые я передавал, хотя и вкратце, со слов его товарища Зубрилова. Рассказывали, например, что он купил лошадь, назначенную на общественный пир. Лошадь сначала покупают под песни, затем самые отвратительные старухи начинают насмехаться над нею, изображая участь, которая ее ожидает. Поняв эту песню, Богданович купил эту лошадь в собственность и взял ее себе в юрту, за что ему приходилось приплачивать особо. Кроме того, он водил ее гулять, находя, что для нее полезен моцион. Напрасно якуты старались внушить чудаку, что если уж так необходим лошади моцион, то он может кататься на ней час или два (Богданович был превосходный наездник), вместо того чтобы водить ее. Но он на это не соглашался, находя, что жестоко ездить на больной лошади. Якуты относились к этим чудачествам с тем полумистическим изумлением, с каким простой человек относится к человеку немного тронутому, но непонятному, то есть с глубочайшим уважением.
Раз только мне пришлось слышать о Богдановиче отзыв, проникнутый враждой. Это было на одной из станций между Якутском и Иркутском. В разговоре со смотрителем я заметил, что Богданович — личность глубоко оригинальная.
— Ну, не пожелаю и врагу такой оригинальности, — возразил он и в дальнейшие объяснения вступать не пожелал. Глубоко заинтересованный, я расспросил самого Богдановича, когда мы долгими ночами ехали с ним, сидя на облучке, рядом с ямщиком. Он усмехнулся.
— Это, должно быть, на N станции. Это, видите ли… особая история… Разговорились мы. Он и говорит: как это, профессор, вы позволили себе смешаться с такой дрянью? Наверное, в последний раз, более вас не заманишь… Я и говорю: знаете что, я человек не горячий. Иной горячий человек мог бы вас оскорбить по лицу.
Очевидно, несмотря на своеобразный язык, а может быть, именно благодаря ему, смотритель не мог простить Богдановичу этого «оскорбить по лицу». Помню его сухой тон будущего почтового бюрократа.
Компания наша составилась следующим образом: во-первых, профессор Богданович, я, Кобылянский, кавказец Ардасенов [* Ардасенов (Ардасьянов, он же Ададуров) Алексей Гаврилович (род. около 1855 г.). — В 1875–1876 годах был членом владикавказского, а затем московского кружка народнической пропаганды. Арестован в 1876 году в Москве и в 1879 году выслан в Иркутскую губернию, а затем в Якутскую область, где пробыл три года.], больной, кажется, Верцинский, требовавший особого ухода, и подкинутый нам какой-то канцелярией, наверное за взятку, в качестве сопровождающего Верцинского, какой-то еврей. Этот господин сразу присвоил себе привилегированное положение, он занял лучшее место, стеснив больного. Я протестовал, но это не привело ни к чему. Проехав несколько станций; я наконец потерял терпение. У меня была отличная подушка, которую я предоставил больному. Привилегированный седок стал захватывать ее, себе. Заметив это, я, во-первых, унес ее к себе, во-вторых, объявил, что я дворянин и на этом основании могу так же, как любой торговец, служить поручителем, что я беру на себя ручательство за доставку больного перед начальством, а он как хочет. Если ямщики повезут его дальше, это их дело, но мы решительно заявляем, что это нас не касается. К моему удивлению, это подействовало, и наш диктатор смирился. Положим, он занимал по-прежнему лучшее место, но мы не настаивали на полном освобождении. Так мы и ехали дальше: привилегированный седок с частью своих привилегий, мы также с частью своих завоеваний.
Ночи были лунные, осенние. Порой пробегали волчьи стаи. Помню великолепную лунную ночь. Собаки окружали кружком огромного волка. Он стоял и выл, созывая остальных… Мы проехали мимо, не дожидаясь, чем кончится это великолепное зрелище.
Раз у нас с облучка свалился Кобылянский, и мы не сразу это заметили. Если бы пробежала в это время стая волков, неизвестно, что стало бы с нашим Кобылянским...
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящий том входят третья и четвертая книги «Истории моего современника». Третью книгу Короленко писал в течение двух лет — с октября 1918 по осень 1920 года, живя в Полтаве. В эти годы гражданской войны, на Украине одна за другой сменялись временные власти — Центральная Рада, гетманщина, немцы, петлюровцы, деникинцы. Смены властей сопровождались насилиями над населением, погромами, грабежами, бессудными казнями. Жители Полтавы и окрестных деревень непрерывно обращались к Короленко за защитой и помощью. В апреле 1920 года Короленко писал С. Д. Протопопову: «У меня сильная усталость сердца. Если прибавить, что Полтава около десяти раз переходила из рук в руки, что каждый раз приходится хлопотать о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то легко понять, что сердцу успокоиться не на чем и усталость все прогрессирует». В декабре 1920 года Короленко пишет В. Н. Григорьеву: «Не знаю, удастся ли мне довести „Историю“ до наших дней. Это очень много, но буду стараться, пока хватит силы».
С конца 1920 года Короленко приступил к работе над четвертой книгой и писал ее до середины декабря 1921 года.
Работая над третьей и четвертой книгами «Истории моего современника», Короленко перечитывал свои письма к родным из тюрем и ссылок, обращался к своим старым записным книжкам и наброскам, следил за статьями в «Былом». Но главным источником служила писателю все же его память, сохранившая огромное количество фактов, имен, дат, географических названий, связанных с описываемым им временем и событиями. «Записей я тогда никаких не делал, и мне все приходится восстанавливать по памяти. Память у меня старческая: ярко сохранилось прошлое», — писал он И. П. Белоконскому 29 марта 1920 года. «Так живо встают старые друзья и подернутые туманом прошлого эпизоды», — пишет Короленко Н. С. Тютчеву.
С начала 1921 года здоровье Короленко резко ухудшилось, но и в эти последние месяцы жизни он вел обширную переписку с И. П. Белоконским. Н. С. Тютчевым, О. В. Аптекманом, М. П. Сажиным, А. А. Дробыш-Дробышевским и другими товарищами по ссылке, с родными умерших товарищей и другими лицами, неустанно проверяя и уточняя свои воспоминания.
В марте 1921 года слухи о тяжелой болезни Короленко дошли до Москвы. В. И. Ленин написал наркомздраву Семашко письмо, в котором просил его принять меры, чтобы отправить Короленко для лечения в Германию. Но Короленко не захотел уехать за границу. Он продолжал работать. Последние страницы «Истории моего современника» написаны им 16 декабря — за девять дней до смерти.
Третья книга «Истории моего современника» впервые была напечатана в 1921 году в издании «Задруга». Первые семнадцать глав четвертой книги были отосланы писателем в журнал «Голос минувшего». Появились они уже после его смерти в книжке этого журнала «1920–1921» (без обозначения номера и месяца). Остальные главы были напечатаны в «Голосе минувшего» в 1922 году, в книге № 1 (июнь). В том же году вся четвертая книга полностью вышла в издании «Задруга».
В настоящем издании третья и четвертая книги «Истории моего современника» печатаются по тексту издания «Задруга», причем в третью книгу внесены корректурные исправления автора, а в четвертую — исправления по рукописям его.
***
...К сожалению, мне приходится закончить этот очерк печальной нотой, которая, быть может, имела роковое значение для обоих Шиманских, для него в особенности. Вскоре после революции в Якутске была найдена переписка с министром внутренних дел, в которой Шиманский предлагал ему свои услуги по части доноса. Министр отказал предлагавшему, но все-таки предложение было сделано, и если она знала об этом, то неизвестно, как это могло отразиться на ней, бывшей горячей бакунистке.
263) Шиманский, Адам Иванович; адм.-сс. (1879-1883), двор., кандидат прав, поляк, холост, 27 л. Обвиненный в организации в пределах царства Польского тайного революционного общества, был выслан под надзор полиции в г. Якутск. Через год после приезда в область женился на адм.-ссыльной Н. Н. Смецкой. Не имея возможности найти для себя в городе какую-либо работу, просил разрешения поселиться на одной из пригородных заимок, чтобы заняться земледелием, но это ему разрешено не было. Только лето 1882 г., вследствие необходимости для поправления здоровья жены чистого лесного воздуха, удалось ему провести вне города. Болезнь жены, требовавшая перемены климата, освободила их в 1885 г. от якутской ссылки, заманенной жительством в Киренск. у. Иркут, губ. Впоследствии Ш-ий стал одним из крупных польских писателей.
Короленко, видевший Ш-го в Якутске, пишет в IV т. «Истории моего современника» (Харьков 1923 г.), что якобы в Якутске, вскоре после революции 1917 г., нашли переписку с М.В.Д., в которой Ш-ий предлагал свои услуги по части доноса, но министр от его услуг отказался. До сих пор в делах ист.-рев. отдела подобной переписки не найдено [В. Короленко — «История моего современника», т. IV. Д. 90].
/М. А. Кротов. Якутская ссылка 70-80 годов. Исторический очерк по неизданным архивным материалам. [Историко-революционная библиотека журнала «Каторга и Ссылка». Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории революционного прошлого России. Кн. I.] Москва. 1925. С. 236./
Раздел IV
АДАМ ШИМАНСКИЙ
(1852-1916)
...В этом месте нужно попытаться осветить одну очень горькую, а у нас малоизвестную, деталь, связанную с личностью А. Шиманского. Сразу после смерти имя Шиманского было оскорблено утверждением, что он якобы проявлял склонность к доносам [* Желая осветить вопрос о так называемой измене Шиманского, встретился е трудностями, т.к., не смог найти первого издания В. Г. Короленко «История моего современника». Располагал только изданием 1955-1956 годов. Здесь на с. 410, т. 7, читаем, что было цитировано согласно первому изданию, а в книгу IV, т.е. в «Якутскую область» введены поправки согласно рукописи.]. История этого подозрения следующая: В. Г. Короленко в своих воспоминаниях, переписанных много лет спустя, упомянул о визите к Шиманским; писал он о них с большой симпатией и сочувствием. Однако в первом издании (1923) книги Короленко, которая вышла через два года после его смерти и текст которой не был авторизован, оказалась заметка о том, что якобы сразу после революции в Якутске нашли корреспонденцию Шиманского, свидетельствующую о его тяге к доносам. Последующее издание воспоминаний Короленко, основанное на его рукописи, подверглось изменениям, в т. ч. была изъята заметка о предполагаемой инициативе Шиманского в доносах. Известный историк ссылки в Якутии М. Л. Кротов в своей книге, написанной на основе архивных данных: «Якутская ссылка 70 - 80-х годов» (Москва, 1925), на с. 236 в биографической заметке, посвященной А. Шиманскому, в отношении воспоминаний В. Г. Короленко заявил категорично, что «до сих пор такой корреспонденции не найдено». Но анонимный автор отрывка о Шиманском в издании «Деятели... [Деятели революционного движения в россии. Био-библиографический словарь. Т. 2. Вып. IV. Москва. 1932. Стлб. 2023-2024. – А. Б.]» (1929) поддерживает предположение о доносительстве Шиманского, добавляя, что эту версию не приняли. Исследователи опираются также на публикацию некоего В. Пжыбовского в газете «Якутский край» (1907. № 14 - открытое письмо в редакцию). Однако оказалось, что ни в этом номере, ни в дальнейших ничего подобного не напечатано. Зато на четвертой странице шестого номера этого же журнала за 1908 г. есть статья под загл. “Письмо в редакцию”, автор которой (С. В. Пжыбовский) сообщает, что не примет участия в редактировании газеты. О Шиманском там нет ни слова, поэтому вышеупомянутый анонимный автор сослался на несуществующий источник.
Книга Короленко пользовалась спросом очень широкого круга читателей, но, несмотря на это, «сообщение» о Шиманском дошло до Польши достаточно поздно. В 1935 г. Владимир Фишер напечатал в «Иллюстрированном еженедельнике» короткую и достаточно сумбурную статейку «Изгнанники в Сибири» [* Фишер В Изгнанники в Сибири // Иллюстрированный еженедельник. - 1935. - Р. 76. - С. 434.]. Ее основой стали некоторые части книги Короленко; затем, соответствующим образом отредактированная, она появилась во втором номере «Еженедельника», посвященном памяти Юзефа Пилсудского. Вступление и заключение статьи было основано на противопоставлении ему «такого изменника», как Шиманский. Вскоре «творение» Фишера без всяких комментариев было перепечатано в рубрике «Обзор работ» журнала «Сибиряк» (№ 2. 1935. С. 75-76).
Насколько мне известно, никто в то время Шиманского защищать не стал. Сегодня, зная, что источники, позволившие обвинить Шиманского в доносительстве, были основаны только на неподтвержденных слухах, следует очистить его имя от этого подозрения...
/Витольд Армон. Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 70-72./
А. В. Храбровицкий
В. Г. КОРОЛЕНКО И ЯКУТИЯ
1. Из неопубликованного амгинского дневника Короленко
В архиве В. Г. Короленко, хранящемся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве, есть тетрадь с надписью на первом листе: «В. Короленко. Отрывки, наблюдения, заметки. 1884. Амгинская слобода». В этой тетради находятся записи якутских преданий, якутской песни, «Программа для очерков Якутской области», наброски рассказа «В дурном обществе» и дневниковые записи 1883 и 1884 годов.
Записи 1883 года были опубликованы в книге: Владимир Короленко. Дневник. Том I. Государственное издательство Украины. Полтава, 1925, стр. 273-295.
Дневниковая запись 1884 года в это издание не вошла; публикуется нами впервые. Содержание записи перекликается с главой «Выходка беспокойного прокурора» в четвертом томе «Истории моего современника» (В. Г. Короленко. История моего современника. Подготовка текста и примечания А. В. Храбровицкого. М., «Художественная литература», 1965, стр. 806-809).
В этой главе и в примечаниях к ней (стр. 1012-1013) рассказана история, которая, как пишет Короленко, «гремела по Якутску». В декабре 1883 года прокурор Якутской области Д. И. Меликов получил доносы на политических ссыльных, в частности, на М. А. Натансона, известного народника (обозначенного в дневнике Короленко буквами М. Н. и Н.), «будто он у себя в лесу хранит склад динамита с целью взорвать губернаторский дом и присутственные места». Одним из доносчиков был некий Гольдберг, обозначенный в дневнике Короленко словами «еврейский сын».
«Донос был сляпан так, что никто из обычных администраторов ему не поверил. Прежде всего задавались вопросом, какая польза местным политическим взрывать присутственные места в отдаленном Якутске. Нашелся, однако, человек, который поверил всей этой фантасмагории. И этот человек был... беспокойный прокурор, с которым я познакомился в Якутске» (стр. 807).
Публикуемый амгинский дневник В. Г. Короленко описывает бесславную экспедицию «беспокойного прокурора»...
2. Рисунки Короленко к «Сну Макара»
21 апреля 1903 года Короленко писал Н. Е. Парамонову, владельцу прогрессивного издательства «Донская речь» в Ростове-на-Дону: «Присутствие картинок в народных изданиях я считаю существенным. Во-первых, этого требует покупатель из народа, а во-вторых, — сносная иллюстрация много прибавляет к рассказу» (В. Г. Короленко. Собрание сочинений в десяти томах. Том 10. М., 1956, стр, 359).
В 1905 году «Донская речь» выпустила отдельным изданием рассказ Короленко «Сон Макара». Кроме рисованной обложки, книжка содержит два рисунка — спящий Макар в тайге и Макар на суде у Тойона. На рисунках читается подпись художника — «Н. Вешеневский».
В феврале 1977 года писатель И. Л. Андроников передал в дар Государственному литературному музею в Москве лист ватманской бумаги с надписями «Рисовал В. Г. Короленко», «Принадлежит Н. П. Вешеневскому».
Рисунки Короленко изображают камелек в юрте, предметы якутской одежды и обуви. Сопоставление их с иллюстрациями Вешеневского к «Сну Макара» показывает, что художник руководился указаниями писателя.
Надпись Вешеневского сообщает, что Короленко сделал рисунки 13 июня 1904 года на пароходе «Ураган»; в этот день он был в Ростове-на-Дону проездом из Полтавы в Джанхот.
Рисунки Короленко публикуются впервые.
Е. И. Меламед
«...НАРИСОВАНО И ПОДАРЕНО МНЕ ВЛАДИМИРОМ КОРОЛЕНКО»
Известно, что в «годы тюрем и ссылок» В. Г. Короленко пристрастился рисовать с натуры. С карандашом и записной книжкой писатель не расставался ни в глухом углу тогдашней Вятской губернии, ни в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме, ни в далекой Амге. Здесь, в Якутии, и был сделан рисунок, который ныне хранится в отделе рукописей Нью-Йоркской публичной библиотеки, в составе коллекции знаменитого американского путешественника и публициста Джорджа Коннана (1845-1924).
В 80-90 годах прошлого века Кеннан прославился своей книгой «Сибирь и ссылка», в которой, как писал Ф. Энгельс, «разоблачил перед всем миром все те гнусные методы, при помощи которых царизм в собственной империи подавляет всякую попытку к сопротивлению» [* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 22, с. 47.]. Это двухтомное исследование в значительной мере явилось итогом шестнадцатимесячного путешествия по Сибири и европейской части России, совершенного американцем в 1885-1886 гг. Тогда же была собрана и основная часть его «сибирской коллекции», куда вошли письма и тюремные дневники ссыльных революционеров, многочисленные фотографии, книги и периодические издания [* Э. Баскаков. Документальные материалы по истории народов СССР в архивах и библиотеках СГА. — «История СССР», 1959, № 2, с. 226-227.].
Постоянно пополнявшееся вплоть до 1920 года, когда оно было передано на государственное хранение, это собрание поистине уникально. Очень ценны, в частности, фотографии. В альбоме, где они находятся, бывший владелец сделал следующее пояснение: «Когда будет писаться полная история русского революционного движения, эти портреты ранних революционеров представят огромный интерес и ценность. Я сомневаюсь, что где-либо есть более полная коллекция таких портретов» [* Цит. по статье Г. Кублицкого «Коллекция Джорджа Кеннана». — «Сибирские огни», 1963, № 8, с. 167.].
Основательность этого утверждения трудно оспаривать, ведь среди пятисот снимков — редкие изображения Н. Г. Чернышевского, П. А. Алексеева, И. Н. Мышкина, В. Н. Фишер, Ф. М. Достоевского, Н. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. А. Мачтета и других более или менее известных русских писателей и революционеров.
Есть в альбоме и портрет В. Г. Короленко, относящийся к 1883 году (здесь он ошибочно датирован 1885-м). Рядом с портретом, указывает писатель Г. Кублицкий — кажется, единственный из наших соотечественников, кому довелось познакомиться с архивом Кеннана — «вклеен его (Короленко.—Е. М.) подлинный рисунок с натуры, изображающий жилище ссыльных поселенцев в снегах Якутии» [* Там же, с. 168.].
Рисунок этот никогда не публиковался. Он подписан автором и назван: «Зимник, оставленный на лето. (Кыстык?)» [* Кыстык. — зимнее жилище (якутск.).]. Ниже приписано по-английски: «Образец домов, в которых в Якутской области Восточной Сибири живут ссыльные. Нарисовано и подарено мне Владимиром Короленко. Джордж Кеннан».
Нарисовано, как уже было оказано, в период пребывания Короленко в якутской ссылке (1881-1884). Подарено — летом 1886 года. Именно в это время Кеннан приезжал в Нижний Новгород, где русский писатель поселился после возвращения из Якутии. В письме без даты к брату Юлиану он писал: «Был у меня очень интересный посетитель — американец Кеннан. Он ездил в Сибирь изучать русскую ссылку. Собрал массу интер[есного] материала, который будет напечатан в амер[иканских] газетах и, кроме того, выйдет отдельной книгой» [* Короленко В. Г. Полное, посмертное собрание сочинений. Письма, т. I. Госиздат Украины, 1923, с. 137.].
Из приведенного письма может показаться, что речь идет об одной встрече, тогда как в действительности их было две: Кеннан дважды заезжал в Нижний, и оба раза виделся с Короленко [* Travis Frederick F. George Kennan and Russia, 1865-1905. Emory University, Phi. D., 1974, p. 280. Пользуясь случаем, приношу благодарность директору Института им Кеннана в Вашингтоне (США) д-ру Ф. Старру за возможность ознакомиться с этой неопубликованной диссертацией.].
Во время одной из этих встреч гостеприимный хозяин и подарил американскому путешественнику привезенный из Якутии рисунок, ряд других материалов, сообщил интересовавшие того сведения, которые впоследствии автор «Сибири и ссылки» использовал в своей книге [* Подробнее см.: Е. Меламед. В. Г. Короленко и Дж. Кеннан (из истории русско-американских литературных связей). — «Русская литература», 1977, № 4, с. 153-154.].
В заключение остается, сообщить, что фотокопию рисунка В. Г. Короленко я получил от его биографа, московского литературоведа А. В. Храбровицкого.
/Полярная звезда. № 3. Якутск. 1980. С. 118-122./
Владимир Галактионович Короленко – род. 15 (27) июля 1853 г. в г. Житомир Волынской губернии Российской империи, в семье уездного судьи. Согласно семейному преданию, дед писателя Афанасий Яковлевич происходил из казацкого рода, восходившего к миргородскому казачьему полковнику Ивану Королю. Мать же, Эвелина Иосифовна, была католичкой, и польский язык был в детстве для Владимира родным.
Владимир начал учёбу в польском пансионе Рыхлинского, затем учился в Житомирской гимназии, а после того как отец был переведён по службе в Ровно, продолжил среднее образование в Ровенском реальном училище. В 1871 г. поступил в Петербургский технологический институт, но из-за материальных трудностей вынужден был его покинуть и перейти в 1874 г. на стипендию в Петровскую земледельческую академию в Москве. В 1876 г. за участие в народнических студенческих кружках Короленко был исключён из академии и выслан в Кронштадт под надзор полиции, где зарабатывал на жизнь чертёжной работой.
По окончании срока ссылки Короленко возвратился в Петербург и в 1877 г. поступил в Горный институт. К этому периоду относится начало литературной деятельности Короленко. Весной 1879 г. по подозрению в революционной деятельности Короленко вновь был исключён из института и выслан в Глазов Вятской губернии. 25 октября 1879 г. Короленко был отправлен в Бисеровскую волость с назначением жительства в Березовских починках, где он пробыл до конца января 1880 г. Оттуда за самовольную отлучку в село Афанасьевское писатель был выслан сначала в вятскую тюрьму, а затем в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму. Из Вышнего Волочка отправлен в Сибирь, но возвращен с дороги. 9 августа 1880 года вместе с очередной партией ссыльных он прибыл в Томск для дальнейшего следования на восток. С сентября 1880 г. по август 1881 г. Короленко жил в Перми в качестве политического ссыльного, служил табельщиком и письмоводителем на железной дороге.
В марте 1881 г. Короленко отказался от индивидуальной присяги новому царю Александру ІІІ и 11 августа 1881 г. был выслан из Перми в Восточную Сибирь.
24 ноября 1881 г. был доставлен в Якутск и был водворен в Амгинскую слободу Якутского округа Якутской области (01. 12. 1881- 10. 09. 1883). Шесть лет ссылки дали ему богатый материал для его будущих сочинений.
В 1885 г. Короленко разрешили поселиться в Нижнем Новгороде. Нижегородское десятилетие (1885—1895) — период наиболее плодотворной работы Короленко-писателя, всплеска его таланта, после которого о нём заговорила читающая публика всей Российской империи.
В 1895—1900 гг. Короленко живёт в Петербурге. Он редактирует журнал «Русское богатство». В 1900 г. поселился в Полтаве. В 1911-1913 гг. Короленко выступал против реакционеров и шовинистов, раздувавших сфальсифицированное «дело Бейлиса», он опубликовал более десяти статей, в которых разоблачал ложь и фальсификации черносотенцев. После Октябрьского переворота 1917 г. Короленко открыто осудил методы, которыми большевики осуществляли строительство социализма. Есть мнение, что сам псевдоним «Ленин» был выбран под впечатлением от сибирских рассказов Короленко.
25 декабря 1921 г. Владимир Короленко скончался от воспаления легких в г. Полтава Украинской ССР.
Виктория Хиль,
Койданава
[C. 228.]
КАРАЛЕНКА Уладзімір Галакціёнавіч [15 (27). 7. 1853, Жытомір — 25. 12. 1921], рускі пісьменнік. З сям’і юрыста.
Вучыўся ў Тэхналагічным (1871-73) і Горным (1877-78) ін-тах у Пецярбурзе і ў Пятроўскай земляробчай і лясной акадэміі (1874-76) у Маскве. У 1876-77 у ссылцы ў Кранштаце, з 1879 у ссылцы ў Вяцкай губ. і Якуціі па падазрэнні ў рэвалюц. дзейнасці. З 1885 у Ніжнім Ноўгарадзе, з 1896 у Пецярбурзе. Чл. рэдакцыі, адзін з кіраўнікоў нарадавольніцкага час. «Русское богатство» (з 1894, з 1904 рэдактар-выдавец). З 1900 у Палтаве. Светапогляд К. фарміраваўся пад уплывам рус. рэвалюц. дэмакратаў. Друкавацца пачаў у 1878. Асн. тэматыка творчасці — мужнасць і непахіснасць рэвалюцыянераў («Дзіўная», 1880, апубл. ў Расіі 1905), абуджэнне рэвалюц. пратэсту («Яшка», 1881; «Сон Макара», 1885; «Забойца», 1885; «Рака гуляе», 1892; «Агеньчыкі», 1901; і інш.), крытыка самадзяржаўя («Ат-Даван», 1892; «Гасударавы ямшчыкі», 1901; «Феадалы», 1904; і інш.). У аповесці «Сляпы музыка» (1886) паказаны герой, які бачыць шчасце ў служэнні народу. Герой аповесці «Без языка» (1895) выступае супраць бяздушнасці амер. дэмакратыі. Мемуары «Гісторыя майго сучасніка» (кн. 1-4, 1906-22) — твор пра ідэйнае станаўленне і рэвалюц. барацьбу інтэлігенцыі 60-80-х г. Публіцыстыка К. («У галодны год», 1893; «Мултанскае ахвярапрынашэнне», 1895-96; «Дом № 13», 1903, апубл. ў Расіі 1905; «Гомельская судовая драма», 1905; «Сарачынская трагедыя», 1907; «Бытавая з’ява», 1910; і інш.) — узор барацьбы супраць прымусу і гвалту самадзяржаўя. Аўтар арт. пра В. Бялінскага, М. Салтыкова-Шчадрына, Л. Талстога, Г. Успенскага, М. Чарнышэўскага, A. Чэхава і інш. Рэаліст. творчасці К. ўласцівы рысы гераічнага рамантызму, паэтызацыя духоўнага багацця народа, спалучэнне эпічнасці з лірызмам, псіхал. тонкасць вобразаў. Аповесць К. «Лес шуміць» інсцэніравана БДТ-1 (т-р імя Я. Купалы, 1922). На бел. мову творы К. перакл. А. Александровіч, С. Дарожны, К. Чорны, Я. Шарахоўскі.
Тв.: Полн. собр. соч., т. 1-5, 7-8, 13, 15-22, 24, 50-51 (выд. пасмяротнае, не законч.), Харьков — Полтава, 1922-29; Собр. соч., т. 1-10, М., 1953-58; Собр. соч. в 6-тн т., т. 1-6, М., 1971; бел. пер. — Судны дзень, Вільня, [б. г.]; Лес шуміць, Мн., 1920; У благой кампаніі, Мн., 1930; На заводзе, Мн., 1931; Сон Макара. — Ат-Даван. — У воблачны дзень, Мн., 1931; Апавяданні, Мн., 1937; Без языка, Мн., 1939; Дзеці падзямелля, Мн., 1939; Куплены хлопчык, Мн., 1947; Сляпы музыка, Мн.. 1950.
Літ.: Короленко С. В. Десять лет в провинции, Ижевск. 1966; яе ж. Книга об отце, Ижевск, 1968; Дерман А. Жизнь В. Г. Короленко, М. - Л., 1946; Балабанович Е., B. Г. Короленко, М., 1947; Бялый Г. А., В. Г. Короленко, М. - Л., 1949; Миронов Г. Короленко, М., 1962; В. Г. Короленко в воспоминаниях современников, М., 1962.
В. С. Семенякоў. Мінск.
/Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. V. Мінск. 1972. С. 427./
КАРАЛÉНКА Уладзімір Галакціёнавіч (1853-1921), рускі пісьменнік, публіцыст, грамадскі дзеяч. К[упала] падарыў яму зб. “Жалейка” з аўтографам: “Вельміпаважанаму пану У. Г. Караленку ў знак шчырай пашаноты яго прац на полі грамадзянскім. Аўтар Янка Купала. СПб. 7/І-1911 г.” 10. 1. 1922 К[упала] старшынстваваў на паседжанні камісіі пры Акадэмічным цэнтры па ўшанаванню памяці Караленкі, Паводле рашэння гэтай камісіі 17 студз. у памяшканні Бел. дзярж. тэатра адбыўся літ.-маст. вечар, на якім была пастаўлена інсцэніроўка па аповесці Караленкі “Лес шуміць”.
Ц. Б. Ліякумовіч
/Янка Купала. Энцыклапедычны даведнік. Мінск. 1986. С. 285-286./
КАРАЛÉНКА Уладзімір Галакціёнавіч (27. 7. 1853, г. Жытомір, Украіна — 25. 12. 1921), рускі пісьменнік, публіцыст, грамадскі дзеяч. Ганаровы акад. Пецярбургскай АН (1900, у 1902 адмовіўся ад звання). Вучыўся ў Тэхналагічным (1871-73) і Горным (1877-78) ін-тах у Пецярбургу, у Пятроўскай земляробчай і лясной акадэміі (1874-76) у Маскве. Яго светапогляд фарміраваўся пад уплывам ідэй рус. рэв. народнікаў. У 1876-11 у ссылцы ў Кранштаце, у 1879 у Вяцкай губ., у 1881-84 у Якуціі. З 1885 жыў у Н. Ноўгарадзе, з 1896 у Пецярбургу, з 1894 чл. рэдакцыі народніцкага час. «Русское богатство», у 1904-18 (з перапынкамі) яго рэдактар, з 1900 у Палтаве. Друкаваўся з 1878. Жыццё народа, яго духоўнае багацце, неабходнасць яднання інтэлігенцыі з народам — асн. матывы творчасці К. У апавяданнях «Дзіўная» (1880, апубл. 1905), «Забойца», «Сон Макара» (абодва 1885), «Сляпы музыка» (1886, 2-я рэд. 1898), «Марусіна заімка» (1889, апубл. 1899), «Рака гуляе», «Ат-Даван» (абодва 1892), «Агеньчыкі» (1901) і інш. выступаў супраць беззаконня самадзяржаўных улад, раскрыў станаўленне новых рыс нац. характару рус. чалавека. Водгукам на актуальныя з’явы і праблемы грамадска-паліт. жыцця былі яго нарысы «У галодны год» (1893), «Мултанскае ахвярапрынашэнне» (1895-96), «Гомельская судовая драма» (1905), «Сарацынская трагедыя» (1907), «Бытавая з’ява» (1910) і інш. Аповесць «Без языка» (1895, 2-я рэд. 1902, прататып гад. героя — рабочы-беларус) — назіранні пісьменніка ад падарожжа ў Амерыку. Мемуары «Гісторыя майго сучасніка» (кн. 1-4, 1906-22) — маст. летапіс пакалення 1870-х г. Творчасць К. вызначаецца рэалістычнасцю, спалучэннем эпічных і лірычных плыняў, паглыбленым псіхалагізмам, гуманізмам. Перамога чалавечага духа над матэрыяльнай абалонкай — адзін з гал. матываў яго твораў. Аўтар літ.-крытычных артыкулаў пра рус. пісьменнікаў. Захавалася 6 лістоў К. да А. В. Луначарскага ад 1920, у якіх ён выказаў свае рэзка адмоўныя адносіны да Кастр. рэв. 1917 і яе вынікаў. Асобныя творы К. тэматычна звязаны з Беларуссю. Быў асабіста знаёмы з Я. Купалам. Яго творы друкаваліся ў бел. газ. «Наша ніва», у 1920-30-я г. на бел. мове былі выдадзены яго аповесці «Сляпы музыка», «Судны дзень», «Лес шуміць», «Дзеці падзямелля» і інш. У 1922 у т-ры імя Я. Купалы (БДТ-1) інсцэніраваны яго твор «Лес шуміць». На бел. мову асобныя творы К. пераклалі А. Александровіч, С. Дарожны, М. Краўцоў, А Кудравец, К. Чорны, Я. Шарахоўскі.
Тв:. Собр. соч. Т. 1-6. М., 1971; История моего современника. Кн. 1-2. Л., 1976; Земли! Земли! М., 1991; Бел. пер. — Апошні прамень: Выбранае. Мн., 1984.
Літ: Миронов Г. М. Короленко. М., 1962; Бялый Г. А В. Г. Короленко. 2 изд. Л., 1983; Короленко С. В. Книга об отце. Ижевск, 1968.
С. Ф. Кузьміна.
/Беларуская энцыклапедыя ў 18 тамах. Т. 8. Мінск. 1999. С. 50./
/Караленка Уладзімір Галакціёнавіч. // Янка Купала. Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск. 2018. С. 44./