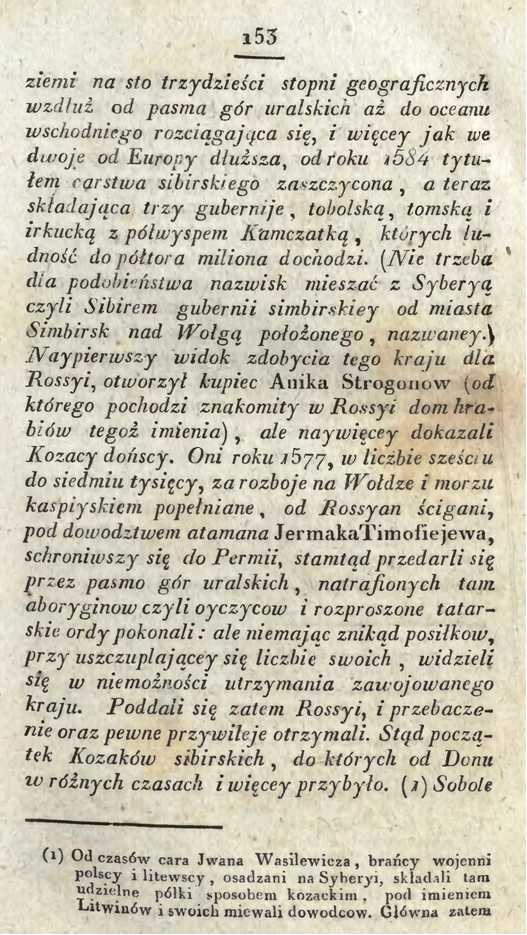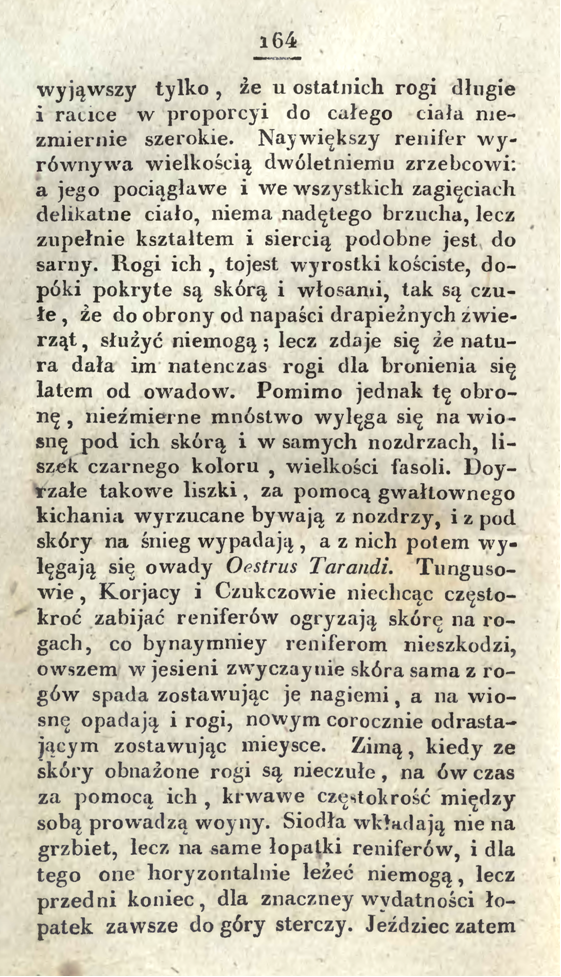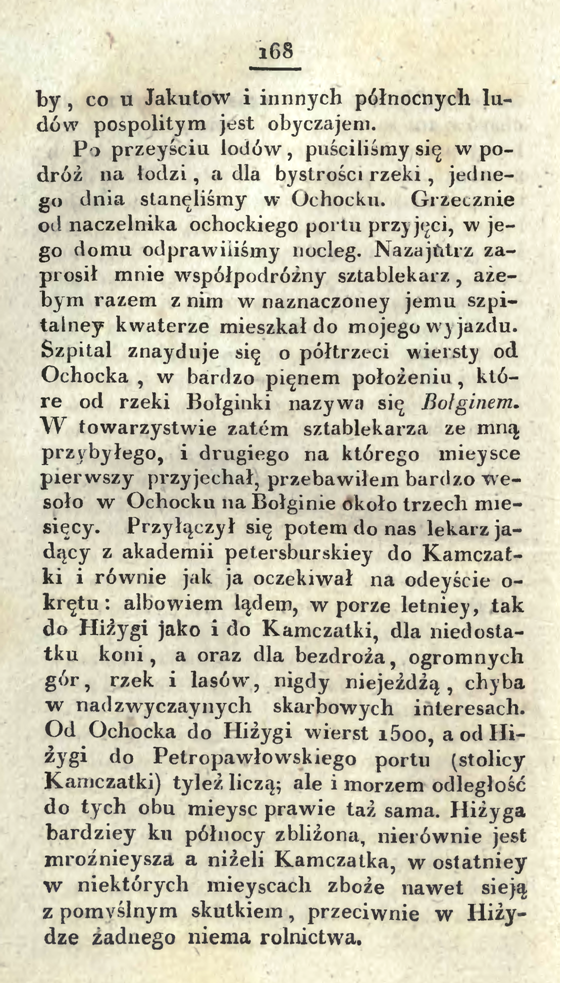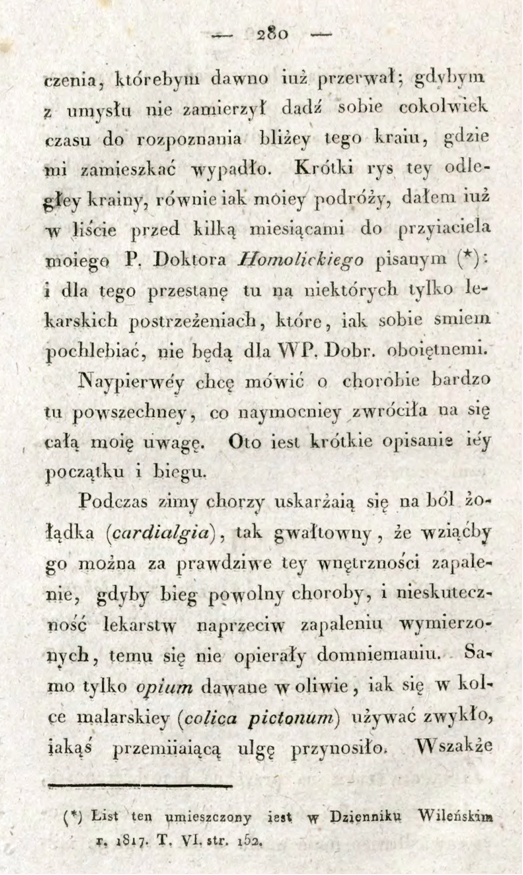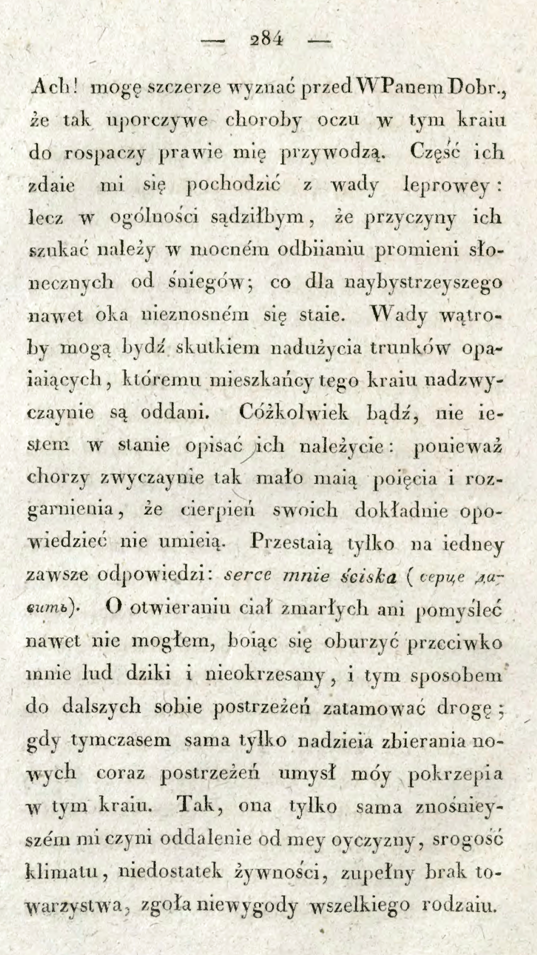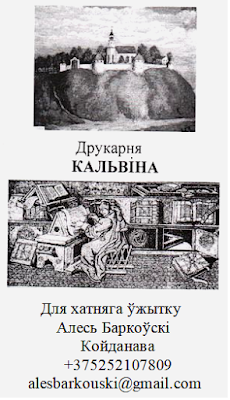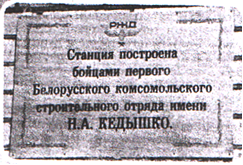Энциклопедии говорят что:
Гречина — дворянский род польского происхождения, герба Корчак. Федор Г. пожалован в 1521 г. войтовством Воинским. Иван Г., ближайший родоначальник ныне существующего рода, был подчашием брестским. Род этот внесен в I часть родословной книги Волынской губернии. /Энциклопедическій словарь. Т. IXа. С.-Петербургъ. 1893. С. 684./
Гречина - старинный дворянский род шляхетского происхождения, ведущий начало от Бржеского подчашего Ивана Г. (1643). Потомство его внука, Гавриила Степановича, записано в VI ч. род. кн. Волынской губ. Есть еще несколько дворянских родов Г. того же происхождения, но записанных, по недостаточности представленных доказательств, во II и III ч. род. кн.
В. Р-въ. /Новый энциклопедическій словарь. Т. XIV. С.-Петербургъ. 1913. Стб. 911./
Из них Григорий /Grzegorz/ Власьевич Гречина /Hreczyna/ (1796-1840), род. на Волыни, магистр философии, доктор математических наук (1796-1840), окончил в 1816 г. Виленский университет, с 1819 г. читал алгебру и геометрию в кременецком лицее, в 1834 г. приглашен адъюнктом в университет Святого Владимира по кафедре чистой и прикладной математики, с 1837 г. - профессором по занимаемой кафедре. В 1838 г. защитил докторскую диссертацию «Рассуждение о капиллярном действии» и вскоре был назначен профессором математики в Харьков, где и умер. /Hreczyna Grzegorz. // S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami. T. VII. Warszawa. 1900. S. 175; Гречина (Григорій Власьевич Hreczyna). // Энциклопедическій словарь. Т. IXа. С.-Петербургъ. 1893. С. 684; Dianni J. Hreczyna Grzegorz. // Polski Słownik Biograficzny. T. X. Warszawa-Wrocław-Kraków. 1962-1964. S. 51-52./
Его брат Tadeusz Hreczyna (Тадеуш /Фаддей Михайлович/ Гречина /Хречына/), который родился в 1788 (1790) г. на Волыни, в парафии Котельня Житомирского повета Малопольской провинции Киевского воеводства Королевства Польского Речи Посполитой в небогатой католической шляхетской семье. После окончания учился в Волынской гимназии /уездной школе в Житомире/, уже в Российской губернии, он в 1809 г. поступил на Медицинский факультет Виленского университета, который окончил в 1815 г. со степенью доктора медицины (28 сентября 1815 г.), после защиты диссертации о сыпи portęciowej (Dissertatio inauguralis doctrinam de exanthemate mercuriali casu practico locupletans. Vilnae. 1815), он, как стипендиат правительства, 23 декабря 1815 г. в чине титулярного советника «был отправлен в Гижигу (Якутия), где боролся с эпидемией сифилиса, косящей туземцев» /Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa, Poznań. 2000. S. 113./ Окружной город Гижига (Ижигинск, Гижигинск) находился в Камчатской области Иркутской губернии (сейчас село в Северо-Эвенском районе Магаданской области России), путь в который проходил через областной город Якутск Иркутской губернии.
Уже из Гижиги в своем письме, датированным 15 января 1817 г. Гречина описал свой путь от Вильно до Гижиги, места своего назначения на должность окружного врача, которое опубликовал «Dzieńnik Wileński». Т. 6. N. 32. Wilno. 1817. S. 152-177, где сообщение о якутах «краткое, на трех страницах [S. 160-162], но очень содержательное: о еде, скотоводстве, строительстве и одежде». /Армон В. Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 26./ В том же 1817 г. Гречина прислал во Врачебное общество в Вильне описание болезней распространенных на Камчатке и в 1818 г. стал членом этого общества.
По окончанию обусловленного срока службы (6 лет выслуги в Сибири), Гречина выехал из Гижиги и служил лекарем в Гайсинском и Ямпольском (1825) уездах Подольской губернии. После окончания службы в 1831 г. вернулся в Вильно, где в 1833 г. числился оператором при Врачебном управлении, коллежский советник, орден Святого Владимира 4 степени.
Умер в Вильно «в 1834 г., а как утверждает Змеев, умер 3 сентября 1843 года». /Bieliński J. Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medyko-chirurgicznej wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce. Warszawa. 1888. S. 232./ «Умер 3 сент. 1845». /[Русскіе врачи писатели. Составилъ Левъ Ѳед. Змѣевъ докторъ медицины. Вып. I. до 1863 г. С.-Петербургъ. 1886.] С.-Петербургъ. 1886. С. 76./
Письма Тадеуша (Фаддея) Гречины из Гижиги (как опубликованные и неопубликованные), которые он писал виленским профессорам Юзефу (Иосифу) Франку и Михалу Гомолицкому (со Слонимщины), а также во Врачебное общество в Вильно, хранятся в архиве АН Литовской республики в Вильнюсе.
Труды:
Dissertatio inauguralis doctrinam de exanthemate mercuriali casu practico locupletans quam in Caesarea Literarum Universitate Vilnensi Ad assequendum gradum Doctoris Medicinae publico medicorum judicio submittet, ... Volhy-niensis medicinae magister Seminarii Medici Caesaris munificentia sustentati Alumnus. Anno MDCCCXV die (?) Mensis Septembris. Vilnae, Typis Dioecesanis, (1815), w 8-ce, str. 15 nlb.
* Wiadomości z Syberyi. Wyjątki z listów Pana Tadeusza Hreczyny doktora medycyny, pisanych z Hiżygi do przyjaciela w Wilnie mieszkającego. // Dzieńnik Wileński. Т. VI. N. 32. Wilno. 1817. S. 152-177.
* Wiadomości z Syberyi. Wyjątek z trzeciago listu Pana Tadeusza Hreczyny doktora medycyny, pisanego z Hiżygi do przyjaciela w Wilnie mieszkającego. // Dzieńnik Wileński. T. VI. N. 36. Wilno. 1817. S. 660-664.
* List Doktora Tadeusza Hreczyny, lekarza skarbowego w mieście powiatowém Hiżydze na Kamczatce, pisany pod d. 15. Lipca 1817. do Рrofеsora Jósefa Franka w Wilnie. // Pamiętników Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. T. I. Wilno. 1818. S. 279-285.
* Сообщения из Сибири. Выдержки из писем Тадеуша Гречины, доктора медицины (1817 г.). Перевел Алесь Барковски. // Якутск вечерний. Якутск. 1 сентября 2000. С. 4.
Литература:
* Bieliński J. Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medyko-chirurgicznej wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce. Warszawa. 1888. S. 232, 737, 796, 864, 884.
* Hreczyna Tadeusz. // Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Ułożył Stanisław Kośmińskі. Członek i bibliotekarz warsz. tow. lek., członek związkowy wileńskiego tow. lekarskiego. Warszawa. 1888. S. 177.
г.
Zahorski W. Zarys dziejów Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie (1806-1897). Warszawa. 1898. S. 202, 206.
* Frank J. Pamiętniki D-ra Józefa Franka. Profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Z fancuskiego przetłumaczył, wstępem i uwagami opatrzył D-r Władysław Zahorski. T. III. [Bibljoteka Pamiętników. Nr. 3.] Wilno. 1913. S. 105-108.
* Гречина Фаддѣй Михайловичъ. // Змѣевъ Л. Ѳ. Русскіе врачи писатели. [Русскіе врачи писатели. Составилъ Левъ Ѳед. Змѣевъ докторъ медицины. Вып. I. до 1863 г. С.-Петербургъ. 1886.] С.-Петербургъ. 1886. С. 76.
Alkiewicz J. Materiały do polskiej bibliografii dermatologii i wenerologii oraz ich pogranicza od XVI w. do 1951 r. Poznań. 1957. S. 142.
Stocki E. Hreczyna Tadeusz. // Polski Słownik Biograficzny. T. X. Warszawa-Wrocław-Kraków. 1962-1964. S. 52.
* Armon W. Polscy badacze kultury Jakutów. // Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. CXII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1977. S. 16, 26-27, 163, 172.
* Stocki E. Hreczyna Tadeusz. // Polski słownik biograficzny. T X. Wrocław-Warszawa- Kraków. 1962-1964. Reprint. Wrocław. 1990. S. 52.
* Hreczyna Grzegorz. // Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa, Poznań. 2000. S. 112-113.
Hreczyna Tadeusz (1788 – 1834?). // Szarejko P. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. V. Warszawa. 2000. S. 174-175.
* Армон В. Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 15, 25-26, 161.
Trynkowski J., Wójcik Z. Tadeusz Hreczyna i jego posługa lekarska w północno–wschodniej Azji na początku XIX wieku. // Lekarze polscy na Syberii od XVIII do XX wieku. Międzynarodowa konferencja Łódź 29-31 października 2007 r. Łódź. 2008. S. 296-307.
* Trunkowski J. Tadeusza Hreczyny listy z nad morza. // Польские ссыльные в Сибири во второй половине ХVIII – начале ХХ века в восприятии российский администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сборник научных трудов. Омск. 2015. С. 57-66.
Юкунда Лакшина,
Койданава
*
СООБЩЕНИЯ ИЗ СИБИРИ
Выдержки из писем Тадеуша Гречины, доктора медицины,
написанных из Гижиги к товарищу, живущему в Вильно
…Выехав 19 марта [1816 года] из Иркутска, я прибыл в Якутск 18 апреля. Ничего в этом пути (2588 верст) особенного я увидеть не смог. Якуты занимаются только скотоводством и рыболовством, гостеприимны и услужливы. На чай, табак и водку безмерно падкие и более к лугам и лошадям своим привержены, чем тунгусы, которые к северу от Якутского тракта живут и постоянно с места на место переезжают. Хоть физиономия лица их мало отличается от тунгусского, зато языки этих двух народов совершенно непохожие. Не засевают тут никаких зерновых, да и урождаться они не могут по причине гористых, каменистых и холодных мест. Русские, сосланные за преступления на реку Лену (где проходит Якутский тракт), осужденные на поселение, правда пробуют по плодородным долинам (очень здесь редким) сеять зерновые, но те не всегда дозревают и поэтому часто они испытывают голод, так как к молодой сосновой коре, с соскобленной сухой верхней чешуи, служащей бедным якутам вместо хлеба, русские привыкнуть не могут.
Проезжая Якутским трактом в разные поры года, мы разные имели удобства и неудобства. Самая лучшая и самая быстрая езда летом на лодках по реке Лене. Я же соскучившись продолжительным пребыванием в Иркутске – столице преступников, не пожелал дожидаться этой приятной дороги. Но за это мое нетерпение я был вынужден потом, из-за нехватки почтовых лошадей, несколько почтовых станций пройти пешком. В конце весны здесь всегда ощущается недостаток сена. Нерабочие лошади и скот сами для себя ищут под снегом высохшую траву, а содержащихся в домах, кормят молодыми ветками тальника. Поэтому они не только не пригодны к работе, а по большой части дохнут. Весной и осенью когда Лена покрывается льдинами и лодкам грозит опасность быть разбитыми, то в это время как почта так и путники вынуждены ехать верхом на конях по чрезмерно гористой, узкой, перерезанной многими реками, захламленной и не вымощенной дороге. Зимой же путь совершают на санях по льду замершей Лены.
Якуты свои жилища, называемые юрты, делают из досок, поставленных одна возле другой вертикально наклонно по вдоль, верхним концом опертых на четырех балках, которые положены в квадрат либо прямоугольник на четырех столбах. Крыша, почти горизонтальная, возводимая над юртами, является одновременно и потолком. Все такое строение снаружи обмазано коровьим навозом, а внутри имеют камин, в котором постоянно поддерживается никогда не затухающий огонь. Окна делают либо из кусков льда, либо пластинок слюды, а чаще всего из оболочки коровьего желудка. Двери обычно бывают из деревянных досок, а иногда из лошадиной шкуры. Рубашек якуты не имеют. Носят кожаные штаны, но такие короткие, что закрывают только бедра. Этот недостаток возмещают сапогами, голенища которых длинной достигают до бедренного изгиба. Вместо сермяги, обыденной нашим крестьянам, они носят особой формы кафтаны из лошадиной шкуры, а больше всего из оленьей, которые от соседних тунгусов достаю. Одежда женщин почти ничем не отличается от мужской, и зачастую можно было бы принять одних за других, если бы из ушей не свисали серебряные, или из другого металла, кружки, излишние по правде и смешные, но, однако как украшение им служат. Ногти никогда не подстригают. Болезней в этом народе, кроме коросты и проказы, никакой другой не замечал.
Прибыл я в Якутск 18 апреля. Отдыхая два дня в этом городке, богатом мясом, молоком, маслом и сыром, постиг я необычайную и совершенно бескорыстную гостеприимность здешних жителей. Эта их особенность характера, возможно, является следствием примера местного начальника (губернатора области), который своей человечностью покорял всех. Он был справедливый и снисходительный, внимательный к своим обязанностям и благоразумным в потворствовании, словом соединял в себе все достоинства предписываемые верховному чиновнику. Однако, несмотря на это, жители города Якутска (то есть русские издавна живущие тут) сильнее чем якуты чрезмерны в пьянстве, так, что я приноравливаясь к их обычаю, принужденный подчинятся их гостеприимству, напился сразу же по прибытию, и стал трезвым не ранее, как по выезде, а то бы меня назвали гордым и глупым.
Не желая дожидаться весеннего бездорожья, запасшись продуктами, я покинул 20 апреля Якутск, отправившись в дорогу вместе со штабс-лекарем, едущим в Охотск…
/Wiadomości z Syberyi. Wyjątki z listów Pana Tadeusza Hreczyny doktora medycyny, pisanych z Hiżygi do przyjaciela w Wilnie mieszkającego. // Dziennik Wileński. Т. 6. Nr. 32. Wilno. 1817. S. 160-162./