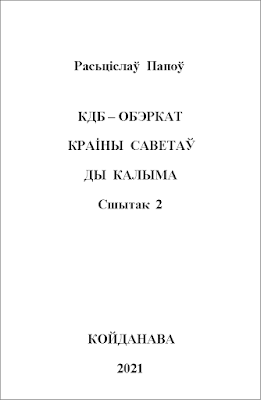Ростислав Михайлович Попов
КГБ - ОБЕРПАЛАЧ СТРАНЫ СОВЕТОВ
Детство
Родился я в дворянской семье: отец мой был полковником царской армии. Когда началась октябрьская революция (мне было чуть более двух лет), отец пришел со службы и говорит маме:
- Ольга, - собирай детей, уезжаем: начинается собачья власть. А мама - конечно же, женщина - в ответ: - «Куда я поеду...»
Он посмотрел, махнул рукою и поехал. Так мы его больше и не увидели. Погиб, по-видимому, на гражданской войне. Мама осталась одна с малыми детьми: мною и старше меня на два года сестрою. Мама работала в военном госпитале (она в свое время закончила медицинский факультет Петербургского университета).
Началась польская война, было очень тяжело. Заболела она сначала сыпным тифом - выздоровела, но вскоре умерла от повторного тифа. Шел уже 1921 год. Не было кому опекаться нами, детьми, и мы попали в детский дом. В детском доме в Менске я пробыл где-то до 24-го года, затем меня перевели почему-то в Бобруйский детский дом. Помню как теперь, что находился он по улице Карла Маркса, там я пробыл до 27-го года. Оттуда нас, таких шустрых, как я, парней, перебросили в Паричский детский дом (40 километров вниз по реке Березине).
Коллективизация
Там я получил семь классов образования. Кроме этого, меня выучили и на счетовода. Много счетоводов нужно было тогда советской власти, ведь начали колхозы организовывать. Было мне неполных 16 лет, и направили меня в деревню Пруссы Кривоносовского сельсовета Стародорожского района. Приехал я туда в самый разгар коллективизации. Коллективизацию называли тогда еще и ликвидацией кулачества как класса. Только считалась, что Пруссы - эта деревня, а крестьяне там жили все на хуторах. Были средь них и совсем бедняки, и более зажиточные. Последние - это обычно те, кто работал, не разгибая спины. Их и признали по тому времени кулаками, врагами народа, которых надо было раскулачить, то есть уничтожить.
Как это происходило. Приезжал наряд милиции. К нашей деревне был приставлен 25-тысячник, еврей из Бобруйска. Он был как политрук, всегда ходил с наганом. Был и председатель колхоза по фамилии Мороз, который знал и мог писать только 5 букв: «М-о-р-о-з», а в остальном был он абсолютно неграмотным; этот нагана не имел. Так вот, они оба, еще с ними два милиционера из района и несколько своих сельских, якобы депутатов, заваливались во двор к определенной несчастной семье, громыхали в дверь и провозглашали, что «согласно с решением районного совета за номером таким-то вы подлежите раскулачиванию, т. е. государство конфискует все ваше имущество, и вам запрещается проживать в данной местности». Несчастным позволялось взять с собой только столько вещей и еды, сколько они могли понести на себе. Начинались причитания, слезы и зубовный скрежет, но никуда не денешься. Упаковывали они свои вещи и харчи в мешки, взваливали их на спину - и на двор. Там терпеливо ждала их любимая лошадка-кормилец, уже запряженная в их же телегу. Мешки взваливались на подводу, сверху сажались малые детишки, и это скорбное шествие - олицетворение апокалипсического несчастья: впереди телега с кучером-депутатам и заплаканными детьми, сзади, словно гонимые в татарский плен, взрослые, по сторонам милиционеры с винтовками - следовали по полевой дороге через Кривоносы на Старые Дороги в неизвестное, навстречу всем семи адским кругам и неминуемей погибели. Но я про это тогда еще не догадывался, а они своим предположениям, наверняка же, не хотели и не могли верить.
С остальными незваными гостями я должен был оприходовать оставленное имущество: инвентарь, строения, живность, т.е. писать под диктовку: бочка сала, бочка жира, мешок гречихи и т.д. Сколько в тех бочках было килограммов, никого не интересовало. И все это размещалось в складах на центральной усадьбе: крупы, мука - отдельно, жиры - отдельно. Скотину - коров, коней, свиней, овец - угоняли на выбранный для этого хутор. С курами-гусями было, конечно, тяжелее: много их пережило лето до зимы безнадзорными - кто хотел, тот и ловил их. Грустное зрелище представляли оставленные хутора: добротные порасхлябаные строения, куры гребутся в песке, одичавшие собаки прячутся в кустарнике, кот высматривает из открытых настежь дверей сарая... Даже некоторым свиньям удавалась в той неразберихе избежать шилья и погулять какое-то время на природе. На сеновале или в бурьяне можно было найти кладки яиц...
Кем же они были, делавшие эту омерзительную работу? Ну, вот Мороз. Он имел печать, которую яму привез из района тот самый 25-тысячник. Она была металлическая, закручивалась на резьбе. Держал он ее в холщовом мешочке. Пишу я, бывало, под его диктовку какое-либо донесение, прошение или отчет в район - он обязательно в конце прикажет прочитать написанное и, видимо не веря, что действительно можно записать чужие слова, каждый раз еще и переспросит, действительно ли я так написал. После этого достанет из мошны свою печать, долго на ее дышет, приложит к бумаге и да давит, что аж пот на носу выступатть. Наконец оторвет печать и со счастливой усмешкой начинает любоваться красотою, возникшей из-под его руки. Главной его задачей, однако, было исполнять распоряжения 25-тысячника.
А 25-тысячник запомнился мне следующим. Каждую субботу впрягает он наилучших коней с наилучшей упряжью в наилучшую подводу, приказывает мне открывать кладовки и только покрикивает: неси яму на подводу жир, неси яму сало, масло, неси яму гречку, муку. Нагружает целый воз - и прет в Бобруйск; приезжает в воскресенье вечерам, но уже на пустой подводе. В следующий выходной действие повторяется. Так-то он строил колхоз. Что случилось потом с этим двадцатипятитысячником, я не знаю, но у Мороза совесть, по-видимому, не до конца было развращенна, ведь потом он убежал в город, устроился на каком-то производстве (я его в конце тридцатого года встретил в Менске).
Университеты
Но первым убежал оттуда я. Застала меня в этих Пруссах глубокая осень. В начала ноября очень я заскучал и задумался, что скоро будет 20-е число, и мне исполниться уже 16 лет, что я тут пропаду. Паспортов тогда в Советском Союзе еще не было (их ввели только с 34-го года), так что можно было ехать куда захочешь. И принял я и на сегодняшний взгляд единственно правильное решение: положил на стол ключи от всех тех кладовок, рядом - книги амбарные, а на их сверху записку, что мне тут нечего делать, и пошел пешочком на Старые Дороги. Пришел как раз к товарному поезду на Осиповичи. Запрыгнул на ступеньку, затем по лесенке вскарабкался на крышу, доехал до Осиповичей. Из Осиповичей таким же макаром добрался до Менска. В Менске обратился я в единственное место, где мне могли помочь, - в комиссию «Друг детей». Там меня признали, спрашиваются:
- Что, Попов, делать будешь?
- Как что делать? Учиться хочу!
Однако для учебы было уже немного поздновато, и меня направили в фабзавуч, в МШУ, т. е. в Менскую школу ученичества Московско-Белорусской железной дороги. Туда еще можно было устроить меня. Пришел я туда, а там группы буквами обозначены, и букв тех полный алфавит. Учили в этой школе на помощника машиниста паровоза - так они там называли кочегара. Обязанность была один: бери совковую лопату и шуруй уголь в топку! Мне и теперь эта совковая лопата тяжела, а тогда я ее даже пустою поднять не мог, а уже с углем совковая лопата была мне в общем не под силу. Но я там все же проучился до весны. Снова задумался я, что делать подальше. Пошел искать что-нибудь по себе. Иду, читаю: Менский архитектурно-строительный техникум. Думою себе: неплохо было бы строителем. Захожу к секретарю. Сидит тетка центнера с полтора весом, печатает (Чайковская ее фамилия). Обращаюсь к ней. Разузнав, что я имею семь классов образования, она заверила меня, что я могу к ним поступить. Тут уже я своего шанса не упустил - втиснулся в набор 31-го года. Дали, натурально, общежитие, а еще, как воспитаннику детского дома, и разные причиндалы: подштанники, сорочку, телогрейку-куртку, спальные принадлежности: тюфяк, соломой набитый, наволочку, одеяло байковое.
Дефицит бумаги в РККА и его последствия
В техникуме я проучился четыре года и два месяца, получил специальность: техник промышленного и жилищного строительства. Направили меня на строительство пограничных укреплений, в погранотряд, в особую строительную роту. Ведь, мол, поляки хотят на нас напасть, задавить рабоче-крестьянскую власть в Беларуси - надо от них укрепляться. Граница тогда проходила между Столбцами (они были под Польшей) и Негорелое, которое было под советами. Неподалеку от Негорелое было местечко Колосово. И там, под Колосовом, мы строили доты – «долговременные огневые точки». Постройка этой довольно примитивной, но чертежей был целый толстый альбом: на каждую арматурину, на каждую мутру, на каждый загиб - свой чертеж, на каждом поставлен свой номер и гриф «совершенно секретно». Весь альбом весил не менее четырех килограммов.
А тогда бумаги вовсе не было: давали махорку, а бумаги - ее закручивать - нет. Это теперь 10 газет на одного человека, а тогда напротив: одна газета на 10 солдат. Так отработанные чертежи мы делили, рвали и курили. И вдруг приезжает со Смоленска, из главного штаба Белорусского военного округа, инспектор, берет в руки папку (по-видимому, повсюду так было: и у меня листов пять не хватало) и: «А где листы?»
- Как где? Кто селедку завернул, а кто, может, и в туалет сходил...
- Ага! Попались, значит, врагу, поляку! Теперь он нас запросто разобьёт – на хрен нам эти точки!
Вы, конечно, поверили, что так и было. Так и было, и повторялась много раз, только не со мной. Я такое только наблюдал. Так я должен говорить про себя всю свою жизнь от суда и до самого последнему времени, ведь умом понимаю, а все ж таки боюсь: сидит этот страх в мозге костей моих. А по правде со мной случилась вот что.
Получив в 35-м году диплом техника-строителя, я вознамерился поступать в Высшее военное авиационное училище в Москве, но опоздал: набор там был уже проведен. Пришлось мне ни с чем возвращаться в Менск. Забрали меня в армии и предложили работать в разведке. Выбора не было, должен был согласиться. Это так считалась, что разведка, а на самом деле использовали меня как политического контрабандиста. Регулярно должен был нелегально переходить на польскую сторону границы и переносить на себе один раз легкий пакет за пазухой, а другой раз и тяжелый рюкзак. Что там было в тех пакетах и рюкзаках, не знаю и по сей день. Но догадываюсь, что это были деньги, или литература, либо еще какие материалы для коммунистических нелегалов в Западной Беларуси.
Каждый переход происходил на разном участке границы. Перед переходом надо было точно изучить весь маршрут на макете. На том макете были обозначенные даже самые мелкие детали ландшафта, даже камешки при тропе или можжевеловые кустики на полевой границе...
Вы спрашиваете, ходил ли я в Воложин и Клецк? В Воложин - нет, а в Раков и Клецк ходил пару раз. Связные ждали на хуторах, в деревнях, даже в поле. И в каждом городе был связной: в Ракаве - раввин, в Клецке - аптекарь, который имел или квартиру при аптеке, или аптека была в его доме. Узнавали мы один одного через пароли, каждый раз новые. А граница с нашей стороны начала тогда уже укрепляться: были натянуты несколько линий колючей проволоки, была запахана и каждый почти что день бороновалася полоса земли, чтобы от пристального глаза пограничников не спряталось никакое нарушение границы, даже зайцем. Кроме того, низко над землей были натянуты параллельно несколько рядов тонкой проволоки. И когда нарушитель, пусть себе и заяц, прикасался к ней, то на посту вспыхивала лампочка на контрольном табло и высвечивалось указание, где, на каком участке произошло нарушение. Уже тогда начали советы употреблять электронную систему сигнализации...
А на польском боку ничего такого не делалась, по-видимому, у польского правительству денег на это не находилась. На их стороне только разъезжали патрули и иногда ладились засады. Когда нелегальный переносчик попадал на такую засаду, то мог и жизнь отдать. Меня подстрелили два разы: первый раз в руку, но, на счастье, пуля пробила только мускул, кости не затронула. Второй раз ранили меня в ногу, еле дотащился к контрольной полосы. Отлежался в госпитале и надумал отказаться от такой службы. Я знал, что такой отказ равнялся дезертирству, но решил, что в лагере, может, и выживу, а на этой службе рано или поздно все равно убьют. Пошел я к командиру и доложил о своем решении. Он меня попробовал уговорить, предсказывал, что со мною может случится, но я стоял на своем. Пришлось ему доложить про ЧП с «вольнонаёмным техником» в особой части...
ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Предъявитель сего
ПОПОВ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
действительно состоит на службе
в войсковой части 04023
в качестве вольнонаёмного техника по ремонту
технических сооружений.
Действительно по 30 апреля 1939 г.
что подписью и приложением печати удостоверяется.
КОМАНДИР ВЧ 04023 МАЙОР МИХАЙЛОВ
И тут началось. Меня (а заодно и еще 18 человек из нашей части - от командира роты подполковника Киселева и до старшины) бросают в черный ворон - и в Менск, в «Американку». Разместили нас по отдельным камерам на втором этаже. Там 16 камер. Просидел я там два месяцы. Вызывали меня только один раз: спросили фамилию, имя, отчество, то, сё... Следователь осмотрел меня с ног до головы, примериваясь: может, избить для физзарядки, но передумал. Да и за что было меня бить: я искренне отвечал на все его вопросы
Тюремная эпопея
В Минске есть главная улица, при моей жизни она несет пятое название. Сначала называлась Захарьевская, потом Советская, потом проспект Сталина, потом Ленина, теперь - проспект Франтишка Скорины. Так вот, когда Вы идете по этому проспекту и доходите до улицы Урицкого, то на рогу Урицкого и Советской и размещено это поганое гнездо, волчье логово. Когда Вы заворнете на улицу Урицкого и пойдете вдоль строения, то во внутреннем дворе этого огромного строения-квартала, может, Вам, вольному, и удастся, когда открыть плотные железные ворота, повидать кругленькую, как силосная, башню. Она имеет два этажа над землей и два под землей. Окна там из фальконье - стеклоблоков: это чтобы свет попадал, а узник ничего не видел. Называется она Американкой, потому что сооружена на американский манер. Дежурных там нет, а сидит на вращающемся стуле только один смотритель на два этажа. Вертиться он на своем стуле, а когда посчитает нужным, то щелкнет своим ключом - и двери нужной камеры открываются автоматически. Камеры радиальные, ему все видно, что в камере делается, там не спрячешься.
Режим здесь был такой: в 11 часов отбой, в 6.00 подъем. А днем не дают ни читать, ни писать, ни глаз сомкнуть. К стене прислонишься, а смотритель: «Вы спите!» Предупредил два раза - на третий открывает двери: «Выходите!»
Везут тебя в тюрьму городскую, в карцер, за то, что спал в камере. А там полтора суток холодного, полтора суток нормального карцера. На дворы июль, зной, дышать невозможно, а тут постоянно включенная вентиляция - всю душу вытягивает. Бегаешь по камере туда-сюда, чтобы не замерзнуть. Через 12 часов открывают. Напротив - камера уже нормальная, там можно отдохнуть. Через 12 часов - снова в застенок. И да из дня в день. Я в карцеры три раза просидел за этот сон.
Перевели нас, наконец, в общую камеру. Там уже и поспать можно было, чтобы не заметили... Но и оттуда я попал однажды в застенок. Сбоку от этой центральной улицы есть под строением подземелье: камеры вдоль улицы, раньше там были под потолком и окошки зарешеченные, теперь, я смотрел, их нет. Довелось и мне провести трое суток в одной из этих застенков. Там средь лета, в страшную жару батареи были горячие. Загоняют туда, дают селедку на обед... Клюешь, клюешь кусочками эту сельдь - уже одни косточки остались. Наконец приносят хлеб и обещают еще принести воды, но не несут. Умышленно морят, толкают к крайнему исчерпанию сил, чтобы ты, значить, признался, какие вражеские меры делал по отношению к рабочему народу, чтобы тебя законно уже расстрелять.
Ах, каких людей я встретил в общей камеры! Какие колоритные личности ждали там решения своей судьбы! Был, например, среди нами некто Васильев: имел он около восьми судимостей, но закончил Болышевскую трудкоммуну. Это была такая «фабрика-переделка» жуликов в нормальных людей, вот он ее и закончил. Его, конечно, не переделали, но чекистам он именно такой и пригодился для деликатных заданий. Тогда еще не летали самолеты из Англии в Японию и назад, а путники должны ездить курьерским поездом номер 1 Владивосток-Столбцы, коричневого такого цвета. Назад он шел под номером 2. Со Столбцов дальше в Европу шел другой поезд. Так вот, этот Васильев после Борисова выхватил у японского дипломата дипломатичную почту и выпрыгнул на ходу из поезда. За это ему Калинин вручил орден Трудового Красного Знамени. Но или кавалер ордена не сдержался и сделал какое-то грабеж не только для чекистов, но и для себя, то ли был он несдержан на язык, ведь, когда я сидел в Американке (это был уже 38-й год), то и он ждал там своего последнего выстрела в голову. Из Американки был один путь - в Куропаты. Расстреляли его, конечно.
Министра внутренних дел Бермана тогда уже расстреляли. Приехал Наседкин, побыл немножко, затем Берия привез на Беларусь своего холуя Цанаву, такую маленькую, тучную, волосатую свинью. Но уж это был всем негодяям негодяй! Когда он шел по коридору и не слышал, как люди стонут и кричать на пытках, так он следователей тех самих сажал в камеры. Я про это все знал, ибо наши войска относились тогда к НКВД и мы всех этих министров как облупленных знали.
Сидел со мною один еврей - Швацман, Вацман или Вейцман... Вся беда его была в том, что, хотя всю жизнь он прожил в Менске, но родился в Бельцах, а на то время это была уже заграница. В Менске была его семья, и тут он, полуобразованный человек, дошел до начальника сберегательных касс Беларуси. А был этот еврей ростам метра со два, массою килограммов на 120. Как его пытали!
Вызывают около 11-12-и часов ночи (не раньше) на допрос, а возвращается в 3-4 часа утра. Его вбросят, он падает. Подняться не может, мы его на нары тянем. Он рассказывал:
- Прихожу, а следователь: «Ну что, признаёшься?»
- В чём?
- В измене Родине.
Потому, значит, предатель родины, что с матерью переписывался. А еще была одна статья – «связь с мировой буржуазией». Ведь отец имел лавку на польской стороне и торговал дегтем. Ну и, натурально, польский шпион - у него было штук пять статей.
- Гражданин следователь, моя жизнь как на ладони у государства. Я с детства, с молодых лет и до начальника...
- Ты тут нам херню не разводи, рассказывай, как шпионил.
Нажимает следователь на пуговицу, и в кабинет заваливаются четыре амбала, становятся по углам. Подходит один сзади, и -шшарах! - ребром ладони по шее; второй - под ребра, третий - в пах (такое у них было разделение труда). Повалять на пол, свяжут руки-ноги и бьют связанного, как хотят, сапогами своими хромовыми. Все следователи ходили в хромовых сапогах. А когда уже очень плохо, вызовут врача. Тот даст укол камфары, и опять бьют, пока не удовлетворятся. Тогда тянуть в камеру. Лежать и его косточки где-то в Куропатах.
Люди в нашей камере менялись конвейером. Запомнил я еще одного еврея лет за 90. Стал он врагам народа за то, что некогда работал в фирме, которая торговала колониальными товарами - изюмом, персиками. Он был заядлый курильщик и, конечно, никогда в жизни не был в таком положении, чтобы просить покурить, он не понимал, в чем дело «покурить». А табак - это большой дефицит в тюрьме. Затяжки делали поочередно, дым выдыхали просто в рот друг другу, чтобы и толика табачной наслаждения не пропала дарам. Это специально доводили да такого унижения, чтобы человек мучился и морально, и физически.
Там... Там такое творилось! Страшно даже вспоминать, а не то что приживать.
Массовые расстрелы продолжались и в 38-м году. Расстреливали в тюрьме. Выстрелы начинались примерно в 3-4-и часа ночи и длились до 6 часов утра, до подъема. Откуда мы знали, что расстреливают? Был такой допотопный трактор Челябинского тракторного завода, глушителя он не имел. Когда начинал работать, то слышно его было за 10 километров. Заводили его, чтобы приглушить звуки выстрелов. Труппы куда-то вывозили, скорее всего в Куропаты. Сколько людей там погибла! В одном бывшем моем техникуме забрали весь преподавательский состав, весь. Всех, кто во времена царизма был офицером или чиновником каким-то или даже какие-то гуманитарные науки преподавал, - всех расстреляли. У меня был преподаватель Каменскі, шурин Якуба Коласа, он некогда с Лениным в Казанском университете учился. И его схватили, и Колас его не смог выручить. Расстреляли его.
Все же несколько человек, таких безобидных, как я, отобрали, запихали в столыпинский вагон и повезли. Привезли в Полоцкую тюрьму. Размещалась она в бывшем монастыре, кельи были переделанный на камеры. Там я также удивительных людей встречал.
Был там какой-то Сосновский, начальник одной из железных дорог (вроде Казанской), а в первые годы советской власти - секретарь Витебского окружкома партии (тогда округа были). Но его и били ж! Был он некогда тучным, полным, а тут у него от побоев и голода жир весь спал, он так похудел... Когда мы мылись в бане, то кожа с живота висела, как плева: жир пропал, а кожа не стянулась. Мучили его страшно и убили на допросе. Это тогда за партийцев-белорусов взялись.
Еще к моему прибытию в «американку» там сидел Председатель совнаркома Беларуси Голодед, кристальной души человек. Его так лупили, что он от побоев душу отдал. Вызвали врача и приказали, чтобы он написал заключение, что Голодед умер от сердечной недостаточности. Тот и написал, ведь куда денешься: иначе и тебя убьют. Убийства во время допроса случались очень часто. Эти садисты просто бесились от вседозволенности...
Путь на Колыму
Из Полоцка нас снова в столыпинский вагон - и в Оршу. Там пересыльная тюрьма. Умыли-побрили. Ну, естественно, не брили, а машинкой стригли и голову, и бороду, лобики и все остальное. Пробыли мы там дня два-три, снова умыли-побрили - и в Свердловск. Оттуда в Новосибирск, затем были Иркутск, Хабаровск и, наконец, Владивосток, лагерь Вторая речка. Кормили там синей кашей-перловкой из солдатских полевых кухонь. Налаживали кашу в банные тазики на 10 человек сразу. У кого не было ложки, должен был есть пятерней; не успеешь - гиблое твое дело. Продержали там с полумесяца. Подходить баржа. Грузимся. На рейде стоит пароход «Дальстрой». Напихивали нас в его трюмы восемь с половиной тысяч человек. Пароход был грузовой, в трюмах сделаны нары в три ярусы. Весь переход длился 9 суток. Надо было из Владивостока пройти Японское море, затем по проливу Лаперуза обогнуть Сахалин и пересечь Охотское море. В дороге нас застал шторм, и сухогруз должен был идти не по маршруту, а поперек волн. Это добавило нам еще двое суток дороги. Всего мы плыли 11 суток вместо девяти. А паёк был на 9 суток - двое суток жрать не было чего. Какая там еда: всех рвало, где ни потрогаешь рукой, везде слизь... Слава богу, я, более молодой и более легкий, лежал на самом верху.
На двенадцатые сутки прибыли в бухту Нагаева. В Магадане уже был снег с дождем, слякоть. От бухты Нагаева к Магадану три километра расстояние, а дорогу эту люди так перемесили, что получилось на ней как бы реденькая манная каша. Я имел на себе еще военные галифе, шинель и сапоги хромовые, так жижа эта переливалась через голенища. Тянулись мы колоннами, по бокам стеной стояли чекисты с винтовками - тогда еще не было у них автоматов. И если кто спотыкался, чекист сразу его штыком, чтобы скорей поднимался. Привели в санпропускник, а там: шапку или фуражку в одну сторону, шинель - в другую кучу, туда ремни, сюда рубашки, тут сапоги - кучки растут на глазах. И входишь уже в чем мать родила. И тебе сразу обработка: строем стоять парикмахеры в белых халатах: один волосы стрижет, второй - бороду-усы, третий - лобики, под мышками - и пошел. Дают тебе такой квадратненький кусочек мыла, и входишь ты в зал длиной метров 10, шириной метра три или два, сверху - сплошной теплый дождь. Мыло тут же тает в руке, ты не успел даже намылиться. Дождем тебя обмыло, ты выпрыгиваешь, никакого тебе полотенца - лишней роскоши. Зато в одном окошке получаешь белье, во втором - ватные подштанники, телогрейку, рубаху и уже под самый конец - портянки, валенки, бушлат поверх телогрейки, зимнюю шапку и рукавицы.
И в столовую! А голодные! А в столовке уже лежит огромная охотская селёдка, жирная, вкусная. Разумеется, каждый ее сразу с кишками, головой, жабрами - съел. Тогда миску тебе баланды, паек хлеба 600 граммов. Наелся ты, выпрыгиваешь, а тут стоит повар и вилкой из огромного бака поддевает большой такой пончик. Не веря себе, просишь еще, а он:
- Второй получишь, когда назад приедешь, - знал, что хрен кто назад возвращается.
И тут же загоняют тебя без всякого отдыха в машину, которая уже стоит, ждет нас. Машина бортовая, открытая. В кузове у кабины сидят два солдата в тулупах: воротники выше головы, винтовки между ног. А мы в телогреечках этих и в бушлатах. Первые пять зеков должны были сесть спиной к солдатам, вторые пять - лицом к им, и этак пять рядов - всего 25 человек. Трогались машина за машиной.
Никто не говорит нам, куда едем.
Чем подальше от Магадана и чем выше в горы, тем становилась холоднее. В Магадане было -3 -5 градусов, а за Яблоневым хребтом - уже -15. Подъехали к Дебина - уже минус 25 градусов. От Магадана к прииску Дебин ни много ни мало, а расстояние более 500 километров - путь немалый, и осиливали мы его мучительно долго. Чтобы мы окончательно не окоченели, машина регулярно останавливалась, и мы, оцепеневшие, буквально сползали с нее. После машина начинала понемногу двигаться вперед, а мы «догоняли» ее и таким образом грелись.
Из Магадана наша колонна тронулась поздно вечерам. Всю ночь мы ехали и только под утро прибыли на место.
Колымские будни
И вот мы, наконец, на еще не отрытом прииске Дебин. Прииск - эта добыча золота руками узников, вывезенных на Калыму на уничтожение. Вместе из нами привезли палатки, бочки с соляркой, шанцевой инструмент: ломы, кирки-кайла, лопаты без черенков, оси и колеса для тачек...
На 30-градусном морозе мерзнуть никто не хочет. Бригадами, скомплектованными еще на пересылке в Магадане по 25 человек, во главе с бригадирами беремся за строительство жилья. Очищаем от леса, кустарника, снега площадку для установки палатки, по размерам палатки размечаем ямы под каркас, на который потом натянем палатку. Ямы надо копать в мерзлом грунте, в вечной мерзлоте. Раскладываем костры, чтобы разморозить грунт. Под костром земля оттаивает не более как на 20 сантиметров. Другие члены бригады валять отобранный лес на каркас и для сплошных нар в будущей палатке. Выбираем после костра оттаявший грунт и опять раскладываем костер в ямке. И так до нужной глубины. После этого устанавливаем в ямы стойки каркаса, выравниваем в створ, засыпаем уже опять замерзшим грунтом, трамбуем его и по стойкам устанавливаем верхний пояс каркаса. На нем крепим стропила из тонких лиственниц - и каркас под палатку готов. По длине каркаса растягиваем палатку и «облачаем» ее на каркас. Все - палатка установлена, но работы не конец.
Снаружи закрепляем низ палатки кругляком и по периметру обсыпаем снегом высотой более метра к уровню верхней обвязки. Привезенную солярку мы успели уже сжечь и из пустых бочек мастерим печки-буржуйки для обогрева палатки, в которой нам жить еще долгие годы. В бочке вырезываются два отверстия: в торце - прямоугольная для дров, на противоположном днище - круглая для дыма. Из других бочек делаются дымоходные трубы и прокладки, чтобы не загорелась палатка. Кладем эту «печь» на землю в палатке, наставляем на печь трубы и разжигаем. Ура - имем дом и тепло! Печи жгутся круглосуточно: слава богу, тайга вокруг, дров хватает. Группам наваливаемся на постройку нар: надо же на чем-то спать.
Вот в таких условиях мы обживали жилье, данное нам товарищем Никишевым - начальникам Дальстроя, а точнее, начальникам Фабрики Смерти. Мало какому зеку на Калыме было суждено выжить, но прежде чем он умрет, из его надо было выжать все, что только возможно, на пользу государства. Умерших в чем мать родила, складывали зимой в штабели высотой в рост человека: одного, чтобы не разъехались, головой налево, второго - направо, сверху прикрывали вечнозеленым сланником, которого там много росло вокруг. Весной же выгоняли «доходяг» (здоровые, еще «дошедшие», добывали золото стране), и они таскали дрова, раскладывали костер, оттаивали мерзлый грунт, копали шурф размерам метр на метр, глубиной 3 метра. В стенках шурфа пробивали «лисьи норы» длиной по 1,5 метра. В эти «норы» подрывники закладывали аммонит, шурф засыпался, для скрепления заливался водой. Все смерзалось, и после этого его подрывали. Образовывался огромный котлован, в какой бульдозером спихивались трупы. Трупы при падении в трехметровую яму разбивались, ведь мерзлое тело хрупкое: у одного отламывалась голова, у второго рука, у третьего нога, а кто-то ломался пополам. Страшнее за эту картину похорон нашими славными чекистами и вообразить невозможно.
На Колыму узников, как быдло, только завозили. Оттуда же не вывозили никого. Три океанские гиганты-сухогрузы, переоборудованные под перевозку несчастных, брали на борт из Второй Речки во Владивостоке: «Дальстрой» - 8 500, «Трансбалт» - 5 000, «Джурма» - 3 000 человек. Эта «тройка» за один рейс привозила до 16 000 рабов. Рейс Владивосток-Нагаево длился восемь суток. Навигация продолжалась шесть месяцев, от мая и до конца ноября. В год делалось па 10 рейсов, и Фабрика Смерти на Калыме получала по 160 000 узников.
На всех приисках Колымы за год умирало от 10 до 20% списочного состава узников, который, однако, регулярно пополнялся с «материка». Чекисты на Калыме, на своей Фабрике Смерти, загубили, чуть ли не один миллион ими же репрессированных людей. И вот государство вместо того, чтобы наказать этих палачей, чекистов сталинских времен, этих начальников лагерей, оперуполномоченных, стрелков-охранников, большинство из каких настоящие садисты, обвешала их правительственными наградами, хорошо зная, что каждая такая награда оплачена жизнями безвинных жертв.
На Колыме полумиллионная армия узников добывала огромную массу золота, за что в годы войны Колыма считалась оборонной промышленностью, и все чекисты, что уничтожали загнанных туда узников, считались участниками войны. Им за успехи в добычи золота выдавались такие же награды, как и фронтовикам, а вот узникам и бывшим зекам, которым удалось освободиться в годы войны и которые продолжали работать на добычи золота, правительством награды не выдавались. Каждый чекист в погоне за наградой свирепствовал над зеками, заставляя их еще больше добывать золота. За это ему выдавался следующий орден и денежные премии.
Когда зек от изнурения и голода не выполнял норму, его оставляли там же в забое на вторую смену, чтобы он ее довыполнил; там он обычно и умирал. Никого из чекистов не волновала жизнь зеков, в особенности жизнь «фашистов», то есть лиц, осужденных согласно статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР «Особыми Совещаниями», «Тройками», «Спецтройками». Такого контингента в лагере было до 95%. На Калыму завозили и «бытовиков», этих законченных рецидивистов, воров всех профессий: карманников, медвежатников, гопников, щипачей, бандитов, грабителей, насильников, убийц, садистов и т.д. Оттуда они не могли убежать из-за географической отдаленности Колымы. Этих «блатарей» чекисты называли «нашими советскими людьми», которые «временно заблуждались" и которых «можно перевоспитать». А вот «фашистов» нечего перевоспитывать, их земля перевоспитает, и потому прилагались все усилия, чтобы как можно больше их уничтожить. И уничтожали руками этих «советских людей».
Чтобы поскорее достигнуть своих целей, чекисты ставили «наших советских людей» на управленческие должности: комендантами, нарядчиками, бригадирами. В столовых работали только блатари. Как энергично, с какой порывистостью выслуживались они перед начальством, насильно заставляя зеков работать выше своих сил! Бригадиры-блатари ходили с палками, по-ихнему с «шутильниками», какими они избивали тех, кто работал. Нередко случались случаи, когда от удара «шутильником» по голове у осужденного проламывался череп, и он тут же умирал. Надсмотрщика никто не обвинял в убийстве, ведь он убил не кого-нибудь, а «фашиста» и не за что-либо, а за то, что тот «плохо» работал. Чекисты Колымы вершили геноцид и руками блатарей. За самое незначительное неисполнение приказов не только самих чекистов, но и «советских людей» на должностях заключенный мог получить, кроме побоев шутильником, неотапливаемый карцер с 300-граммовым пайком хлеба в сутки и черпаком вонючей баланды на четвертые сутки с выводом на работу при сорокоградусном морозе с ветерком. А это - обморожение, смерть, ты - дубарь, твое место в мертвецкой. Сталинская Москва тех времен также неплохо помогала чекистам на Калыме в уничтожения узников: она присылала им на помощь так называемых вольнонаемных, но про них немного позже.
Серпантинка - фабрика смерти
В глухом месте по дороге на прииск Партизан Северного горного управления в 1937 году была открыта Серпантинка - могучая фабрика смерти, куда Москва присылала специальных чекистов. Со всех приисков неугодные узники направлялись в Серпантинку, где они расстреливались в течение 24-х часов...
Когда я был на третьем участке прииску Дебин, к нам прибыл пожилой зек с прииска Одинокий Северного управления. Он рассказал следующее:
- Сам я - коренной житель Одессы, работал кожевником на заводе. Как-то в обеденный перерыв мы, рабочие, беседовали про жизнь рабочих разных стран, и я сказал, что рабочий в Америке живет лучше, чем у нас. Через некоторое время после этого разговора меня арестовала НКВД, и следователь спросил у меня, говорил ли я это. Я подтвердил. Меня обвинили в контрреволюционной агитации и дали 10 лет исправительных рабочих лагерей плюс три годы поражения в правах. Так я очутился на Колыме, на прииске Одинокий. Я по национальности еврей, а евреи знают, что надо присылать на Север.
В конце 1937 года я получаю из дома посылку с салом и чесноком. Не успел я открыть посылку, как возле меня появился «наш советский человек» и потребовал дать яму сала и чесноку. Я ему отказал, ответив, что пусть ему пришлют, как и мне. Мстя за это, блатари оформили меня в Серпантинку - вроде бы за контрреволюционную агитацию, отлично зная, что оттуда возврата нет. Тут же меня этапировали, отобрав посылку.
- Там она тебе не пригодиться, - объявил издевательски нарядчик. А чекист, который оформлял мое этапирование, только оскалился.
И вот я в Серпантинке. Жизни моей осталось только на 24 часа. Через некоторое время вызывают меня к следователю, иду под конвоем к нему. Следователь сидит ко мне спиной.
- Фамилия, имя и отчество? - спрашивает у меня.
- Этнес Исаак Янкелевич! - отвечаю я.
После чего следователь поворачивается ко мне лицом и спрашивает:
- Этот ты, Исаак?
Я не верю глазам своим: передо мной - мой командир эскадрона из дивизии Котовского. В годы гражданской войны я был его ординарцам. Поразузнав, за что я попал на каторгу, он сказал:
- Разве ты не видишь, какое теперь время?
Этот следователь оставил меня своим дневальным, в простом понимании - холуем. Кроме дневальства, я должен был сортировать снятые с расстрелянных вещи: шапки отдельно, телогрейки отдельно, рубашки, подштанники ватные, портки летние, валенки, портянки, трусы, майки - все раздельно. Расстрелянных зарывали голыми: хоронить расстрелянного в майке и трусах считалась расхищением социалистического имущества.
Все следователи, что вели за 24 часа оформление расстрела, прибыли из Москвы, их было много. Прием, содержание, а также другие функции исполнял комендантский взвод из колымских чекистов - извергов на подбор.
В Серпантинке я находился более года, и когда по окончании командировки следователи засобирались в Москву, то мой командир предложил мне отправиться в совхоз Эльген, ведь там работа более легкая. Но я, уверовав, что из Калымы мне все равно не вернуться, решил хоть отомстить моим обидчикам и попросил направить меня назад на прииск Одинокий.
Привозят меня назад. На вахте появляется нарядчик, который меня на смерть отправлял. Он безгранично удивлен и не может понять, как мне удалось вернуться с того света. В присутствии чекистов он спрашивает меня:
- Чего ты сюда приехал?
- Меня прислали, чтобы я тебя туда отправил! - ответил я двусмысленно.
Услышав это, начальство сочло за лучшее отправить меня куда-нибудь подальше. Срочно вызывали конвой и, не впуская в зону, быстренько этапировали к вам, на прииск Дебин. И вот я тут.
Случай уникальный, когда узник, отправленный на верную смерть в Серпантин, возвращался живым.
Компания скорых расстрелов началась там в 1937 году и закончилась в 1939-м. Фабрика Смерти работала круглосуточно. Бульдозер, который рыл ров для похорон, работал также все 24 часа. Сколько там расстреляно, знает КГБ, но ни за что не обнародует тех ужасающих цифр. Только ров Серпантинки может ответить на этот вопрос, ведь жертвы чекистов лежать нетленные в вечной мерзлоте.
А теперь продолжу про прииск Дебин. За кусок плохо испеченного хлеба, за черпак вонючей баланды, чтобы не умереть с голода, мы, каторжники, работали без выходных и без отпусков по 12-14 часов в сутки. Гоняли нас на работу хуже, чем скот, перечисляя в строю по 10 раз на сутки, а то и почаще. Первый пересчет - утренняя поверка, второй - у вахты лагеря, третий - при приеме конвоем для отправки на работу, четвертый - при запуске в забой, пяты - обеденная поверка, шестой - поверка перед снятием с работы, седьмой - прием конвоем для этапирования в лагерь после окончания рабочего дня, восьмой - перед сдачей в лагерь, девятый - прием в лагере, десятый - вечерняя поверка перед отбоем ко сну.
Особенно много узников умирала зимой. Старые и больные-сердечники мерли как мухи еще и из-за недостатка кислорода на Колымском высокогорье. Благодаря каторжной работе зеков, подгонявшихся штыками и собаками чекистов, прииск Дебин рос быстро, в отвал летели трупы... Вот уже выстроен лагерь, в основном палаточный. Из дерева соорудили кухню со столовой, каптерку, проходную, морг (!), санпункт, контору начальника лагеря, выстроили промприборы для намыва золота, казарму для чекистов, вольеры для собак. Всю территорию обнесли колючей проволокой, оборудовали предзонник, установили вышки по углам этого «храма». Выстроили также и контору прииска, жилье вольнонаемным.
«Вольняшки»
Тут начали прибывать «вольняшки» с материка. Кроме чекистов и «советских людей», над заключенными господствовали и «вольняшки», т. е. вольнонаемные. Коммуниста, который совершил уголовное преступление на материке и был изобличен, очень часто отдавали не под суд, а вызывали в партийные органы и предлагали загладить свою вину работой на Севере, на Калыме. Ну, найдется ли такой дурак, который выберет заключение, а не свободу. Вот из кого в основном складывались вольнонаемные кадры Дальстроя. Большинство из их были пьяницы, садисты, шкурники; такими они оставались и на Калыме, из той только разницей, что им открывалось большее поле деятельности. Приличный человек среди них встречался очень редко.
Так, в непогоду заключенным па нормах приходилось 25 граммов спирта на день, то есть на таком прииске, как мой предпоследний - Ат-Урях - около 6 тонн. Конечно же, «фашисты» его и в глаза не видели. «Советским людям» подчас перепадало. Однако вольнонаемные буквально купались в этом знатном напитке. Где не увидишь «вольняшку», он обязательно под мухой. Им на Калыме был божеский рай.
За 9 лет моего пребывания на Калыме я побывал на трех золотодобывающих приисках, начиная с прииска Дебин в 1939 году. Затем был на прииске Ат-Урях с 1941 года (25 000 заключенных) и затем на прииске Джелгала. Я на своей шкуре изведал, кто они такие, эти вольняшки, ибо не встретил ни одного вольнонаемного, который бы по человечески угощал заключенных, в особенности «фашистов». Страдания и терпения узников приносили этим садистам настоящее наслаждение – «фашистам так и надо!», - хотя с блатарями они водились: играли в карты и т.д.
Один из этих договорников работал в нас заведующим столовой и однажды проиграл блатарям в карты все продукты. Привели заключенных в столовку, а там как выметено: еды ни крошки, а заведующий дрыхнет как убитый.
А еще был начальник стройцеха некий Шубин, дуб дубом, ничего не соображал в строительстве. Так он набрал себе высококвалифицированных инженеров-зеков, и они все за него делали, а он только ордена получал и пьянствовал.
Многие начальники имели холуев из числа зеков, которые официально назывались дневальными. Так вот один начальник КВЧ имел за дневального старого украинца лет за 60. И однажды, когда этот дневальный ходил по складам, получая пайки своему «господину», кто-то похитил деньги, которые этот начальничек, имея большую зарплату, собирал и прятал дома. Выявив кражу, начальник так избил своего холуя, что тот на места скончался. Все остальные вольняшки были нисколько не лучшие, потому и описывать их более не буду. Отмечу только, что они получали богатые заполярные пайки, несмотря на то, что шла война. Кроме того, к своему пайку они получали 100% надбавки, а также броню от фронта и возможность удовлетворять свои развратные наклонности.
Расстрел
Как всегда, мы работали в забое на вскрытие торфов. Стоял ужасный своими морозами месяц декабрь. После 14-часовой работы на морозе все с нетерпением ждали, когда же поведут в лагерь, чтобы там отогреться у печки в палатке. Было 9 часов вечера, и вот, наконец, пробил отбой. Все стали выстраиваться по бригадно для очередного пересчета. Вывели из забоя колонной по четыре человека в шеренгу, и тут начальник конвоя провозглашает, что ведет нас не в лагерь на ужин и заслуженный отдых, а в лес по доски на строительство лагеря.
Тут надо пояснить, что все трудоемкие работы по строительству лагеря под принуждением начальства исполнялись заключенными вне рабочего времени после выполнения обязательных норм на основном производстве.
Доски на строительство лагеря выпиливались вручную продольными пилами в лесу за 7 километров от лагеря.
Заключенные были до крайности усталые и изможденные. А тут, чтобы принести эти доски из леса в лагерь за семь километров, надо истратить еще четыре часа. После этого на ужин и сон остается всего шесть часов, чего явно недостаточно. Вымученный человек в таких обстоятельствах утрачивает остальные силы и в кратчайший срок умирает. А это только и надо чекистам, ведь они, зеки, привезены на Калыму для уничтожения.
Все договорились не идти по доски, и, когда конвой скомандовал «Марш!», колонна села на дорогу в снег. Конвой начал материться и требовал идти по доски. Однако никто из зеков не встал, колонна продолжала сидеть. Через несколько минут прибегает командир роты чекистов, несмотря на мороз, одетый шикарно да и под градусом. Спрашивается у конвойных:
- В чем дело?
Те ему объясняют. Тогда он подходить к голове колонны, достает наган, наставляет его на первого в шеренге и командует:
- Встать!
Тот отвечает, что он свою норму выполнил, устал и по доски идти не может. Командир роты чекистов стреляет в упор, заключенный падает на дорогу. Убийца направляет наган на следующего и в одури ревет:
- Встать!!!
Конвоиры начинают стрелять в воздух, колонна тяжело подымается и тянется по доски. Шел 1939 год...
Про Гаранина
Гаранин был заместителям начальника ГУС ДСНКВД СССР. Начальникам его был генерал Никишев, тот был палачом из палачей, ведь это с его санкции так свирепствовали его подчиненные. Другого такого изверга я за всю свою жизнь более не встречал.
Приезжает Гаранин, палач этот, на прииск в черной выроненной машине (называлась ЗИЛ или ЗИМ, такая правительственная машина). Вылезает: на нем кожаное пальто, под кожею мех волчий, на ногах вместо валенок волчьи унты. На голове эскимосская шапка с длинными ушами, на руках меховые краги. Пальто подпоясана ремнем, на ремне слева висит маузер, ручка направлена вперед. Кратко, словно тявкая, спрашивает, который прииск, какой участок, где начальник участка. А начальник участка, разузнав, что едет Гаранин, осмотрительно убежал в тайгу. Он хотя и свободный был, но они, свободные, боялись его так же, как и заключенные.
- Ага, а кто здесь начальник прибора?
И тот, также свободный, убежал.
- Кто бригадир?
Появляется бригадир, докладывает.
- Какой выполнили план за вчерашний день?
А выполнение плана по намыву золота сообщали в центр ежедневно. Оказывается, за прошедшие сутки план был выполнен только на 87%.
- Почему не выполнили план? Кто не выполняет, подать их сюда!
Приводят. Этот бедный бурильщик еле стоящий на ногах. Голова в его як безмен, шея как макаронина, высох уже от голода. Гаранин заставляет его назвать себя и статью, по которой тот осужден. Разузнав, что статья 58-10, комментирует:
- Что, на свободе занимался контрреволюционной агитацией, а здесь не хочешь работать на советскую власть? В сторону! Второй!
Со вторым та же история.
- Как, 58-7, на свободе занимался, значит, вредительством, а здесь советской власти не хочешь помогать? В сторону к первому!
И так наберет человек 5 «контриков», как они их называли. Вдруг нажимает пуговицу на крышке кобуры, крышка само открывается. Достает широкий, как карась, маузер и - бах в одного: скрутился тот и упал, только ветер шевелить клоком ваты из телогрейки, где пуля вылетела. Остальные, видя свою погибель, пытаются убежать, но ведь, ослабевшие, бежать по-настоящему не могут, а только трусцой. Он - бах! бах! бах! - переложил всех и говорит оцепеневшим от ужаса узникам:
- Передайте всем негодяям: кто вздумает не работать на советскую власть, всех их постигнет такая же участь.
Садится в машину и отправляется на другой прииск.
Так он свирепствовал до середины 39-го года, а потом вдруг исчез. Так чекисты распустили сладощавый слух, что это был не настоящий Гаранин, что настоящего Гаранина японцы, мол, убили по дороге на Калыму, а вместо его прислали своего агента. Он в течение трех лет разговаривал по прямому проводу со Сталиным, шпион японский! Такую вот лапшу вешали дуракам на уши...
Подполковник Гаранин возглавлял расстрельную тройку. Всего на Калыме было расстреляно не менее 26 тыс. заключенных. Сам с садистским удовольствием расстреливал беззащитных людей. В 1939 году был расстрелян и сам Гаранин, но не за самоуправство, а в ходе «ликвидации ликвидаторов». См.: Жак Росси. Справочник по Гулагу. М., 1991.
Сороковой километр
Когда началась война, то всех таких, как я, литерных, которые имели якобы связи с врагом, собрали в лагере на прииске Джелгала. Это был мой третий прииск на Колыме. И там я окончательно дошел, стал «доходягой». Отправили меня «поправлять» здоровье на ТЭС-1. При этой теплоэлектростанции был так называемый «пищекомбинат». Это летом такие доходяги, как я, собирали по тайге ягоды, грибы, ссыпали в бочки и привозили на комбинат. Там ягоды высыпали в чаны, где они бродили: так изготавливалось вино. Кому и куда оно шло, могу только догадываться. Грибы мариновали, сушили. Но при этом же пищекомбинате был еще и карбидный цех. Карбид - это продукт переработки негашеной извести и кокса. В этом цехе через две недели начинаешь харкать кровью, через месяц загибаешься совсем. Вот туда, к этой извести, и поставили меня поправлять здоровье. Работал я там с Мустафьевым Николаем, коренным одесситам, моряком, осужденным «Особым совещанием». Несмотря на такие тяжелые условия работы, кормили нас так, чтобы мы случайно не сумели поправиться; голод мучил ужасно. Думали мы, думали и надумали пробраться к тому вину. Бочки были за сеткой, решеткой, но мы нашли способ - добрались к бочке, пробили ледяную корку, набрали целое ведро этой кисло-сладкой пурцовки и пошли на хлебопекарню. А там работали бывшие зеки, но уже свободные. Они нам за ведро бурды дали буханку хлеба. Однако недолго услаждались мы нашей смышленостью: поймали нас, дали нам по 6 месяцев штрафнику и отправили на сороковой километр в лагерь смерти. Самый здоровый с заключенных, который попадал туда, не выживал дольше четырех месяцев - неизбежно умирал от изнурения.
Это была равная площадка за 500 метров от трассы. Она была обнесена колючей проволокой в 20 рядов, по углам стояли караульные башни, на проходной денно и нощно дежурило охрана (так сказать недремлющий глаз), предупреждая побеги заключенных. А побегов этих никогда и не случалась, ведь куда убегать? Кругом «голодная» тайга на тысячи километров, да и убегать некому: заключенные - одни доходяги из лагеря актированных.
За колючей проволокой стояла 6 бараков, в двух было размещено 250 штрафников, из которых 200 человек были почти что мертвецами. Они уже не вставали, эти скелеты, обтянутые кожей. 50 человек, крайне обессиленных, еще выгоняли слаживать заготовленный вручную торф, который по узкоколейке возили на ТЭС центрального лагеря. Оттуда в конце ноября и меня этапировали сюда в штрафняк, на верную погибель.
Лагерь на 40-м километре - это последний этап жизни на Колыме. Тут вместо расстрелов заключенных убивали голодом. Чекисты совершенствовали методы массовых убийств. Ученые-медики системы лагерей Дальстроя «учено» обосновывали рационы питания, от каких любой здоровый человек не выжил бы дольше 6 месяцев. А что тут уже было говорить про доходяг...
Одеты штрафники были по форме лагерей, откуда их этапировали. Несмотря на сильные морозы (а в районе Аймякона они доходили до минус 60 градусов), валенки заключенным не выдавались с 1941 года. Обували зеков в чуни - башмаки из веревок. Одежда доходяг была второго или даже третьего срока, снятое с умерших или расстрелянных зеков. Встречались, однако, и зеки, обутые в валенки, одетые в лагерное обмундирование первого срока: конечно же, это были уголовники, «наши советские люди», которые попали туда разве что случайно.
Вот в этом лагере и очутились мы с Мустафьевым Николаем. Однако когда мы были еще в предыдущем лагере, то разузнали, что туда из центра уже пришли наши учетные карточки с обозначением срока освобождения. Мы, таким образом, уже знали, что мне до дня окончания срока заключения оставалась еще 2 месяца и несколько дней, срок Николая заканчивался на месяц позже. Стали мы думать снова, как же нам уберечься в эти последние месяцы от голодной верной смерти...
А начальникам лагеря был чекист майор Ерема, годов шестидесяти, с ярко выявленной склонностью к «зеленому змею», нервный, большой любитель рукоприкладства, т. е. по всех меркам чекист сталинских времен. Начальник Еремка, так называли его зеки, находился в возвышенном состоянии: он претерпевал медовый месяц.
Километров за 25 от нашего лагеря находился чисто женский лагерь совхоза «Эльген». Начальницей там была известная на всю Калыму еврейка Цимерман. Она прославилась исключительно садистскими отношениями к заключенным женщинам. О ней ходили самые невероятные слухи. Рассказывали, что за самую малую провинность она с виновной плетью кожу сдирала...
Так вот, из этого лагеря освободилась одна молодая женщина, ее и «сосватал» майор Ерема. А куда ей было деться? Когда мы прибыли в штрафник, у начальника медовый месяц только начинался, и он не ходил - гоголем летал.
- Единственный и последний шанс нам тут выжить - это душевное состояние начальника.
Эти слова моего друга я принял сначала за его очередную шутку. Николай объяснил поподробнее:
- Ты видишь, в каком амурном состоянии начальник штрафняка? Ему теперь дела лагерные, как говорят, до лампочки. Все его внимание направлено на молодую жену, и мы должны это использовать. Ты слышал, как он вечерам спрашивал, кто из зеков желает пойти работать в похоронную команду?
Никто из зеков не высказал желания, ведь работа там непосильная. По правилам, на умершего должна быть вырыта отдельная могила размерам два на один метр в основе и два метра глубиной. И это в вечной мерзлоте, вручную, киркой, ломом и лопатой. А ежедневно надо было хоронить 2-3 человека, ведь такая была «производительность» маленького цеха Колымской фабрики смерти на 40-м километре. Я и говорю Николаю:
- Как же мы выкопаем за день три ямы в вечной мерзлоте, что мы - экскаваторы?
- Не твое дело. Все продумана и обмозгована. Если ты не согласен, я возьму другого напарника!
Рассуждать не было чего, и я согласился. Мы направились к начальнику. По дороге Николай предупредил, чтобы я ничего не говорил, он сам скажет что надо. Начальник был на проходной, и нас к нему пустили. Дежурил вахтенный охранник с пьяной физиономией, высокого роста, с украинским акцентом. На вахте было очень тепло, и это их расслабило. Николай назвался начальнику по правилам и объяснил, что мы желаем работать на похоронах умерших. Реакция начальника была почти доброжелательной. Он спросил в вахтенного, сколько есть не погребенных. Тот ответил, что пять человек. Тут же начальник распорядился выдать нам сани, веревки, лопаты, лом, кирку и два матраса для перевозки торфа и объяснил, что за каждого похороненного он будет нам выдавать по 100 граммов хлеба и 25 граммов махорки.
Договоренность произошла, и мы пошли осматривать наше «хозяйство». Ключ от мертвецкой нам выдал дежурный вахтер. Там было пять трупов, задубелых в разных позах. Мороз пробежал по телу. Страшно было смотреть, до чего их довели славные чекисты. Каждый умерший представлял собой скелет, обтянутый кожей: ни грамма ткани, буквально только кости и кожа. Трупы валялись на земляном полу, грязные.
Бани в штрафнику не было. Охранники ездили мыться в центральный лагерь, а для зеков-штрафников раз в две недели приезжала «вошебойка», которая дезинфицировала одежду и серые солдатские одеяла. Более в штрафников ничего не было. Им по прибытию в лагерь кроме одеяла выдавались матрас и наволочка, которые надо было набивать соломой или сеном. Но поскольку на Колыме ни соломы, ни сена не было, то зеки спали на голых нарах, сделанных из кругляка, даже не ошкуренного. И вот на этих нарах коротали свои последние деньки колымские смертники. Почти ни у кого не было сил, чтобы залезть на верхний ярус нар, а там было теплее, чем внизу. Чтобы не терли кругляки настила в ребра, они снимали телогрейки и подстилали их вместо матрасов. Прислонясь друг к другу, они пытались согреться.
Единственной темой всех разговоров была еда. Каждый воспоминаний, как он вкусно некогда ел, что ел, где это было. Почти все соглашались с тем, чтобы только сейчас вволю наесться, то пусть бы и расстреляли. Разговоры эти не кончались ни днем ни ночью. Двести доходяг на работы не ходило, а кое-как передвигалось, ожидая свой смертный час. Наблюдать это было выше человеческих сил.
Пока я был на Колыме, не было ни одного случая отправки с нее заключенных, был только завоз. Правда, в 1940 году человек 250 ослепших посадили на океанский пароход «Джурма», который в Охотском море с людьми этими и утонул. Чекисты пустили слух, что его потопили японские диверсанты. На такие басни они были кудесники, этого у них не отнимешь.
(Еще раньше при прохождении пролива Лаперуза на этой же «Джурме» случился пожар. Японцы предлагали помощь, но команда, задраив люки, отказалась от помощи. Уже в Охотском море трупы угорелых пассажиров были просто выброшенные за борт. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ, книга 5. часть 2, гл. 3.)
И вот, осмотрев мертвецкую, мы опять явились на вахту, и сам начальник повел нас показывать кладбище. Оно находились в метрах 700 от лагеря, за трассой, в поросшем стлаником овраге.
После полудня, взяв сани, матрасы, лопату и веревку, мы поплелись к штабелям торфа. Насыпали полные матрасы торфа, уложили их на сани, привязали веревкой, впряглись и повезли на погосты. Там мы расчистили от снегу грунт, по габариту могилы разложили костер и опять поехали по торф. Через пару часов костер прогорел, и мы выбрали оттаявший грунт. Оттаяло сантиметров 20. Снова разложили в ямке новый костер, снова пошли по торф. Стало ясно, что при самой интенсивной работе мы не сможем обеспечить могилами всех умерших. Про это я и сказал Николаю.
- Не волнуйся, кирюха, все продумана и взвешена, - ответил он.
Мне оставалась слушаться и подчиняться, но я все еще не разгадал его задумки.
- Пошли к начальнику, - сказал он.
Утром (было 10 часов) начальник входил в зону лагеря. Николай подошел и попросил его осмотреть вырытую могилу. Начальник удивился, увидев нашу работу, и иронично заметил, что мы, как кроты, роем быстро. На вахте он распорядился выпускать нас за зону ночью для исполнения похорон.
- Вот теперь, кирюха, этот пес вонючий нами куплен. А дальше: увидишь - поймешь. Пошли, поспим, нам вставать в час ночи.
А второму часу ночи мы были в мертвецкой. В это время наш «полк» получил пополнение: вместо пятерых, лежала уже семь мертвецов. Положили мы на сани два трупа, привязали, чтобы не потерять по дороге. Все же ночь, да и небо затянуло тучами. На проходной вахтер посчитал трупы, и мы повезли их на могильник.
Конец ноября и декабрь сопровождаются на Калыме снежными заносами. Мы еле нашли вырытую могилу, она была полностью засыпанная снегом. Но вместо того, чтобы очищать дол от снегу, Николай, на мое удивление, развязал веревки, взял один труп, взвалил его на плечи, мне приказал брать второй, и понес его прочь от могилы. Отнеся метров за сорок, он задвинул труп под ветки сланника в снег. То же самое сделали мы и со вторым трупом.
- Вот и все похороны! - объявил он.
Так началась деятельность нашей похоронной команды. Мы копали потемкинские могилы сантиметров на 40-50, мертвых прятали под ветви стланика, после этого ямку ту засыпали, придавая ей вид могилы.
На второй день за похороны двух трупов выдали зам 200 граммов хлеба дополнительно к 400 граммов пайковых, а также 50 граммов табака на двоих. Тут мы и ожили, ведь в штрафнику зекам табак не выдавался. И хотя оба мы курили, однако решили все же половину табака выменять у повара на растительное масло и соль: других продуктов повар не имел. Что это была за роскошь! Мы макали хлеб в растительное масло, посыпали солью, а подкрепившись, закурили! Как говорят блатари, мы были «сверх грабежа».
Наша совместная «деятельность» продолжалась 64 дня до 2-го февраля. В тот день нарядчик объявил, чтобы я собирался к отправке в центральный лагерь. Никто, кроме меня и моего друга Николая, не знал, почему меня отправляют. Николаю до его освобождения оставалась еще 25 дней. И он успел освободиться до весны, при еще припрятанных зимой итогах деятельности нашей похоронной команды. В души я был на седьмом небе: жизнь была спасена благодаря Николаю и тем моим друзьям по несчастью, которым не суждено было дожить до такого дня. Я им всем и по сегодняшний день глубоко благодарен.
Тепло попрощавшись с другом, пожелав яму счастливо дожить до светлых дней свободы, я, как «почетный гражданин», с личной охраной, под штыками и при собаке отбыл в центральный лагерь.
Прошла долгая колымская зима с ее сильными морозами и пургой. Был погодный августовский день заполярного лета, один из тех дней, которые радуют душу, несмотря ни на что. Я был уже освобожденный и работал. По делам, связанных с работой, я поехал в поселок Ягодный, районный центр Северного горного управления, и там встретил одного знакомого вольняшку из лагеря на 40-м километре. И вот что я от него разузнал.
Пришла, наконец, весна. В концы мая начал таять снег, и в штрафнику произошло ЧП. На погостах стали вытаивать не погребенные трупы. Картина была ужасающая. Оказалось, что умерших выбросили за лагерь, не похоронив. Начальник просто с ума сошел. К тому же перед самым ЧП его молодая жена, с которой он жил, по старому обычаю коммунистов, не регистрируя брак, обворовала его под чистую и исчезла в неизвестном направлении. Грозный чекист был страшен и гремел громам и все угрожал, что как поймает Николая, то собственноручно повесить его, а когда Попова - то расстреляет, также собственноручно.
И вот выкарабкался я из этого лагеря смерти. Отвели меня в центральный лагерь Таскан-1, который находился в 5 километрах. Там дали мне справку, что я свой срок закончил, и отправили в центр получать документы. А центр был в поселке Ягодном, а до Ягодного от лагеря было 60 километров – добирайся, как хочешь.
«Освобождение»
Потопал я пешочком от столба к столбу, пришел. Освободили и тут же расписочку взяли, что за 24 часа я стану на воинский учет и устроюсь на работу. Когда чего не соблюду, то буду считаться дезертиром в военное время. А это был 44-ы год. Устроился я на витаминную фабрику мастером-строителем, и то неплохо. Дали мне место в каком-то общежитии. Там я познакомился с очень интересным человеком, Жаландковским Ильей Александровичем. Имел он некогда мебельную фабрику в Москве, сам он архитектор и работал в градостроительстве. Постлали его строить Мурманский порт. Там через какую-то бабу скомпрометировали его и в 27-м году отправили на Соловки без суда и следствия. Рассказывал он страшные вещи, как над ними чекисты издевались. Когда в 32-м году СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) ликвидировали, то всех, кто еще был трудоспособным, отправили на Колыму, а кто уже не мог работать, погрузили на баржи и затопили в море. На Колыме он закончил один срок - его вызвали и дали расписаться, что его освободили, и тут же он должен расписаться, что получил еще снова пять лет. Так и работал он на каторжных стройках очередных пятилеток, не совершив никакого преступления.
Витаминная фабрика, где я устроился, перерабатывала ягоды, орехи, грибы, которые собирали в тайге доходяги. Из кедровых орехов делали молоко сгущенное, из ягод - вино для начальства, повидло, варенья, компоты; грибы мариновали, сушили. Директором фабрики была некая Писакова Ольга Ивановна, коммунистка, естественно. Она метр курила - два кидала, такие огромные папиросы употребляла.
Я полагал, что война еще нескоро закончиться, а мне тут страдать придется бесконечно, и надумал убежать с Колымы - явиться в военкомат в Якутске и попросить отправки на фронт. Чего тут сидеть в этом лагере? Там бывшему зеку, хотя и свободному, было мало лучше, чем заключенному в лагере.
Был у меня дружок, который работал на телеграфном пункте в Ягодном, также уже освобожденный. Попросил я его дать Писаковой соответствующую телеграмму, чтобы она меня отпустила. Он и отбив телеграмму с таким содержанием: «Находящегося в Вашем распоряжении техника-строителя Попова Ростислава Михайловича срочно откомандируйте на Хандыгскую снаббазу для производства строительных и ремонтных работ». База эта на речке Хандыга, которая впадает в Алдан, а тот в Лену: оттуда я уже быстренько убегу. Она получает эту липовую телеграмму, не догадываясь о нашей наглости и предлагает мне отстоять меня, если я не хочу туда ехать. Я, естественно, заверил ее, что готов работать на пользу советской власти, куда бы та меня ни послала.
Ну, раз такое дело, дает мне начальница расчет. Я - за документы и попутными машинами по трасу. Это большое расстояние: от Ягодного надо проехать Сасуман - большое управление, затем Эксекан, Адыгалах и поехать по проезду, который заключенные пробивали на случай войны с Японией, когда она перережет морские пути. Расстояние - 750 километров. Трасу пробили за год. Проезд - четырехметровая полоса, две машины разминуться не могут. Потому через каждые километр-два - разъезды. Шофер видет, что ему навстречу идет машина, заворачивает в разъезд и ждет, пока встречная машина не проедет. И этим-то проездам я поехал. Очень интересно. Там, начиная от Магадана, все реки впадают в Колыму; переваливаешь хребет - все реки впадают в Индигирку; преодолеваешь еще один перевал - и все реки впадают в Лену. Приехал я на эту базу. Но что ж я там делать буду?
Я там и не думал устраиваться. Смотрю, пароход пассажирский стоит, «Лермонтов» называется. Договорился я из одним из механиков, не бесплатно, конечно. Завел он меня в свою каюту, но это заметил уполномоченный - меня за шкирку, и... статья: дезертирство во время войны, побег с оборонной промышленности. Колыма считалась оборонной промышленностью, и я уже как бы дезертир. И грозит мне 7 лет заключения и три - поражения в правах. Думою себе: тут надо выкручиваться, ведь еще 10 лет не переживу - погибну.
Арестовал меня капитан Семиряков, вредный. Вижу, что с ним каши не сваришь. Но тут, на мое счастье, переводят куда-то этого Семирякова - приезжает майор Мисалов. Вижу, мужик такой лояльный. Я ему пытаюсь лапши на уши навешать:
- Знаешь, что: мне дезертирство приписали, хотя я был сюда прислан. Я зашел на пароход, чтобы поразговаривать, а он арестовал меня...
- Ничего не могу сделать. Как есть, так в трибунал и подадим.
- Знаешь, что: ты человек, и я человек. Я имею одну вещь, я ее тебе дам. А ты сделай так, чтобы я не сидел.
А были в меня очень хорошие часы французской марки «Лепаж», в золотом корпусе с восемью бриллиантами по четверти карата. К часам и браслетик золотой был. Я выиграл эти часы еще на витаминной фабрике в одного вольняшки в карты. Рассказываю я ему про эти часы, о том, что спрятал их где-то под деревом. А он были у меня к лодыжке прибинтованы.
- Если хочешь убежать, то и не надейся: тут некуда...
- И не собираюсь. Так пошли?
Вечером стемнело, пошли. Я присел к дереву, погребя ради отвода глаз в траве, а уже до этого достал из-под штанины часы и держу в руке. Говорю: «Вот!»
Он взял, засветил фонарикам:
- Да, хорошая вещь. Ладно, но придется посидеть.
Тут и его переводят в Адыгалах, это за 700 километров оттуда. Берет он и меня туда, там я еще три месяцы должен отсидеть, всего вместе - пять. Как он делал: пишет запросы, ждет ответы. Приходят ответы - он их рвет; протянул так время и меня согласно с какой-то статьей освобождает. Имею памятку об этом происшествии:
МВД СССР
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исполнительного комитета Магаданского
областного Совета депутатов трудящихся
11 ноября 1976 г. № 8/ II-97
230027 БССР, г. Гродно,
ул. Лизы Чайкиной, дом 49, кв. 87
СПРАВКА
Выдана гр. ПОПОВУ Ростиславу Михайловичу 1914 года рождения, уроженцу г. Минска в том, что он 22 июня 1944 года был арестован УНКВД по Дальстрою.
Постановлением военного прокурора управления Дорожного строительства Дальстроя НКВД СССР дело прекращено по ст. 204 УПК РСФСР /редакция 1926 г./ и он освобождён 16 ноября 1944 года.
Зам Начальник ИЦ УВД Магаданского облисполкома
СЛОБОДИН
Д-44
Посылают меня прорабам на строительство дороги Малый Артык, она и теперь на карте есть. Там я проработал долгое время, ибо выехать оттуда был неволен, никто не отпускал. Однако я обманул генерала Никишева.
Случилось это в дорожном управлении Усть-Неры, которое строило мост через речку Неру. Приезжает вдруг Никишев, генерал-полковник НКВД. А у него адъютанты, охрана! А я как раз пришел с отчетом. Дай, думою, попробую: а может, и выйдет. Лезу на прием к ему на прорыв, а адъютанты, майоры эти, начали меня выставлять, шум получился. Услышал Никишев, спросил, в чем дело. А начальник управления, Беседа, хохол, добрый мужик, пьяница хороший, выглянул да говорит яму, что, мол, это наш прораб Попов.
- Пропустите. В чём дело? Что такое? - генерал ко мне (морда такая красная, как свекла).
- Слушайте, начальник Дальстроя! Я работаю прорабам, мне работа очень нравится. Я тут готов всю жизнь работать. Мне этот климат нравится, но у меня в Минске осталась старенькая мать. Ей нужна помощь. Дайте мне хоть месяц поехать взять ее, привезти сюда.
Генерал Беседе:
- Видишь? Вот где наши кадры! Видишь?
И ко мне:
- Хватит тебе два месяца?
- Хватит месяц! - (мне лишь бы вырваться от вас, думою себе).
И, тяжело поверить, он отдает распоряжение! Тут я заносился. Полетел, снял с книжки все деньги и с первой попутной машиной - на Магадан. Доехал одною до Сусумана, второю - до Нагатки, третьею - до Палатки. Примчался в Магадан. Надо сфотографироваться на международный паспорт, ведь надо будет плыть по международным водам... На пароходе, потом по железной дороге - добрался в Минск.
На родине
В Минске побыл месяц. Деньги разошлись... Надо работать. Куда пойти? А пойду я дороги строить. Обратился в Главное управление Техупшасдора. В моих документах отмечено, кем я там работал, и меня направили начальникам дистанции на участок дороги Пинск-Лунинец. Поработал, может, с месяц - вызывает меня Баранов, начальник управления, бывший партизан, мы с ним чарку пили.
- Попов, - говорит. - Ты с Колымы сбежал, тебя ищут.
- И что же мне делать? - спрашиваюсь у него.
- Бери срочно расчет и съезжай из Беларуси, а не то под конвоем отправят туда.
И я как рванул оттуда, да ходу на Украину. И потеряли они след, и больше не искали. Заехал в Каховку и проработал там до 56-го года, затем вернулись мы с женой в Беларусь, в Гродно. С этого года я как стал у одного хозяина работать, так этот хозяин только вывески менял. Когда я устроился, называлось учреждение УНР. Где теперь театр, там был некогда монастырь мужской, а рядом стоял дом двухэтажный - это и была контора моей фирмы. Потом она стала называться СУ-51, затем ПМК-2, а теперь ПМК-146. Теперь эта контора размещена на Замковой. Я в ей проработал 23 года вплоть до пенсии, а на пенсию я пошел по льготе в 55 лет. За 5 лет лагеря я, как реабилитированный, имею 15 лет стажа, за 5 лет работы вольнонаемным на Колыме имею 10 лет стажа. Линейный стаж я выработал. А выглядел я в 55 лет еще довольно молодым, так некто пустил слух, что я себе документы подделал. Даже бывший городской прокурор Слабуха должен был заняться этим делом. На мое счастье, я всю войну просидел на Калыме, и оттуда подтвердили, что родился я в четырнадцатом году. А чекисты ошибаться не могут! Тут уж от меня отстали.
Теперь мне платят пенсию по трем коэффициентам: первый – по причине реабилитации, второй - что я инвалид, а третий - за то, что имею более 80 лет. Теперь я получаю семьсот сорок две тысячи, так что это богато против остальных. Мои люди, друзья ассоциации жертв политических репрессий, и того не имеют.
А эти-то палачи, которые в лагерях были, - они вон, на Фолюшы живут - вся грудь в орденах. Я с одним разговорился, гуляя в парке. Он меня и спрашивает:
- А где ты работал?
- А я работал... на Колыме.
- Ты что, в заключении был?
- Нет, я по договору туда поехал.
- А-а-а, а где?
- Такой-то прииск.
- И что делал?
- Прорабам все время работал, начальникам участка.
- А я работал кумом.
«Ах ты, сволочь! - думаю я себе. Сколько же ты людей на тот свет отправил!» У него - я насчитал - 25 колодок. Кумом! Так он, представляете, какую пенсию имеет? Он по меньшей мере звание полковника имеет, все мои льготы. Тогда он их имел и теперь.
Устроено наше общество так. Кто был привилегированным, тот им и остался, а кто не был, тот и умрет в нищете и отчаянии.
/Расціслаў Папоў. КГБ – оберкат краіны саветаў. // Ніколі болей... Кніга ўспамінаў. Укладальнік Міхал Патрэба. Наша Будучыня. Вільня 2000. С. 15-28./
Степан Николаевич Гаранин родился 12 декабря 1898 г. в Российской империи (на территории теперешней Республики Беларусь). После окончания деревенской школы в 17 лет пошел работать в кузницу. Был позван в армии, где дослужился до чина унтер-офицера. С 1918 г. в РККА. С декабря 1919 г. член РКП(б). Участвовал в боях с армией А. И. Деникина. С 1 сентября 1920 г. по май 1921 г. находился в плену в поляков, откуда совершил побег. Закончил Высшую пограничную школу. Родители жены как кулаки были высланный в Котлас, а он за связь с ними получил в 1935 г. строгий выговор. К октябрю 1937 г. был начальникам 15-га Заславльскога пограничного отряда НКВД БССР, который соседствовал с 16-м Койдановским пограничным отрядом. Награждался нагрудным знаком Почетного работника ВЧК-ОГПУ, грамотой ЦИК БССР, боевым оружием, получил звание полковника. 1 декабря 1937 г. прибыл в Магадан и с 19 декабря 1937 г. начал исполнять обязанности начальника Северо-восточного исправительно-трудового лагеря. С его именем связывают массовые репрессии в лагерях «Дальстроя» на Колыме, которые получили название «гаранинщина». Гаранин собственноручно расстреливал по несколько, а порой несколько десятков человек ежедневно. Убивая, смеялся или напевал веселые частушки. Бывало Гаранин стрелял и в комендантов лагерей. 27 сентября 1938 г. он был арестован, как японский шпион, и 30 мая этапирован в Москву, где был посажен в Сухановскую тюрьму. 17 января 1940 г. Особым совещанием НКВД СССР Гаранин был осужден к 8 годам ИТЛ, затем срок нахождения в лагере был продлен. 3 июля 1950 г. Гаранин умер в Печорском ИТЛ. 3 июля 1989 г. по ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношениях жертв репрессий, которые имели место в период 1930-1940-х годов» был посмертно реабилитирован.
Айку Заславская,
Койданава