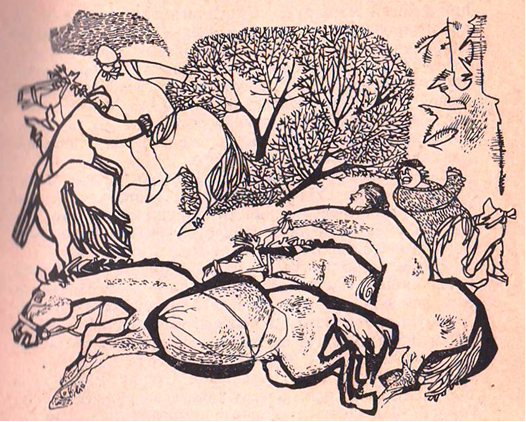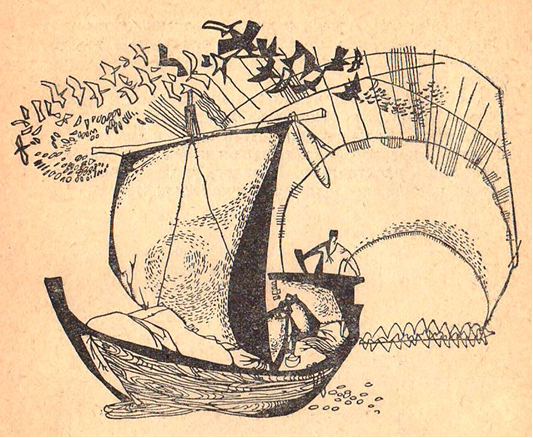Глава первая
Есть люди, о которых мы
Пока сказаний не сложили,
Они для нас на свете жили,
Для нас горели их умы.
Если бы люди не путешествовали, как бы они узнали о красоте и величии мира!..
— Нет, я не первый, пришедший в эти места!
Черский откинул перо, отодвинул рукопись, встал из-за стола. От коптилки шел тошнотворный запах тюленьего жира, желтый язычок ее склонялся набок, лохматая тень Черского шевелилась на стене.
Он потушил коптилку, хрустнул усталыми пальцами, посмотрел в окно.
Над Якутском начинался рассвет; желтые, похожие на папоротник перья бесшумно возникали в небе. По Лене ползли белые плотные клубы тумана, грязные улицы жирно блестели, деревянные тротуары были засеяны крупной росой.
— Нет, я не первый, пришедший в эти места, — задумчиво повторил Черский. — Сколько было их, знаменитых и безвестных предшественников, что открывали пустыни русского Севера, переплывали гигантские сибирские реки, исследовали непроходимые леса?
Сколько их, людей мечты и долга, научного подвига, нешумной любви к России? Неграмотные землепроходцы, крепостные рабы, замордованные мужики, непокорные декабристы, беглые каторжники — их мужеством была открыта, исследована, покорена Сибирь. Черский задумался. «Много их, знаменитых и безвестных землепроходцев русских. Помню их путешествия, их трудную, горькую жизнь, их подвиги и открытия, прославившие Россию.
Придет время, я напишу о них книгу. Но для этого надо быть поэтом. Ведь каждый из землепроходцев достоин вдохновенной поэмы...»
Из глубин трехсотлетнего прошлого его память извлекла незабвенные имена предшественников. Михаил Стадухин, Иван Москвитин и Семен Анабара, Василий Поярков и Ерофей Хабаров, Семен Дежнев и Витус Беринг, Федот Алексеев и Василий Прончищев скорбной вереницей прошли перед глазами.
И тотчас же возникли другие — тени не столь отдаленных времен.
Друг юного Пушкина, мичман Матюшкин, искавший с Фердинандом Врангелем земли к северу от Чукотки.
Явился к нему Гаврила Сарычев, русский ученый, помогавший Беллингсу заносить на географические карты берега Восточной Сибири.
Шествие замыкали бесстрашный северолюбец Литке и суровый адмирал Нагаев.
Черский наклонил почтительно голову, адмирал кивнул в ответ и исчез.
Перед ним встали молодые капитаны и, в торжественных седых бородах, адмиралы морского флота Российской империи.
Простые русские лица матросов, черные косящие глаза проводников-юкагиров, приземистые фигуры проводников-орочей проходили в его воображении.
На морских, цвета зеленой травы волнах закачались вертлявые карбасы, хлюпкие кочи, тяжелые корветы.
С набухшими заснеженными парусами промчался корвет Витуса Беринга.
Запрокинув смоленые кедровые мачты, опустился на дно Охотского моря коч Федота Алексеева.
Крохотная дубель-шлюпка Василия Прончищева хрустнула, как орех, сжатая льдами.
Украшенная пером розовой чайки, чукчанская боевая стрела вонзилась в сердце Михайлы Стадухина. Прижимая к пронзенному сердцу руку, землепроходец сделал еще два шага вперед и упал...
Упал головою на север, туда, где у берегов Ледовитого океана сражались с метелями и морозами его отчаянные друзья...
В одинокой тишине избушки, глядя на вспышки северной зари, Черский прошептал:
— Мичман Матюшкин...
И хотя он не был поэтом и всегда удивлялся, как это можно сочинить стихи на рифмы «мир — кумир», «кровь — любовь», он мысленно зарифмовал фамилию «Матюшкин», с фамилией «Пушкин».
И улыбнулся.
— Всякий чудак поймет, что нельзя рифмовать «Матюшкин — Пушкин». Но при чем здесь поэтические законы? Мне важнее иное свойство поэзии. «И на обломках самовластья напишут наши имена». Напишут наши имена!
Он дважды повторил пушкинскую строку.
— Я знаю имена своих предшественников со школьной скамьи. Они, это они привили мне любовь к путешествиям...
Черского звал русский Север. Ему хотелось узнать, как живут его народы, куда текут могучие реки, по каким меридианам и параллелям идут его горные хребты. Всю свою жизнь Черский стремился на Север, только на Север!
И вот он здесь. Но каким чудовищным, каким тяжким путем!
Черский вздрогнул. Ненависть, скользкая и противная, как электрический угорь, пробежала по сердцу и погасила ненужный свет воспоминаний. Его глаза опять устремились на тетрадь, в которой призывно чернела фраза: «Нет, я не первый...»
— Кого же из прошедших по Северу я должен выделить особливо? Кого?
...Михайло Стадухин.
Его жизнь была короткой, но громкой, как выстрел. Два века назад этот буйного нрава якутский казак с кучкой своих бесшабашных единомышленников на маленьком коче шел вдоль морских берегов до тех пор, пока не достиг устья Колымы-реки.
Михайло Стадухин. основал на Колыме первую русскую зимовку. Отсюда он пытался проникнуть на реку Анадырь. Снежные бури возвращали его коч к суровому устью. Он начинал сызнова свой путь, и бури опять относили его назад. Казак не сдавался. В 1651 году он решил пробираться на Анадырь сухопутным путем. На этом пути Михайло Стадухин открыл Пенжину. Он достиг Анадыря, перезимовал на нем, собирая ясак с чукчей и ламутов в казну самодержца всея Руси. Но он был сыном своего жестокого века и начисто грабил местных жителей. Они восстали против Стадухина, и землепроходец был сражен чукчанской, оперенной пером розовой чайки стрелой.
...Василий Прончищев.
В начале восемнадцатого века он был одним из начальников Великой Северной экспедиции. Упрямо, с изумляющей настойчивостью устремился он на берега таинственной Колымы.
В 1735 году прошел он из устья Лены до Оленека. В невыносимо трудные дни этого путешествия Прончищев открыл полуостров Таймыр.
Может быть, из всех предшественников Черского милее, ближе, дороже Василий Прончищев? А чем же, чем? Да, может быть, тем, что Прончищев, подобно ему, устремился на Север вместе с женой Марией. Маленькая синеглазая Мария Прончищева! Как похожа на нее его Мавруша! Та же открытая человеческой боли душа, та же несгибаемая воля, та же вера в успех.
Василий Прончищев умер в открытом море, на дубель-шлюпке. Через пять дней после его смерти матросы опустили в Ледовитый океан и жену.
Провожали их снежные тучи
И полярных сияний огни.
Даже в смерти своей неразлучны,
Уходили в пучину они...
Острый холодок страха обдал Черского. Что будет с женой и сыном, когда он умрет? Ведь он же знает: скорая смерть его неизбежна. Болезнь пока притаилась где-то под сердцем, но она вот-вот вырвется и искогтит его тело. Нет, лучше не думать о смерти, когда впереди лежит неизведанный, почти не открытый край.
А кто же третий?
Им был Гаврила Андреевич Сарычев.
Знаменитый гидрограф. Адмирал русского флота. Человек нежной души и отчаянной храбрости. Совместно с Беллингсом он обследовал и нанес на карту берега Северо-Восточной Сибири.
Это он, изучая течение северных рек, ровно семь лет путешествовал по Индигирке и Колыме. Он составил карту Индигирско-Охотского края. И карта эта дала возможность географам мира получить первое представление о русском Севере.
Сарычев не завершил всего задуманного. Подобно своим предшественникам, он погиб под северным сиянием, в неодолимых метелях Колымы. Но, смертью смерть поправ, встает его живое имя...
Черский выпрямился на стуле и оглядел темную избушку. Спят все. Спят жена, сын, проводник, спит безалаберный Генрих.
Мысли снова перенесли его к великим землепроходцам.
А четвертым своим предшественником он назовет Фердинанда Петровича Врангеля.
Из всех адмиралов русского флота он был самым удивительным. Он участвовал в кругосветном плавании Головнина, был начальником экспедиции, что искала для Русской империи новые земли у берегов Чукотки. Четыре года плавал он у северных берегов Азии. Впервые в истории русской географии его экспедиция проводила навигационные, геомагнитные, климатические исследования. Сто пятнадцать астрономических пунктов на северных берегах поставил Врангель.
Фердинанд Петрович много лет был правителем русских колоний на Аляске. Он боролся с хищниками, уничтожающими там пушного зверя, заботился о русских колонистах, индейцах и эскимосах. Когда Врангель узнал, что царь продает Аляску американцам, он послал ему письмо. А в письме было только одно слово: «Протестую!..»
По следам землепроходцев двинулись на Колыму новгородские, устюжские, иркутские купцы.
Годами продолжались их путешествия. На утлых кочах, на собачьих нартах, пешком через горные перевалы и распадки шли купцы на Колыму. Их караваны затирало льдами, заметало метелями.
Черные тропинки купеческих путешествий иссекли колымские пустыни, и все же мало кто знал о Дальнем Севере русской земли.
Русские люди совершили великие географические открытия во всех частях света.
Витус Беринг добрался до северных берегов Америки.
Шелехов поднял русский флаг над Аляской и Калифорнией.
Крузенштерн и Лазарев открыли Антарктиду.
Миклухо-Маклай изучал быт и нравы новогвинейцев.
А огромный Колымский край все еще оставался «белым пятном» на географической карте мира...
И вот теперь ему, Ивану Дементьевичу Черскому, предстоит невероятной трудности задача — заполнить, стереть на картах мира это «белое пятно». С этой целью Российская Императорская Академия наук направила его в трехгодичное путешествие на Колыму, Яну и Индигирку.
Долго и тяжело добирался Черский до Якутска. Но Якутск — только этап нового, еще более опасного, двухтысячеверстного пути на Верхне-Колымск.
Впереди лежат бурные реки, ледяные болота, горные кряжи, таежные дебри. Без опытного проводника просто безумие пускаться в такую дорогу...
Черский сел к столу и опять заглянул в позолоченное зарею окно. Заря все сильнее овладевала бледным северным небом; тихие розовые лужицы света сливались в сплошные малиновые потоки, потоки превращались в густые медные заводи, в которых таяли острова облаков.
Черский смотрел на мокрые крыши домишек, ослепшие от зари окна, бронзовые столбы утренних дымов, встающих над печными трубами, а думал только о том, когда найдет проводника и покинет Якутск.
Вчера он был у якутского губернатора и беседовал с ним о предстоящем путешествии. Губернатор, высокий красивый старик с выхоленными седыми бакенбардами, вежливо и предупредительно слушал путешественника. Губернатор понимал все огромное значение экспедиции, организованной Академией наук, на северо-восточную окраину империи, подчиненную его власти. Правда, губернатор лучше представлял себе бассейны Амазонки и Нигера, чем Индигирку или Колыму. За время своего губернаторства он раза три выезжал для знакомства с краем, но это знакомство ограничивалось окрестностями Лены.
Губернатор был искренне удивлен смелой экспедицией Черского. Он радовался, что эта экспедиция привлечет внимание русского просвещенного общества к северо-востоку страны и его особе. Он боялся, что господин Черский будет просить помощи, а это и хлопотно и неполитично. Губернатор получил тайный приказ вести негласное наблюдение за путешественником. Ему прекрасно известно, что Иван Дементьевич Черский — политический преступник, двадцать лет отбывавший ссылку в Сибири. А преступник остается преступником, хотя он и крупный ученый, и путешественник, и облачен доверием Императорской Академии.
Губернатор был доволен в душе: господин Черский не просил у него ни помощи, ни содействия — ничего, кроме опытного, знающего местные условия проводника.
Выслушав просьбу Черского, губернатор вяло пожевал губами, расправил холеные бакенбарды, сказал убежденно и веско:
— Путь через Оймякон в Верхне-Колымск хорошо знает только Степан Расторгуев. Это местный казак и житель, человек бывалый и многоопытный. Он сопровождал меня во время моих скромных путешествий по Лене. Если Расторгуев согласится стать вашим проводником, можете быть спокойны, господин Черский. Поговорите с Расторгуевым, сошлитесь на меня в разговоре. Я уверен, — губернатор подчеркнул последнее слово, — уверен, что Расторгуев согласится...
Черский вспомнил бледное, почти меловое лицо губернатора, его зеленоватые тусклые глаза, вялый рыбий рот и усмехнулся.
«Он даже не спросил, в чем я нуждаюсь. Ну да бог с ним! У его превосходительства все заботы уходят на слежку за неблагонадежными. А я ведь для царских властей — личность подозрительная».
Он снова уже горестно, усмехнулся и закрыл рукопись. Это был его «Проект помощи местным жителям Севера». Писал он его урывками, писал, не веря, что правительство использует его предложения или одобрит советы. Удивительно, до чего трудно заниматься делом, в успех которого мало веришь!
Якутск просыпался. По улицам замелькали люди, забегали собаки, домашний олень заглянул в окно такими печальными глазами, что Черскому стало не по себе. «Совершенно человеческий тоскующий взгляд», — подумал он и вышел на улицу.
Придется разыскивать этого Расторгуева. А где же его искать?
Глава вторая
Руками он закрыл лицо:
— Кто поведет тропою дерзкой?
— Однако, вы не из купцов?
— Нет, я исследователь Черский. —
Из полусумрака к нему
Шагнул охотник рыжеватый.
— А вы?
— А я из провожатых,
Купцов вожу на Колыму.
Расторгуева он нашел в кабаке.
Черский присел к столику, такому же грязному и жирному, как кабатчик. На побуревшей клеенке кем-то было начертано углем похабное слово.
С простенка на путешественника сердито смотрело толстое бородатое лицо Александра Третьего: зеленые мухи ползали по царскому портрету, оставляя на нем следы. «Всероссийский самодержец чертовски подходит к грязному кабаку», — решил Черский и спросил у кабатчика:
— Вы, случаем, милостивый государь, не знаете Степана Расторгуева?
— А зачем вам его надоть? — немедленно отозвался Степан и, оставив компаньонов, подошел к Черскому. — Это и буду я...
— Очень рад познакомиться. Меня зовут Иван Дементьевич, я начальник экспедиций из Санкт-Петербурга...
— Маненечко слыхали. — Расторгуев осторожно пожал худую бледную руку путешественника.
Коренастый казак был широк в плечах, ладен собой, рыжеволос и голубоглаз. Был он одет в болотные, выше колен, сапоги, в черные, из «чертовой кожи», штаны, в синюю ситцевую косоворотку. Из-под распахнутого ворота виднелся серебряный крестик. Поверх рубахи Расторгуев носил меховую куртку-безрукавку. Тяжелые, в ржавых веснушках и застарелых царапинах руки, сердечное выражение ясных веселых глаз Расторгуева вызывали симпатию и доверие.
Хмурые бородатые люди, ленские золотоискатели, якутские рыбаки — компаньоны Расторгуева по выпивке недоверчиво покосились на Черского. Жирный грязный кабатчик засуетился, предлагая водки и копченой медвежатины.
— Присаживайтесь. Мне надо с вами потолковать.
Черский усадил Расторгуева, снял очки, тщательно протер их носовым платком. Карие близорукие глаза его лихорадочно поблескивали, на впалых щеках выступили туберкулезные пятна. Хрупкое, с прозрачной кожей лицо путешественника поразило Степана. «Больной, кабыть, человек».
Черский надел очки и стал строже, сосредоточеннее.
— О чем же мы толковать будем, господин хороший? — спросил Степан.
— Мне надо попасть в Верхне-Колымск.
— А зачем вам туда надоть? В Верхне-Колымск путь дальний. Это не сто верст по тайге отмахать. А вы, кабыть, со здоровьишком не в ладах. Правду сказать, больному человеку опасно пускаться в дальнюю дорогу. Страховито.
Черский досадливо поморщился, но промолчал.
— Вы один в Верхне-Колымск али с кем в упряжке пойдете?
— Со мной жена, сын и еще один человек, родственник, — улыбнулся Черский. Бесцеремонные вопросы Расторгуева забавляли его.
— Всей семьей, значит, путешествуете. А все-таки што вам спонадобилось в верхне-колымской дыре?
— Я еду по поручению Императорской Академии наук.
— А што же вам там надоть? — назойливо переспросил Степан. И, не дожидаясь ответа, добавил: — Если за соболями, то рано.
— Я — ученый, путешественник, — пояснил Черский, чувствуя и сожалея, что на Расторгуева его слова не производят никакого впечатления.
— Ага, понимаю. Я же говорю, господин купец, сейчас рано за соболями. Якуты и юкагиры промышляют красного зверя зимой.
— Я — ученый, — повторил Черский, — мне не надо красного зверя...
— И много везете товара? И что за товар? Сейчас, в Верхне-Колымске большой спрос на муку, на соль, на водку.
— Послушайте, милый вы человек, — тоскливо сказал Черский. — Я еду по особому, чрезвычайному поручению Императорской Академии. Ничего не покупаю, ничего не продаю. Мне нужен проводник, знающий дорогу из Якутска в Верхне-Колымск. Мне рекомендовал вас губернатор...
— Ага, Понимаю! — самодовольно, усмехнулся Расторгуев. — Я возил их превосходительство по Лене. Чуть-чуть не подохли в тайге. И с купчишками мотался в Верхне-Колымск. Дорогу знаем, почему не знать, дело бывалое.
— Сколько же вы возьмете до Верхне-Колымска?
— А ни копейки! — Расторгуев опять пристально посмотрел на исхудалое лицо Черского.
— Я не могу пользоваться вашими услугами бесплатно.
— А что нам торговаться? Я не буду вас провожать на Колыму-реку. Вы по дороге, не дай бог, помрете, а я отвечай? Несподручно, извиняйте.
Голубые озорноватые глаза Расторгуева остановились на карих задумчивых глазах Черского. Степан понял: не купец перед ним и не царский чиновник, но он снова упрямо повторил:
— Извиняйте, не пойду.
— Подумайте, я не тороплю.
Черский вышел из кабака. Степан заказал водки. Пухлый кабатчик лукаво подмигнул.
— Зазря отказался. Господин петербургский здешних порядков не знает. Его как липку обобрать можно: Ученый какой-то.
— Какой ученый?
— А шут его знает. Ученые, брат, человеки бестолковые.
— Ты хайло-то не раскрывай, — насупился Расторгуев. — У тебя душа лишь от золота светла. Знаю тебя не хуже себя.
Расторгуев любил погулять в свободные часы. Был он весел умом, щедр душой, ставил за штоф последнюю копейку, не любил пить на дармовщину. Он бросил на стойку золотой, и началась гульба.
Старатели звали Степана с собой в тайгу, на поиски «желтого дьявола», рыбаки соблазняли неслыханными уловами в ленской дельте. Расторгуев в пьяном азарте соглашался поехать и с теми и с другими, а перед глазами все стояла высокая фигура странного русобородого человека.
— Ишь ты, едреный шиш, ученый! И чево ему надо в Верхне-Колымске? Сколько непонятных людей живет на свете! Провожал я на Колыму-реку купцов. Ну, купцы — народ ясный. Им только бы у юкагиров соболей на водку менять, у якутов мамонтов клык брать. С собой везли сущие пустяки, в Якутск шли — нарты от пушнины ломились. Идешь с купчиной по стойбищам — так тебя самого якут за разбойника принимает. А этому бородатому чево? Академия наук императорских...
Степан вспомнил печальные глаза Черского, посмотрел на упившихся приятелей, на студенистое лицо кабатчика. Нахмурился. Пожевал крепкими красными губами. «Не человеки — скоты! А я зря хорошему человеку отказал. До Оймякона с ним дойти можно. В Верхне-Колымск далековато, а в Оймякон можно. Ведь водил же я на Оймякон старателей. Правда, водил, да закаялся. Наобещают златые горы, а сами из тайги на карачках ползут. От голода пухлые, от мороза гнилые. Не смотреть на них стыдно, посмотришь — жаль. И почему это человеки на золото падки?»
Кабатчик дремал у стойки, старатели храпели, положив косматые головы на столы, устилая бородами залитые водкой клеенки. Только один старый безносый старатель, потерявший свой нос на шестидесятиградусном морозе, говорил молодому парню, тяжко ворочая языком:
— А и чудной же человечишка, что со Степаном балясничал. Говорил намедни: «Я — человечишка от науки, меня мамонты интересуют. Кто меня за мамонтами в тайгу поведет?» А сам — ни кожи, ни рожи, еле-еле душа в теле. Небось и Степана нашего сейчас за мамонтами в поход подбивал...
— За мамонтами? — в пьяном испуге переспрашивал парень. — Ас чем их, мамонтов, жрут?
— Костяной рог, что из земли выпирает, видал?
— Спрашивай! Я его купчишкам по гривеннику за штуку таскал. Ловко обдирал оглоедов. Как рог — так гривенник. А за три штуки по полтиннику срывал.
— Этот худущий из Петербурга костяных рогов не берет. Ему мертвый труп мамонта подавай. Говорит, на Колыме-реке мамонтов труп объявился. Вот, говорит, к нему меня и провести надо. Его в тайгу завести и вокруг пальца обвести — плевое дело. Уж больно, видать, доверчив. Да я не из тех, которые вокруг пальца обводят. Не люблю обижать доверчивый народишко.
Степан прислушивался к словам безносого старателя и продолжал рассуждать с самим собою:
«Зря, зря отказал я господину Черскому. С кем только в тайгу не хаживал, а ему отказал. С урядниками по улусам ясак собирал. Те, правда, далеко в тайгу не заглядывали. А может быть, согласиться? Жалко человека. Попадет в руки какому-нибудь прощелыге, без штанов останется. Черский — господин сурьезный, колымской землицей любопытствует, не чета якутским чиновникам. А поведу-ко я его до самого Верхне-Колымска!»
Глава третья
На кочах, на собачьих нартах,
Пешком, ползком через хребты
Шли люди долга и мечты,
Чтоб занести для нас на карты
Хребты отменной высоты.
Невозможно не удивляться составу экспедиции Черского.
И на самом деле, вся экспедиция состоит из четырех человек.'
Мавра Павловна — жена и верная подруга в его странствиях по Сибири и Северу. Второй, правда не очень надежный и полезный помощник, — племянник Генрих. И третий, двенадцатилетний сынишка Саша, отправился с ними только потому, что его не с кем было оставить в Петербурге.
Мавра Павловна была невысокой тридцатилетней женщиной с ясными глазами, в которых жили ум, воля и доброта. Над крутым высоким лбом строгой белокурой волной поднимались легкие волосы: Мавра Павловна зачесывала их назад. Простое русское лицо ее со слегка вздернутым носом и крупными губами казалось грубоватым, но мягкая улыбчивость придавала ему нежную прелесть. Она носила длинные темные платья, наглухо застегивая воротничок яшмовой брошкой.
Степан Расторгуев оказался расторопным проводником. Он пришелся по душе как Мавре Павловне, так и самому Черскому. Отлично владея якутским языком, неграмотный, нигде не бывавший, кроме пустынь Севера, он умел торговаться с подрядчиками, закупать выносливых якутских лошадок, дешево и выгодно приобретать провизию. Исполненный спокойного мужества и несокрушимой силы, он стал верным помощником Черского.
Иван Дементьевич забыл про свою мучительную болезнь. С утра и до вечера он бегал со Степаном по Якутску в поисках лошадей и провизии, покупал ружья, ящики для гербариев, рыболовные снасти, мешочки для хранения геологических образцов. Черский торопился, хотел в середине июня выступить из Якутска. Ведь экспедиции предстояло в шестьдесят дней пройти до Верхне-Колымска.
Для Степана Иван Дементьевич все еще был человеком-загадкой. Он не понимал ни целей, ни задач экспедиции. Впервые ему пришлось служить проводником людям, которые едут в тайгу не по торговым делам, а для чего-то другого, для какого-то сложного ученого труда. Раскрывать тайну колымской тайги? Какие же тут тайны и для чего они нужны? Измерять течение колымских рек? А как и чем их измеришь? И какая от этого польза? Собирать камни, ловить зверьков и рыбешек, делать из них чучела, спиртовать их в особых банках — детское и смешное занятие! Но все это казалось Степану необычным, новым, загадочным, а он был жаден на все необычное.
Степан с таинственным видом рассказывал бесчисленным своим знакомым об экспедиции и его начальнике.
— Иван Дементьевич — богатый петербургский князь, друг самого царя. Царь наказал ему разузнать, как живут местные жители, не терпят ли каких обид и притеснений от его властей. Господин Черский — башка! Все слышит, все видит, все знает. Еще и на Колыме не был, а знает всех тамошних рыб, зверей и пичужек. И куда текут реки, и где берут они свое начало, и какие народы кочуют в тайге.
Благодаря россказням Расторгуева слава о «бородатом витязе» покатилась по таежной земле, к берегам Алдана, на далекую Индигирку.
К 14 июня 1891 года сборы экспедиции были закончены. Было упаковано восемьдесят пудов разных грузов, вьючные ящики обтянуты кожей, сшиты дорожные сумы из тюленьих шкур. С собою Черский взял лишь самое необходимое, остальную — главную часть груза якутский купец-подрядчик Бережнев обязался доставить в Верхне-Колымск.
В ночь перед выходом из Якутска Иван Дементьевич решил написать в Академию наук письмо. Сидя среди дорожных вещей, он аккуратным и красивым бисерным почерком писал академику, известному орнитологу, директору Зоологического института Академии наук Федору Владимировичу Плеске.
«Милортивый государь!
Вообразите городок, обреченный на его упразднение законом, строго воспрещающим всякий ремонт возведенных до сих пор строений, и вы составите себе понятие о впечатлении, какое роковым образом должен произвести Якутск на человека, приехавшего из южных частей России.
Замечательно почерневшая, дряблая и поросшая желтым лишайником наружная поверхность построек, провалившиеся крыши, даже на «Большой улице» покинутые дома без рам в зияющих окошках, нередко развалившиеся заборы...
Не одновременны ли эти постройки с тем замечательным историческим памятником, который возвышается здесь же на Кафедральной площади в виде столь же черной трехбашенной крепостной стены, возведенной первыми завоевателями этой местности?..
Но все эти абстрактные думы должны были скоро рассеяться сознанием, что дряхлый городок этот является местом моего окончательного снаряжения и исходным пунктом исследования. Итак, за дело!»
Он перечитал лирико-географическое свое вступление и чуть заметно улыбнулся. «Как далеко от меня академик Федор Владимирович! Когда он прочтет эти строки, я уже буду в Верхне-Колымске. Грандиозно пространственна наша Россия! А сколько в ней еще неоткрытых, неисследованных, необжитых мест? И мне ли не гордиться таким заданием Академии? Мне поручено прокладывать путь в места неизвестные и почти недоступные. Почему «почти»? Места совсем недоступные». Он опять тихо улыбнулся и разгладил пальцами бороду. «На земле нет недоступных мест. На Колыме живут якуты, орочи, юкагиры. То, что кажется трудным для европейца, для них — легко и доступно. Не надо преувеличивать трудностей. Не надо никогда! Человек может все, если он — человек настоящий!»
Он снова взял перо, но задумался, склонив голову над письмом. Распахнутое окно было врезано в сизую полумглу ночи. На пустынной улице сияла мокрая трава, гнилые заборы, пегие лишайники на черных крышах. По замшелой крепостной стене струились неуловимые блики безлунного света, Лена непомерной ширины походила на жидкое дымящееся олово, и Черский видел два неба — первое, легкое и прозрачное, — над головой, второе, тяжелое и неясное, — в глубине реки. И Черскому показалось, что он находится в центре двух небесных полушарий, разрезанных рекой и медленно вращающихся вместе с ним.
В углах комнаты колебались затончики тьмы, ящики и сумки отбрасывали причудливые путаные тени, но у окна было светло, как при рассвете. Он видел каждую в отдельности букву своего письма. Нет, таких белых ночей не бывает в Санкт-Петербурге. И он торопливо продолжал:
«Якутская ночь, которой мы любуемся в настоящее время, значительно перещеголяла петербургскую: в самую полночь здесь так, как у Вас после заката солнца, даже я могу читать в это время вполне свободно и без утомления глаз».
Написав это, он весело вздохнул: «Ох, если бы я был поэтом! Какие слова, какие поэтические образы породили бы в моей голове северные белые ночи! Я бы создал картину «Ночи света», без всякой чертовщины и тьмы. Ночь, подмывающая на работу, ночь, открывающая безграничные горизонты для творчества и мечты. Природа лишила меня поэтического дара. Ну что ж! Можно быть поэтом и не писать стихов...»
Он долго не отводил глаз от сизого трепещущего окна. Мысли о Севере не оставляли его. Вдруг он подумал о Расторгуеве. «Кажется, я не ошибся, выбрав Степана в проводники. Местный человек, знает край, работящий, энергичный. Такой выкрутится из любого тяжелого положения». Черскому захотелось написать академику Плеске о своем проводнике.
И он продолжил письмо:
«Мой проводник — молодой урядник, бывший уже на Колыме и в Чукотском крае, ездивший из Якутска в Охотск, Гижигу и Петропавловский порт на Камчатке. Само собою разумеется, что каждый из таких господ должен быть на содержании лица, к которому он прикомандирован, так как им не выдаются даже те семь с половиной копеек порционных, на которые, понятно, он не мог бы пропитаться. Но, кроме содержания, ему необходимо будет назначить и некоторое жалование, а в нашем случае это еще и приятнее, так как казак этот оказывается недурным коллектором. Я рад ему, в особенности, что он еще и стреляет недурно...»
С обычной своей обстоятельностью он сообщил академику Плеске обо всем, что успел разузнать по зоологии Якутского края, о рыбах реки Лены, о нравах и обычаях местных жителей. Академик Плеске знает, что Черский отправился на Колыму больным. Пусть же он не тревожится понапрасну. Пусть думает, что друг его теперь совершенно здоров. И Черский закончил свое письмо словами:
«Здоровье и бодрость всех нас удовлетворительны, Все мы томимся одним желанием скорее выступить на поле нашей брани.
Итак, за дело!..»
Утро 14 июня выдалось погожим. Белые одинокие облака торопились на юг, Лену продувал встрепанный зеленым кустарником ветер, а река, приплясывая, спешила на север. Провожать отважного путешественника, «удельного русского князя и витязя», на берегу собралось все население Якутска. Под восторженные возгласы и пальбу из дробовиков началась переправа через Лену.
Лошади и грузы были переправлены благополучно. С левобережья смутно темнели домишки, лавки, крепостные стены заштатного заполярного городка — жалкого форпоста империи на северо-востоке Азиатского материка. Черский помахал рукой, прощаясь с Якутском, не думая, что прощается с ним навсегда. Ему уже не суждено вернуться сюда победителем, ибо отныне каждый шаг его от Якутска — шаг навстречу собственной гибели. Но если бы он и знал об этом, он все равно бы пошел без колебаний и страха.
Есть люди, для которых жизнь, цель и долг — понятия нерасторжимые. А доблесть, подвиг и слава — только слова, звучные, как звон соборных колоколов, и неосязаемые, как огни полярных сияний. Черский не любил болтовни о подвиге и презирал людей, рвущихся к славе. А сам он был человеком, вся сознательная жизнь которого — непрерывный, мучительный, незаметный подвиг. Он еще при жизни заслужил настоящую всемирную славу, но она так и не коснулась его. Слава прошла мимо, как легкое облако над таежною стороной.
Путешествие началось хорошо.
Черский исподтишка наблюдал, как ловко и уверенно вьючили лошадей якуты-погонщики, как сынишка овладевал искусством верховой езды, а Мавра Павловна и Степан бережно переносили ящики с порохом, дробью, инструментами. Он только недовольно закусил губу, когда Генрих отговорился от работы и лег в траву.
Генрих был сыном сестры Черского и прусским подданным. Своим подданством он необычайно гордился и даже письма неизменно подписывал: «Прусский подданный Генрих Иосифов фон Дуглас».
В Петербурге Генрих так настойчиво просил Ивана Дементьевича взять его в экспедицию, что тот согласился. Он не умел и не любил отказывать людям. А Генрих хотя и дальний, но все-таки родственник. Молодой, здоровый, образованный юноша будет отличным помощником в путешествии. Так думал Черский. «Генрих еще не впрягся в работу. В нем еще не вспыхнул огонь путешествий. Ничего, разгорится в дороге».
А по небу все спешили и спешили на юг одинокие облака, а Лена гневно и гордо летела на север. Над левобережными лугами и ивняковыми зарослями переливалось знойное марево, воздух дымился таежным гнусом, озера и протоки задыхались от рыбы. Жаркая погода казалась необычной и странной для Полярного круга.
Черский ехал на крепкой якутской лошадке позади каравана. Травы почти закрывали лошадиный круп, хлестали по ногам, дышали в лицо теплым пьянящим запахом. На Черского накатывались волны цветущего кипрея. Эти цветы захватывали большие участки земли и издали казались красными бездонными протоками Лены.
Буйное половодье жизни на ленской пойме, рост и цветенье трав, даже воздух, шевелящийся и гудящий от гнуса, усиливали радостное настроение.
Это были манящие дали, распахивающиеся перед всеми путешествующими по земле.
Они ослепляют слабых своим сияньем и манят сильных к намеченной цели.
Глава четвертая
Идти дорогой незнакомой,
В ночных лесах, по глыбам льда,
Идти в ущельях дикой Момы
И Верхоянского хребта?
Да разве каждый может это?
Здесь надо патриотом быть.
Героем быть и быть поэтом,
Любовью к будущему жить!
Порядок во всем, точность и неизменность в работе при любых условиях. Никаких отступлений от намеченной программы, никаких поблажек ни в дороге, ни на стоянках. Это было непреложным правилом Черского.
А дел было много. Дважды на день вместе с женой Иван Дементьевич определял высоту местности, записывал температуру воздуха, вычерчивал пройденный маршрут. Охотились за зверьками и препарировали их, собирали ягель, багульник, дикую смородину, шиповник, таежные цветы.
— И скромная фауна и небогатая флора здешних мест еще плохо известны отечественной науке нашей, — говорил Черский жене, — Каждый стебелек, найденный нами, кричит о себе как о явлении, которое надо исследовать. Ты же знаешь, Мавруша, для науки нет незначительного.
Сразу же после выхода из Якутска он начал путевой дневник. На стоянках при свете костра он заносил свои впечатления от окружающего его мира. Он умел терпеливо собирать факты и на их основе строить гипотезы.
Экспедиция пересекла плоскогорье между Леной и Алданом и вошла в заболоченные леса. Наезженная тропа превратилась в еле заметную стежку, виляющую по болотам и марям. Лошади по брюхо проваливались в грязь, их развьючивали и вытаскивали веревками.
Якуты-погонщики, Черский и Степан Расторгуев выбивались из сил, разгружая и загружая вьюки. Мавра Павловна и Саша помогали как могли. И только Генрих по-прежнему увиливал от работы. Огонь путешествий не загорался в его душе. Даже свою основную обязанность препаратора он исполнял из рук вон плохо. На стоянках Генрих уходил на охоту и лупил из ружья в божий свет, как в копеечку. Возвращался с охоты с пустыми руками и заваливался спать.
Леность, манкирование своими обязанностями племянника постепенно раздражали Черского. Раздражение нарастало, обращаясь в молчаливый гнев. На одной из стоянок Генрих принес редчайшую птицу — синего гуся и небрежно бросил около костра. Черский сначала восхитился необыкновенной добычей и поздравил Генриха. Взяв в руки птицу, он ужаснулся: голубой гусь был изрешечен дробью. Препарировать изуродованную птицу было бессмысленно.
— Что же это такое? — спросил Иван Дементьевич. — Почему так безобразно испорчена шкура?
— Я зарядил ружье двойным запасом дроби, — Лениво ответил Генрих.
— Науке известно пока только то, что синий гусь существует. И водится лишь на островах Чукотского моря, У тебя было в руках крылатое чудо, а что ты сделал из чуда? Ты лишил отечественную науку...
— Я плюю на отечественную науку, — оборвал разговор Генрих.
Черский не терпел хамства. Багровая пелена гнева покрыла его лицо, губы затряслись, пальцы забарабанили по коленям. Он сорвал с носа очки и произнес медленно и гневно:
— Балбес! Какой же ты невероятный балбес! Только невежда может так говорить о науке. К сожалению, ты не только невежда, но еще и лентяй. Я ненавижу лентяев. Невежду еще можно исправить, но ленивого глупца — никогда!
— Ты ко мне придираешься, дядя! Я действительно совершил глупость, поехав в эту идиотскую экспедицию.
— Это я сделал глупость, взяв тебя в нее!
— Я считаюсь препаратором, ты же заставляешь меня делать грязную работу. Я не грузчик, не коногон, не охотник за всякой летающей и бегающей дрянью. Я пре-пачра-тор, прошу понять! — перешел на визгливый тон Дуглас. Он говорил зло, рыжие усики быстро двигались над тонкой губой.
Черский сузил карие свои глаза и ответил как можно спокойнее:
— Жалею, что ошибся в тебе. Ну да ладно. Теперь уже ничего не изменишь. Для нашей экспедиции скоро наступит самое трудное время. Работать придется много, и это будет грязная работа. Впрочем, я не так выразился. У нас нет ни грязной, ни чистой работы. Есть просто необходимая работа, и ее обязаны выполнять все. Да, все, от меня и до Саши. И тебе придется трудиться не меньше других. Запомни это!
Вспыхнувшая было ссора погасла. Генрих извинился перед Иваном Дементьевичем и пообещал, что будет работать прилежнее.
Тяготы путешествия и физическую усталость Черского облегчали жена и сынишка. Особенно радовал Саша. Иван Дементьевич воспитывал сына в суровой простоте, приучая его к физическому труду и самостоятельности. Саша рос смышленым, расторопным, смелым мальчуганом. Выносливость и любознательность переливались в нем, как лесные ручьи.
Мальчик был до удивления похож на отца. То же тонкое лицо, русые вьющиеся волосы, карие пристальные глаза, красивые, еще не окрепшие, но уже привыкшие к труду руки.
Саша помогал отцу брать образцы горных пород, составлять ботанические гербарии, спиртовать рыб и моллюсков. Черский с молчаливой радостью отмечал, что сын особенно увлечен ихтиологией. Саша сам ловил рыб в таежных речках, заспиртовывал, описывал их и бережно хранил коллекции.
— В нашей экспедиции самый видный ученый деятель Черский-младший, — шутливо говорил Иван Дементьевич. — Во всяком случае самый непоседливый.
Саша быстро выучился якутскому языку. Отцу, свободно владевшему пятью иностранными языками, было приятно видеть в сыне восприимчивость к языкам. Какой отец не гордится, видя в сыне собственные черты и способности!
— Кем бы ты хотел стать, Александр Иваныч? — серьезно спрашивал сына Черский.
— Географом и геологом, как и ты.
— Хм! Я думал, ты будешь ихтиологом.
— И ихтиологом, папа. На земле много морей и мало ихтиологов.
— Ты быстро научился говорить по-якутски. Кажется мне, у тебя задатки лингвиста.
— Путешественнику нужно знать языки. Да ты не бойся, папа. Я изберу одну профессию.
— Ты прав, мальчуган. Человек должен иметь одну, но пламенную страсть.
И, помолчав, он продекламировал из «Мцыри»:
Имел одной лишь силы власть,
Одну, но пламенную страсть!
Черский до беспамятства любил поэзию. Чтение стихов вызывало в нем какое-то странное нервное возбуждение. Он плакал над строками Пушкина, Лермонтова и Мицкевича, наизусть декламировал сотни стихов из Гейне и Гёте. И Черский удивлялся, что сын его не испытывал восторга перед стихами.
Экспедиция медленно продвигалась к берегам Алдана. Чем дальше Черский уходил от Лены, тем непролазнее становилась тропа. Урчали трясины, зыбились аршинной толщины мхи, корни погибших деревьев, шевелились как чудовищные серые осьминоги. Лошади бились в засасывающем их болоте, шарахались в стороны, карабкались по лежащим лесинам, срывались с них в рыжую тину.
Всадники то и дело сгибаются над лошадиными гривами, отстраняя от себя сухие сучья и колючие ветки лиственниц. Сучья до крови царапают лошадей, всадников, разрывают кожаные сумы.
— Тох, тох! — раздаются неистовые возгласы погонщиков.
Караван останавливается. Навьюченная лошадь лежит на боку, взбрыкивая задними ногами. Погонщики расседлывают ее, переносят груз на сухое место, вытаскивают из грязи измученное животное. И так через каждые пять-десять минут.
Степан ехал впереди каравана, отыскивая тропу. Черский замыкал шествие. Иногда он отставал, изучая окрестности. Однажды, догоняя караван, он услыхал душераздирающий вопль. Впереди, скрытый лиственницами, визжал и звал на помощь Генрих.
Черский устремился к племяннику и, увидев его, захохотал. Незадачливый путешественник висел на здоровенном суку. Сучок задел его за ремень на спине и сдернул с седла. Лошадь спокойно паслась неподалеку от всадника.
Черский снял племянника с дерева. Генрих обиделся на дядин смех.
— Не понимаю, что тут смешного? Несчастный случай! И с вами может приключиться такое.
— Позволь посмеяться! Ты же так походил на пойманного краба, раскачиваясь на суку. Разве не юмористическая картина?
— Не позволю смеяться над собою!
— Ну, тогда извини. Смеяться над тобой больше я не стану.
На семнадцатые сутки путешественники достигли берегов Алдана, переправились через этот могучий приток Лены и подошли к устью реки Хандыги.
Степан уверенно вел экспедицию в предгорья Верхоянского хребта. Расторгуев все больше и больше нравился Черскому. Скромный, он любил скромность в других. Его всегда прельщало мужество, решительность и неутомимость в людях, а Степан в избытке обладал этими качествами. Глядя на бодрого, улыбающегося проводника, Черский сам невольно испытывал чувство бодрости. Его коварные, неусыпные болезни — астма и туберкулез притихли, притаились и не беспокоили. Черский знал, что болен неизлечимо, но махнул рукой на свои недуги. «Чему быть, того не миновать. Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий».
На двадцатые сутки караван свернул на юго-восток и, перевалив водораздел рек Хандыги и Серебряной, очутился перед Верхоянским хребтом.
На берегу бурной речки Дыбы Черский устроил привал. Следовало передохнуть и набраться сил перед подъемом.
Короткое северное лето было в разгаре. Все спешило созреть и плодоносить. Травы, деревья, волчья ягода и шиповник шумели под ветром и наливались солнцем. В прозрачном, настоянном на кедровой смоле воздухе чернели голые пики Верхоянского хребта.
Надо подняться на один из пиков. С высоты их должна проглядываться цепь Станового хребта. Можно будет установить соотношение двух горных хребтов, — решил Черский.
Мавра Павловна поддержала мужа. Черский и Степан облюбовали самый высокий пик и отправились на его штурм. Подъем оказался крутым и опасным. На горной высоте Черский стал задыхаться, сердце учащенно забилось. Иван Дементьевич присел на валун. И тотчас же остановился Степан.
— Что с тобою, Дементьич? Кабыть, притомился?
— Обессилел, Степан. Сердце свое отзвонило.
— Полежи, отдышись. Полегчает, и попрем выше.
Но Черскому не полегчало. Он смотрел на черный, отполированный ветрами пик и горестно; думал: «Укатали сивку байкальские горки. Я лишаюсь самой очаровательной особенности, своей профессии — возможности ходить по горным высям. Досадно, а что поделаешь? Выход из безвыходного положения все-таки есть. Мавруша будет подниматься на горные вершины. У нее ясная голова. Ей теперь наблюдать, мне — обобщать...»
Острая жалость охватила Степана. За эти дни он уже успел привязаться, «прилипнуть сердцем» к ученому путешественнику. Особенно его трогала сердечность Черского и его простота Природный ум Расторгуева на лету схватывал геологические объяснения Ивана Дементьевича. «Девонский период», «силурийские отложения», «свитки горных пород» звучали для него торжественно. Он начал разбираться в горных породах. Порфиры и доломиты, кварц и хризолит, пирит и сланец не сходили с его языка. Черский со спокойным сердцем доверил ему коллекцию собранных в дороге камней.
Подъем на один из пиков Верхоянского хребта задержал экспедицию на день. К вечеру погода резко изменилась, северный ветер нанес тучи, они обложили небо, пошел проливной дождь.
— Надолго зарядил, — взволновался Степан. — Дыба выйдет из берегов, придется пережидать непогоду.
Степан волновался не зря. Во время летних дождей на горных речках с потрясающей быстротой возникают паводки. Черский приказал развьючить лошадей и пустить на траву, установить палатки, развести костры.
Участники экспедиции обрадовались вынужденному, но желанному отдыху: Все были страшно утомлены переходами через болотные топи и горные перевалы. Только Степан и Генрих не утерпели, отправились на охоту, а Черский засел за дорожный дневник. Мавра Павловна занялась стиркой и штопкой одежды, Саша наладил удочки и закинул их в Дыбу.
Черский, пристроившись на валуне у костра, закрыв брезентом голову, согнувшись в три погибели, держал на коленях походный дневник, а перед глазами вставали болотные топи, заломы погибших деревьев, оленьи тропки, голые утесы.
— Вот уже одиннадцать дней, как мы перебираемся через Верхоянский хребет. Одиннадцать мучительных дней, а цели еще не видно. Ну так что же. Дорогу осиливает идущий. — Он ощупал прохладные гладкие страницы тетради, отыскал карандаш. Капли дождя мелькали над ним, с тихим треском лопались на огне, шелестели и пощелкивали на брезенте. Почти в полумгле, не меняя неудобной позы, только поеживаясь от капель, попадающих за воротник, он записал:
«Человек, не побывавший в таких болотах, не может оценить силу той нравственной и физической усталости, которая вызывается постоянным напряженным состоянием во время езды по таким местам. Лихорадочная торопливость овладевает и лошадью, чувствующей, как вязнут ее ноги. С трудом освобождая их из зыблющейся трясины, животное мечется и бьется в самых неизящных позах, причем из-под ног его вырываются большие куски мохового покрова и взлетают далеко вперед и в сторону. Надеясь найти около корней деревьев более устойчивую почву, она мчится прямо на лесину, нанося удары в колено и плечо седока. Изгибаются ездоки, отстраняя ветви и сучья от глаз, ударяются вьюки о деревья, выбившиеся из сил лошади падают, роняя вьюки или ездоков...»
Черский весело рассмеялся, вспомнив Дугласа, висящего на ветвях лиственницы. «Серьезно, у Генриха был презабавнейший вид!» И снова продолжал писать, до хруста нажимая карандашом на бумагу.
Раздаются громкие крики: тох-то, тох-то (стой-стой) и хот-хот! (ну-ну). Временной развязкою такой удручающей возни бывает обыкновенно весьма жалкая картина: 5 или 8 лошадей лежат в различных, нередко очень странных позах и требуют безотлагательной помощи людей...»
Черский обладал необходимой для каждого путешественника особенностью характера. Он немедленно забывал о всяких трудностях и неприятностях пути, насмешливо отзывался о них и видел только самыс светлые, самые приятные стороны. Подобно Карлу Марксу, он бы мог сказать, — «существенная форма духа — это радость, свет, вы же делаете единственно законным проявлением духа — тень; он должен облачаться только в черное, а ведь в природе нет ни одного черного цвета».
Это оптимистическое, радостное состояние духа помогало Черскому переносить и тяжести путешествия и неизлечимую свою болезнь. Оно помогло выжить и двадцатидвухлетнюю царскую ссылку, стерпеть оскорбления и унижения, голод и холод бесправной жизни. Тюрьма и ссылка часто губят крепких физически, но слабых духом людей. У них исчезают желания, мечты, надежды. А ведь надеждой можно и пытать и лечить человека. Человек без надежды быстро опускается, становится безразличным к радости и беде, красоте и безобразию, хорошим и дурным поступкам. Весь мир для него окрашивается в черные краски, в нем растут злоба и недоверчивость, в людях он видит только недостатки. Тогда-то и начинается в человеке распад духа, ужасная невидимая болезнь, которую не излечить никакими лекарствами.
Светлое и бодрое восприятие жизни и действительности не оставляли Черского даже в самые мрачные минуты. Любовь к жизни, к людям и науке горела в нем тихим, но неугасимым огнем. И сейчас, коротко записав в дневник впечатления и события дня, он улыбался весело и открыто, подставляя лицо набегающему дождю.
Потом встал, скинул брезент с головы, вышел на берег Дыбы. Река крутилась среди камней, перевертывала и тащила их, подмывала берег, обрушивая лиственницы. Черский отвернулся от клокочущей реки и стал смотреть на новую, мощную, быстро приближающуюся стену ливня. Солнце пробило тучи и озарило дождевой косяк. Ливень обрушился на Черского, но сквозь веселую шуршащую завесу ученый видел и скалы, и деревья на скалах, и пенную воду Дыбы.
— Вот это ливень! Давно не видела ничего подобного, — с удовольствием фыркнула Мавра Павловна. Она незаметно подошла и остановилась за спиной мужа, как и он, наслаждаясь потоками падающей воды.
— Ты позабыла байкальские ливни, Мавруша. Вот там ливни так ливни. Водопад между небом и землей. Сплошной блестящий водяной ад! — Черский повернул смеющееся, забрызганное каплями лицо к жене.
— Свидетельствую и подтверждаю! — Мавра Павловна прищурилась на радужную скользящую стену дождя. — Но и этот тоже хорош, Ваня.
Они мгновенно промокли, но остались под дождем: он бодрый и вдохновленный, она — радующаяся его свежему сияющему виду.
Ливень прекратился, но тучи не разошлись. Они оползали на тайгу набрякнувшими полотнищами, растекались в траве, дымились между кустами можжевельника и волчьей ягоды. Водяная слизь покрыла каждый сучок, лишайники на стволах лиственниц; ягоды голубицы и жимолости и листья крапивы приобрели странный голубоватый оттенок.
— Что это такое, Иван? — Мавра Павловна схватила за руку мужа. — Смотри, смотри, какой непонятный шар!
Неподалеку от них плыл большой, вишневого цвета предмет; низ его поблескивал, как почерневшее серебро, верх отливал бронзой, сердцевина вишнево светилась. Было что-то загадочное и угрожающее в этом таинственном шаре. Он то медленно двигался в воздухе, плавно огибая ветки, листья, скалы, то мягко приподнимался и опускался, то неподвижно висел над землей.
Из шара вырывались короткие коричневые лучики и лопались с легким треском. Шар медленно, даже как-то лениво поплыл над бушующей Дыбой, опускаясь все ниже и ниже, словно речные водовороты притягивали его к себе.
Наконец взметнувшемуся языку речной пены удалось лизнуть его. Раздался взрыв, тайга застонала от гула, оранжевое пламя осветило реку. Шар исчез.
— Что это? — снова, уже нетерпеливо, спросила Мавра Павловна.
— Шаровая молния, — тихо ответил Иван Дементьевич. — К сожалению, наука не знает, как образуется шаровая молния. Почему после грозы электричество конденсируется в форме шара? Загадка! Почему обыкновенная молния живет тысячную долю секунды, а шаровая несколько часов? Снова загадка! Что за оболочка, которая их сдерживает? Опять загадка! В чем тут дело, я не знаю и не могу объяснить. Я плохо разбираюсь в физике. Но, — Черский поднял руку, — но, дорогая Мавра Павловна, наука всемогуща. И она разгадает тайну шаровой молнии.
— Сколько же загадок на нашей земле! — вздохнула Мавра Павловна. — Ничьей жизни не хватит, чтобы узнать хоть малую часть неизвестных тайн природы.
Из-за береговых скал вывернулся Саша с удочками в правой и с живым селезнем в левой руке.
— Я его в кустах зацапал. Раненый, что ли, он, голыми руками схватил, — с гордостью сообщил мальчик. — А хариусов не поймал. Вода в реке совсем помутилась. — Саша положил селезня на землю, и тот уронил в траву черную, словно сотканную из ночного бархата головку. Саша осторожно пошевелил птицу, но она заковыляла к зарослям чернотала. Мальчик напряженно следил за ускользающей добычей, потом тряхнул белокурыми волосами.
— Ну и пусть уходит. Все равно я его не смогу убить.
Возвратились с охоты Степан и Генрих, мокрые, измученные и с пустыми руками.
— Сегодня низадачливый день, ни рибы, ни дичи, — виновато оправдывался Расторгуев. — Да вить и то какая охота, нипогода все живое по укромным местам попрятала. А ночью Диба совсем вийдет из берегов. Как периправляться-то станем, Диментьич?
— Утро вечера мудренее, — ответил Черский. — Плот сообразим и переправимся.
— Рази чо на плоту. Лошади-то вон допреж нас на тот берег перемахнули. Траву повкуснее ищут.
Ночь прошла в постоянно налетающих косяках дождя и тревожном шуме тайги. Черский долго не мог заснуть. Лежа на пахнущих смолою зеленых лапах стланика, он слушал, как тайга гудела тяжело и властно, как барабанил по крыше палатки дождь. Из непроглядной глубины ночи доносились чьи-то вздохи, вскрики, стоны. Гневно проухал филин, жалобно проверещал зайчишка, около палатки треснуло дерево и с глухим стуком упало. «Дуплистое», — определил Черский и, силясь уснуть, стал считать, досчитал до трехсот тридцати трех и бросил. «Так не уснешь». Он стал думать о самых разнообразных вещах, представляя себя то совсем маленьким в милой усадьбе Сволна, то гимназистом Виленской гимназии, то студентом Шляхетского института. Видения были темными и неясными, как речная вода. Неожиданно его мысль скользнула из родного дома к Полярной звезде, перенеслась на Марс, на Венеру и канула в далекое прошлое Земли. Почему-то возник мамонт, огромный, косматый зверь с загнутыми бивнями, потом полулюди-полузвери, одетые в шкуры, с каменными топорами в руках.
Черский открыл глаза, потер пальцами виски, словно стараясь избавиться от наваждения. «Сколько миллионов лет отделяют меня от этих принудившихся картин? А ведь, все это было, было, существовало и боролось за право своего существования! Да, на Севере росли тропические леса и жили мамонты. Иначе чем объяснишь такое обилие мамонтовых костей в вечной мерзлоте здешних мест? Кое-кто объясняет появление мамонтов на Севере тем, что они, продвигаясь сюда, просто приспособились к его суровым условиям. Мои оппоненты не признают, что до ледникового периода здесь был тропический климат. А я верю в это...»
Его разбудил Степан.
— Рика бунтует, Диментьич. Вишла из биригов, Да это не страшно. Зато погодка установилась. Ми грузы на плоту перебросим, я уже полдюжины лиственниц повалил.
— Что же ты не разбудил нас пораньше? Один за всех, ты так скоро поджилки надорвешь.
Степан только улыбнулся в пшеничную бородку.
Плот вязали все. Закрепив конец каната за поперечный брус плота, Степан обмотал себя другим концом и смело шагнул в мутную Дыбу. Черский и Генрих с шестами в руках устроились на плоту. На бревнах удалось разместить всего лишь шесть пудов груза. «Придется переправляться четырнадцать раз», — подумал Черский.
Степан по горло в воде перешел на левый берег и привязал канат к стволу лиственницы. Черский и Генрих оттолкнулись от берега, река подхватила плот и сразу же, закрутив его, потащила с собою. Черский, напрягаясь всем телом, балансировал на зыбких бревнах, но не сумел удержаться и свалился в реку. Он тут же вскочил на ноги, ухватился за край плота, стал толкать его к берегу. По ногам били камни, ледяная вода захлестывала Черского с головой. Генрих спрыгнул в воду, чтобы помочь дяде. Степан за канат подтянул плот на свою сторону.
— Морозит водица-то? — участливо спросил он, когда Черский выбрался на берег. — Сиди на биригу, а ми как-нибудь сами, без тибя.
— Теперь уже все равно! Что раз купаться, что десять, — ответил Черский, отряхиваясь и разбрызгивая вокруг грязные капли.
Переправа через Дыбу продолжалась весь день. Черский ошибся: пришлось перетаскивать грузы не четырнадцать, а двадцать семь раз.
— У меня волосы дыбом от этой паршивой Дыбы, — шутил он, когда последний ящик с грузами был вынесен на берег. — А все-таки переправились благополучно. Убыток — разбитая бутыль со спиртом. Жалко, но смиримся и воздадим хвалу господу.
Путешественники были так измучены переправой, что уснули у костра, не дожидаясь ужина.
После реки Дыбы тропа стала, еще хуже и непролазней. Лошади по брюхо вязли в грязи и проваливались в ямы: их то и дело приходилось развьючивать и вытаскивать веревками. Сучья погибших деревьев в кровь царапали животных и людей, распарывали сумы и вьюки. Эти мелкие, но непрерывные неприятности приводили в ярость Генриха. Он ругался, проклинал час, когда решил отправиться в путешествие, огрызался на всяческое замечание.
— Назвался груздем — полезай в кузов, сказал ему со спокойной улыбкой Черский. — Ты же знал, что здесь нет торцов Невского проспекта. Стыдись, Сашенька и тот терпеливее тебя.
Из болотистых низин Дыбы они поднялись на невысокое плоскогорье. Здесь на путешественников обрушилась новая и неожиданная беда. Тропа шла через густые заросли шиповника. Почти на каждом кусте были крупные пепельные шары осиных гнезд. Растревоженные осы напали на экспедицию. Лошади взвивались на дыбы, люди закрывались чем попало, лишь бы спастись от жгучих осиных жал. Как всегда, первым нашелся Степан.
Он набрал смолистых корней стланика и вооружил всех факелами. Больше часа отбивались путешественники горящими ветками от наседающих ос. Изжаленные, с распухшими веками и волдырями на лицах, остановились они на привал, лишь когда затихло острое и нервное жужжание ос. Черский, еле шевеля распухшими от ядовитых укусов пальцами, записал в дневнике:
«Замечу еще об одном, довольно оригинальном обстоятельстве, которое вызывает иногда переполох лошадей и может вести за собой как повреждение вьюков, так и падение ездоков, — это известные каждому осы, шарообразные гнезда которых путешественник нередко видит здесь в чаще, около самой тропинки. Якутские лошади по горькому опыту, отлично знают этих насекомых и пугаются, заслышав даже их жужжание».
Тайга словно умышленно нагромождала препятствия на пути Черского.
После бесславной битвы с осами пришлось пережить новое, испытание. Тропинка вывела путешественников на край глубокого ущелья и закрутилась, завиляла по каменистым кручам. Навьюченные лошади боязливо спускались, еле удерживаясь на тропке. Седоки слезли и повели лошадей в поводу. Из-под ног выскальзывала щебенка и, сухо пощелкивая, катилась на дно ущелья. Степан, шедший первым, скрылся за утесом, и тотчас же раздался его отчаянный голос:
— Стой, стой!.
Голос Степана растаял в пронзительном ржании. Передняя лошадь, не удержалась на обрыве и кувырком полетела в пропасть, ударяясь о скалы, разбивая вдребезги ящики с гербарием. Цепочка экспедиции остановилась и замерла. Черский, прижимаясь спиной к каменной стене, пробрался к проводнику.
— Оборвалась? Погибла? спросил он.
— Кабыть, конец лошадке!
— Пропал наш гербарий. — Черский заглянул на дно ущелья и отшатнулся.
— Не будь ты многоговорливым попусту, Диментьич, — с досадой ответил Степан. — Ящики ми достанем, а вот лошаденке конец. — Он стал искать место для спуска в ущелье.
Нашел и, цепляясь за камни, осторожно ставя ноги на выступы, начал спускаться. Черский последовал за ним, испытывая легкий озноб страха. Погибшая лошадь застряла у сухой лесины. Ящики с гербарием совершенно разбились, засушенные цветы и травы рассыпались по ущелью.
Ученый и проводник с жалостью смотрели на убитую лошадь, на разгромленный гербарий. Ученый сказал:
— Ничего не попишешь. Придется составить новый.
Проводник проворчал:
— И зачем ты за мной в такую пропастину поперся? Тебе тут делать нечего.
Черский широко улыбнулся:
— Золотой ты человечище, Степан.
— Сигодня — золотой, завтра — сиребряный, послезавтра — мидный! А чо зря похваливать да утешать? Лошаденку-то угробили... — Он стал собирать сухие рассыпанные цветы. — Жаль вот, чо Мавра Павловна огорчится...
Переход через Верхоянский хребет продолжался тринадцать дней. Экспедиция по восточному пологому склону хребта вышла на Оймякон.
Черский прибыл в это якутское поселение, когда в нем стояла тридцатиградусная жара. И ничто не напоминало о космических морозах, свирепствующих над Оймяконом осенью и зимой.
Маленькое якутское поселение было хорошо известно русским землепроходцам. Из Оймякона шли они к берегам Охотского моря, к Ледовитому океану, в белые бесконечные тундры Чукотки. В Оймяконе торговали московские и тобольские купцы. Сюда за сотни верст приезжали местные охотники менять на порох, муку и водку голубых песцов, серебристых лисиц, мамонтов бивень. Здесь беглые каторжники и таежные авантюристы сбивались в компании, чтобы отправиться на поиски золотого песка по индигирским и колымским долинам.
В Оймяконе жил и подрядчик Кривошапкин, который должен был заменить Черскому измученных, запаленных лошадей свежими.
А до Верхне-Колымска оставалось еще шестьсот верст. Черский торопился — северное лето уже на исходе. Вот-вот ударят первые заморозки, а потом метели, морозы.
Купить собственных лошадей в Оймяконе Черский не мог. Все табуны принадлежали подрядчику Кривошапкину, якуты же, имевшие лошадей, кочевали в тайге.
Черский понимал, что судьба экспедиции зависит сейчас от прихоти Кривошапкина. Захочет подрядчик — даст лошадей, не захочет — придется зимовать в Оймяконе.
Черский встретился с Кривошапкиным в его большой юрте, у глиняного камелька. Николай Кривошапкин, толстый, меднолицый, редкобородый якут, почтительно приветствовал путешественника. Снял с Черского пальто, усадил за стол. На столе были самые лакомые якутские кушанья: хаяк — взбитое и замороженное масло с налимьей печенкой, копченая оленина, свежая красная икра с зеленым лучком (лук, редчайшее явление в этих широтах, рос в Оймяконе) и, конечно же, водка. Водка в берестяном туеске, пахнущая брусникой и березовым соком.
Кривошапкин угощал путешественника и, склонив набок черную, круглую, как валун, голову, внимательно слушал его.
— По договору вы обязаны представить двадцать лошадей. Мне этого мало. Мы вышли из Якутска с караваном в сорок две лошади. Часть животных принадлежит погонщикам. Они возвращаются в Якутск и продать своих лошадей не могут.
Я прошу дать мне сверх договора лошадей за сходную плату Я не могу платить бешеных денег за каждую лошадь, потому что, потому что, — он сдвинул брови, нахмурился и досадливо договорил, — потому что ограничен в средствах.
На трехгодичную экспедицию на Колыму, Индигирку и Яну Академия наук отпустила гроши. И Черский был бережлив до предела. Часть денег Академия выслала на Якутск, он перед отъездом не получил их и покрывал дорожные расходы из своих скудных средств.
— Без вашей помощи мы не можем добраться до Верхне-Колымска. Какую же цену вы назначите за лошадей?
Кривошапкин сузил лукавые косые глаза. Желтые зрачки, словно крошечные лунные серпики, смотрели на Черского. «Прижать господина Черского или не прижать?» — думал подрядчик. «Обдерет и фамилии не спросит», — думал Черский. «Говорят, этого господина послал на Колыму сам государь император», — размышлял Кривошапкин. «Он смотрит на меня, как кот на мышонка», — волновался Черский. «Он у меня в руках, но он казенный человек». — Подрядчик налил полный стакан водки и подал Черскому.
— Выпьем за нашу дружбу. Я и дети мои будут гордиться знакомством с вами...
— Я хотя и не пью, но с вами... — Черский залпом выпил полный стакан и поперхнулся огненной влагой. «Наука требует жертв, что бы сейчас подумали обо мне друзья академики?»
Подрядчик размышлял долго, мучительно и вдруг расплавил в жирной улыбке губы.
— Вот как мы поступим. Я даю лошадей бесплатно. Совсем ничего не беру за них. Я просто хочу помочь вашему путешествию. Вы — мой гость, а мы, якуты, гостеприимны. Ваши чемоданы и ящики избились в дороге. Дорожные сумы изорвались. Я обошью ящики новыми оленьими шкурами и сделаю хорошие дорожные сумы. Дам в дорогу вяленой оленины и сушеной юколы.
Черский оторопел от радости: «Что случилось с этим подрядчиком? Какие мотивы побудили его на такое великодушие? Как трудно угадать чужую душу! Видно, все-таки прекрасного в человеке больше, чем дурного и мелкого».
Кривошапкин сдержал свои обещания. В день выхода из Оймякона Черский написал подробное письмо непременному секретарю Академии наук Александру Александровичу Штрауху. В заключение письма он сообщал о Кривошапкине:
«Факт его уступки в то время, когда захолустный инородец чувствовал себя в полном праве воспользоваться тяжелыми для экспедиции условиями, говорит уже сам за себя.
Поэтому я счел своим долгом обратиться к вам с покорнейшей просьбой довести до сведения Конференции Императорской Академии наук о изложенном выше поступке инородца Николая Иосифовича Кривошапкина и исходатайствовать ему какую-либо из допускаемых в таких случаях наград и официально выраженную благодарность.
Награда Кривошапкина за оказанное содействие осталась бы в памяти инородцев и расположила бы их ко всем ученым путешественникам...»
Наступил август.
В горах уже выпал снег, а в распадках полыхала осень. Черский восторгался красотою северной природы: Перед его глазами возникали картины осеннего увядания. Склоны сопок были задернуты белыми и желтыми тенетами сухого ягеля, алые озера брусники спали во мху. Громадные лапы стланика оранжевыми опахалами склонялись все ниже и ниже к земле. Еще несколько дней, и стланик ляжет по сопкам, покорно ожидая снегов. По берегам речушек, в замшелых болотах кровавыми фонтанчиками сверкали карликовые березки, лиственницы роняли иглу. Хвоя плыла невесомыми облачками над водой, а со дна речушек поднималось вверх ее отражение. Бальзамические тополя горели на берегах, как чудовищные свечи, сизые тальники лежали в воде, словно перепутанные рыбачьи сети. Хариусы и налимы проскальзывали среди прутьев или же клубились в них, шевеля плавниками. Лужицы кипрея пенились и шелестели, соединяясь друг е другом. Наконец они превратились в сплошное озеро, и Черскому было и весело ехать по цветам и жалко топтать их. Он все время приглядывался к северной природе, удивляясь ее своеобразной красоте. «Настоящий художник видит то, чего не замечают другие, — размышлял он. — Если это так, я обладаю необходимейшей способностью художника. Я ощущаю дыхание травы, вижу зеленые снега на рассвете, слышу, как поет солнечный свет в речной пене. Кисть рябины, упавшая в родник, привлекает мое внимание, мне хочется пересчитать ягоды на этой кисти. Я люблю любоваться своим отражением во льдах тарына и звездой, мерцающей, из грязной лужи. И все-таки я не художник. Почему? Неужели потому, что вижу детали, частности, а не всю картину сразу? Нет, пожалуй, не так! Подлинный художник всегда связывает природу и человека, Перед ним всегда стоит человек, побеждающий или побежденный ею. Природа без человека мертва!»
Лошадь вскидывала головой, дергала поводья, спотыкалась о корневища, но Черский, погруженный в раздумья, не обращал на нее внимания. Где-то в глубине его мозга зажегся солнечный лучик и рос, и освещал его мысли, и рассеивал боли. Черскому казалось, что он будет жить долго, может быть вечно, жадный к познанию, одержимый страстью к науке и творчеству.
Погонщик-якут, ехавший сзади, запел протяжную песню. Черский прислушивался к его словам. «О чем он поет? Как печальна его мелодия, но сколько в ней чувства и нерастраченной любви! Я слышу якутские песни летом и зимой, весной и осенью. И всегда они действуют на меня с силой необыкновенной». Он натянул поводья, лошадь остановилась. Поющий якут обогнал его и скрылся за деревьями. Шум экспедиции затих, а он все сидел на неподвижной лошади, полный странного очарования и глубокого душевного успокоения. Машинально вытащил из грудного кармана истрепанную тетрадь, записал то, о чем думал: «При едва лишь пробуждающейся заре, после обычных моих наблюдений, я нередко с удовольствием слежу за таким певцом, мчащимся на четверке собак вдоль, снежной пелены речного русла. Постепенно замирающая, заунывная трель эта всегда навевала на меня нечто томно-сентиментальное. Воспевал ли он красоту зари при трескучем морозе, или надежды на хороший лов налимов в заезке, к которому он направлял свою легкую нарту, — быть может, в песне той фигурировал и я — житель неведомого мира, стоявший тогда на высоте берегового склона его родной реки...»
Он тронул поводья, и лошадь послушно зашагала по тропе. Через минуту он увидел Степана, ехавшего навстречу.
— Ты что, Степан?
— Тебя вернулся разискать. Взволновался, ни случилось ли чо?
— Со мной все хорошо. Скоро думаешь устроить привал? Лошади устали, да и нам надо передохнуть.
— А вот пройдем еще одно большое ущелье, и появится озеро! Там и привалимся. Потерпи часок.
Озеро Черский увидел через пять часов — огромную черную чашу, врезанную в зеленую раму тайги. Здесь путешественники решили отдыхать целый день, чтобы набраться сил для стремительных переходов. И опять новая, но уже по-настоящему беда навалилась на них. Ночью, когда Черский спал беспробудным сном, Степан растормошил его.
— Поднимайся, Диментьич, тайга горит. Очнись, огонь подбирается к нам.
Черский вскочил. С правой и левой стороны озера, отрезая путь к отступлению, полыхало тяжелое пламя.
— Поднимайтесь! — орал Степан. Не то изжаримся, как бурундуки!
В лагере началась суматоха. Погонщики загнали лошадей в озеро и навьючили их, стоя по грудь в воде. Мавра Павловна и Саша на лошадях отъехали как можно дальше от берега, держа в руках разные вещи и банки с заспиртованными рыбами. Черский, Степан, Генрих сбили из сухостойника помост и, нагрузив его, оттолкнули от берега.
Белый тугой дым уже заволакивал озеро, противный и тяжелый запах гари распространился по воде. Оранжевое пламя мелькало в чаще, исчезало, появлялось вновь, суетилось, торопилось, одолевая сопротивляющиеся деревья. Откуда-то появились горящие кедровки: чертя дрожащие красные линии, они погружались в воду, и озеро, шипя, гасило погибающих птиц.
Огонь выбился на берег, лиственницы и ветлы стали клониться в сторону пожара. Потоки горячего воздуха словно невидимым магнитом притягивали к себе деревья. Черная береговая стена тайги порыжела, стала лиловой и превратилась в нестерпимо вишневую.
Отдельные деревья на вишневом фоне походили на черные колонны. Струи пламени завинчивались спиралями, взлетали в небо светящимися фонтанами и, поколебавшись, с визгом обрушивались на землю.
Черский, прижимаясь плечом к Степану, стоя по горло в холодной воде, смотрел на мгновенно меняющиеся картины таежного пожара, но замечал только отдельные, несущественные вещи. Он видел, как старая мохнатая лиственница напряженно вытягивала свою вершину навстречу огню. Она тянулась всеми верхними ветвями и вдруг, будто охваченная ужасом, отшатнулась.
Большая головня упала на лиственницу, гибкая красная змейка скользнула по ветке, переползла на вторую, переметнулась на третью, возникла тонкая сеть горящих веток и жадно и торжествующе заплясала по дереву. Вершина его стала алой, низ, еще зеленый, быстро бурел. Дерево отчаянно сражаллось с огнем, пока не обратилось в чудовищный факел.
— Спаси нас, Никола-угодник! — перекрестился Степан.
С правой стороны от Черского в воду врезывалась голая скала. На нее вылетел горящий лось, вскинулся на дыбы, забил передними копытами по дымному воздуху и ринулся в озеро. Он поплыл к противоположному берегу в пяти саженях от путешественников, не обращая на них внимания. Разлапистые рога его походили на серые сучья увлекаемого водой дерева.
Три часа бушевал пожар над таежным озером и лишь к рассвету скатился в замшелые болота и мари. Черский в эти часы испытал такую тревогу, был охвачен таким нервным возбуждением, что не чувствовал ледяной озерной воды. И, как ни странно, трехчасовое пребывание в воде не повлияло на его болезнь. Он даже не простудился, не получил насморка, чем остался доволен до чрезвычайности.
— Мы еще пошумим листвой у старых переправ. Огонь да вода и кстати беда только закаляют наше здоровье, — хвастался он перед женою.
Мавра Павловна молчала, но улыбалась. Она улыбалась всегда, эта маленькая синеглазая женщина, дочь иркутской прачки, а теперь ученый секретарь экспедиции.
Через несколько дней экспедиция вышла в широкую пойму Индигирки. Северная осень стремительно спешила к ним навстречу, развертывая по окрестностям все свои немыслимые краски. Лимонные лиственницы, бальзамические тополя с листьями, похожими на бронзовые медали, янтарные ягоды брусники, рябиновые гроздья и черная смородина, тучи пронзительно рыжего стланика, тальники кровавого цвета, долины и распадки, высвеченные солнцем, шиповник, целящийся в грудь каждой своей красной пулей, — все это манило, звало, тянуло к себе.
Но все это погасло в одну дождливую ночь. Непроходимые тучи стерли осенние краски тайги, заштриховали все мелким бисером капель. Сопки, болота, распадки покрылись слизью, от земли поднимались гнилые испарения. Тревожно заспешили на юг лебеди, крикливые журавлиные косяки.
Черский тоже спешил.
После переправы через Индигирку он повернул на северо-восток. Предстояло подняться с шестьдесят третьей параллели на шестьдесят шестую и достичь сто пятьдесят второго меридиана.
Неожиданно на горизонте возник высокий горный массив. Покато приподнимаясь на юго-западе, он взлетал на двухтысячеметровую высоту и круто спускался на север. Напрасно Черский искал на карте этот хребет. Вместо него на карте была равнинная местность. Черский подробно расспрашивал Степана о неизвестном хребте, но он ничего не знал.
Радостное чувство первооткрывателя заполонило Черского. Не так-то уж много оставалось на земле неизвестных хребтов в конце девятнадцатого века!
Караван поднимался среди каменных осыпей и хаотического нагромождения скал. Голые, неприкаянные места, без птиц и животных. Лишь жалкий вереск да лишайник росли на утесах. На вершине хребта Черский тщательно измерил его высоту, уточнил координаты.
— Нужно дать неизвестному хребту имя, — сказал он.
— Хребет Мавры Павловны, — предложил Расторгуев.
— Ну, уж нет уж! Я пока не заслужила такой чести, — запротестовала Мавра Павловна.
— Прусский хребет, — подсказал Генрих Дуглас. — Величественно и благородно.
— Наша экспедиция организована русской Академией наук, — мягко, но решительно возразил Иван Дементьевич. — И этим все сказано.
— А я вот придумал имя, — смущаясь, произнес Саша. — Здесь одни голые камни. А по-якутски наваленные камни называются Тас-Кыстабыт. «Перевал Тас-Кыстабыт». Правда, как сильно звучит?
Все согласились с предложением Саши.
За перевалом Тас-Кыстабыт появилась полноводная Нера — главный приток Индигирки. Нера спокойно несла воды между серыми гранитными гольцами. Река выравнивала своим течением долины, заполняя их галькой.
В долинах Неры путешественникам то и дело попадались «тарыны» — гигантские наледи. Наледи в несколько аршин толщиной тянулись по десять-двенадцать верст и не успевали растаять за лето. Было странно видеть у бледно-синего льда созревшую голубицу.
До Верхне-Колымска оставалось около трехсот верст. Дожди сменил густой белый туман. В его вязкой ускользающей белизне Черский не видел даже пальцев собственной руки, люди и вещи потеряли очертания. А в невидимом небе протяжно кричали табуны отлетающих птиц. Лебеди, дикие гуси, журавли все летели, летели, летели на юг, и казалось, не будет конца их перелету.
Степан стал собирать валежник и навьючивать вязанки на лошадей.
— Надо запастись дровишками, Иван Диментьевич. Скоро будет Улахан-Чистай. На нем без дров волком завоешь.
Черский поблагодарил опытного проводника. Всего лишь раз в жизни был Степан в этих местах, а вел караван решительно и уверенно, словно родился здесь.
Шестьдесят дней прошло со дня знакомства со Степаном, но он уже многому научил Чешского. Это была наука жизни и непрерывной борьбы с природой.
Степан научил его читать звериные следы, угадывать травы по их запахам, разбираться в призрачных лесных тенях.
Он показал ученому, как ловить волосяными силками белок и разводить костер из отсыревших дров.
И как отыскивать тропу в плотном тумане по веткам лиственниц и определять стороны света по наклону стволов.
И как угадывать погоду по крикам кедровок, и сдирать парную шкуру с молодого олененка, и лечиться от цинги хвоей кедровника, и управлять вертлявым челноком на речных водоворотах.
Степан открывал ученому маленькие тайны сурового мира и человеческой жизни, полной бед и опасностей. Еще не пережив колымской зимы, Черский уже был подготовлен к ней Степаном.
Черский представлял себе, как трудно перенести первую зиму на Севере, когда день — сплошные белесые сумерки, пронизанные сухим морозом, а ночь — черный дымящийся океан, рассекаемые полярными сияниями.
Улахан-Чистай возникал из тумана медленно и незаметно — так возникают и утверждаются в реальной действительности призрачные образы сказок. Гольцы, батолиты, осыпи выдавливались из тумана и затвердевали в своем безмолвном величии. Чем выше поднимались путешественники на Улахан-Чистай, тем ниже опускался туман. Казалось, само небо стекало в ущелья, печальное и обессиленное от притяжения Земли.
С вершин сорвался ветер и выдул из ущелий туман. Черский увидел, наконец, Улахан-Чистай — широкое плато, обрамленное двумя горными цепями. Ни лиственниц, ни кедровника, даже ерника — карликовой березки не росло на Улахан-Чистае. Голые осыпи, мертвый седой гранит, белый ягель — олений мох. А ветер крепчал и позванивал, как бронзовый лист. Ветер задыхался от жалобных звонов и вдруг запел. В этом удручающем пенье Черский уловил и мрачные вздохи церковного органа, и посвист якутских стрел, и топот лошадиных копыт, и треск оленьих рогов.
Но все эти многоголосые звуки потонули в ураганном вое. Романтика кончилась, наступила реальность. Степан остановил караван. Путешественники кое-как поставили палатки и развели костер. Под ревущее пламя Черский уснул. Он видел удивительно ясные, но холодные сны — вершины неизвестных хребтов в тонком серебряном небе.
Он проснулся в снегу, окоченевший от холода. Лошади походили на изваяния, высеченные из мрамора, спящие спутники — на опрокинутые статуи, вьюки обратились в маленькие бугры. Сотни таких же припухших холмиков мерцали вокруг.
«Откуда они появились?» — подумал Черский, отряхиваясь от снега.
Он копнул ногой, и тотчас же со всех сторон стали взрываться и уноситься в воздух десятки таинственных бугорков. Черского осыпало мокрыми хлопьями, как цветами, оглушило хлопанье крыльев и тревожное гоготание. Захваченные снегопадом гуси опустились рядом с караваном и ночевали под снегом. Потревоженные гуси носились над Улахан-Чистаем, потом выстроились в клинья и пошли на юг.
— Счастливого пути! — закричал Черский. — Ни пуха вам, ни пера! — добавил он и рассмеялся.
Подошел Степан, тоже сияющий.
— Здорово, Иван Диментьевич? Намучились, бедные, а теперь снова айда — пошли!
— Нам тоже пора.
— А чо нам мешкать? Не дай те бог, если прихватит мороз. Потявкаем-почавкаем — и пойдем. А бояться от снега нам не приходится. Мы от снега привычные...
Через два дня Черский штурмовал третий хребет — Томус Хая. За ним начинался почти двухсотверстный спуск к реке Колыме. Караван шел по ее притоку Зырянке. От устья Зырянки было уже недалеко до Верхне-Колымска. Начались легкие морозы и, подбадривая, подгоняли путешественников.
Черский неутомимо ехал на своей низкорослой «якутке». Болезни не беспокоили его, несмотря на все тяготы путешествия. Жена и сынишка также хорошо переносили путешествие, а Генрих Дуглас не раздражал и не огорчал Черского.
Генрих работал наравне со всеми. Но был он плохим препаратором. За него добытых птиц и зверьков препарировала Мавра Павловна, а Саша без устали пополнял гербарий и спиртовал рыб. В зоологической коллекции уже имелись птицы пятидесяти шести видов.
Страсть к образцам горных пород полностью захватила Степана. На берегу Зырянки Степан принес Черскому бурый каменный уголь.
— Камень, а горит, — сказал он удивленно.
Черский сходил к залеганию бурых углей, осмотрел месторождение, записал в дневник координаты и с грустью сказал:
— Милый мой Степан! Наступит время, сюда придут люди, обживут суровые эти места. И поблагодарят того, кто нашел здесь каменный уголь. Тебя поблагодарят...
Степан крепко потер рукою затылок.
— Зарубку людям о себе было бы ладно оставить. Только я тут ни при чем. Я же и ни знал, чо уголь это, чо нет! Тебе люди скажут спасибо, Диментьич...
— Мы памяти людской не потревожим неслышными деяньями своими, — пробормотал Черский. — Чьи же это стихи? Неужели так слабеет моя память?
Утром Степан подъехал к Черскому и, показывая рукой на невысокий перевал, объявил:
— Кабыть, за тем перевалом Колыма-река.
Черский стиснул в пальцах поводья, наклонился над седельной лукой.
— Одолели! Две тысячи верст от Якутска до Колымы одолели. Шли по неизвестным местам, по местам, никем не исследованным. Одно это уже награда для географа. А впереди — новые дали, впереди — сплошные загадки и радости открытий.
И он повторил свое любимое изречение:
— Если бы люди не путешествовали, как бы узнали они о красоте и величии мира?
Глава пятая
Не так легко живется в мире
Чащоб, гнездовий и берлог,
Где лишь яранги юкагиров
Да в небо ввинченный дымок.
После семидесятишестидневного путешествия Черский вышел на приток Колымы — речку Ясачную.
До Верхне-Колымска оставалось сутки пути, но, как это иногда бывает, последние версты были самыми трудными. Осенние паводки прокатились по Ясачной, она вышла из берегов, затопила окрестности.
— Я спущусь на плоту до крипости. Попрошу помочи у вирхниколымцев. Пригоню карбасы и как-никак пиребиремся, — сказал Степан.
Снова сколотили из сухих лиственниц плот. Степан помахал ружьишком на прощанье и скрылся за поворотом.
Путешественники соорудили шалаш и ночевали под мелким непрерывным дождем. Черский встал на рассвете и, зная, что Степан раньше вечера не вернется, все же нетерпеливо поглядывал на Ясачную: мутная вода ее катилась распухшими валами. Истерзанный, разбитый тяготами путешествия, Черский бодрился и внешним спокойствием поддерживал дух участников экспедиции. И никто из них, кроме Мавры Павловны, не подозревал, что он устал, страшно устал.
Пасмурный день прошел в нетерпеливом ожидании Степана. Расторгуев вернулся в сумерки, пригнав два юкагирских карбаса.
Утром следующего дня жители Верхне-Колымской крепости встречали необычного и неожиданного гостя.
Если бы бог существовал, он бы назло людям создал еще несколько Верхне-Колымсков. В своих многолетних скитаниях по сибирским краям Черский, не встречал еще таких неприкаянных, унылых, беспросветных мест.
Он записал в свой дневник:
«Почерневщая, хотя и не старая, деревянная церковь, развалина древней часовни, семь юртообразных домиков без крыш и без оград, со слюдяными или ситцевыми окошками, неправильно расставленных вдоль берега, — вот все, что мы увидели, обогнув последний мыс реки. Пейзаж этот украшен был уже пожелтелым лесом, поросшим по окрестной низменности, и оживлялся десятком волкообразных ездовых собак, флегматически расхаживавших по берегу. Мы салютовали месту нашей добровольной ссылки выстрелами из берданок и получили такой же ответ из винтовок вышедших на берег людей».
И в Верхне-Колымске, как ни странно и ни дико показалось это Черскому, была своя «аристократия». Возглавлял ее приказчик якутского купца Бережнева — Филипп Синебоев. В «аристократический круг» входили заштатный священник Стефан Попов и шесть его дочерей, псаломщик Георгий Попов с двумя сыновьями и заштатный псаломщик Гай Протопопов.
Причтом правил ссыльный священник Василий Сучковекий — могучий шестидесятилетний старик, живший особняком от паствы.
Приказчик Синебоев зимой почти не бывал в Верхне-Колымске. Он разъезжал по тайге, собирая с охотников пушнину за отпущенные в долг товары и боевые припасы. Были в тайге у Синебоева пять или шесть хижин, где он хранил «мягкую рухлядь».
Верхнеколымцы встретили Черского с радостью. Приезд нового, пусть временного, жителя явился для них светлопрестольным праздником.
Черскому отвели лучший домишко, правда без крыши, но теплый и просторный. Домик стоял около старой деревянной церквушки, единственной на тысячи верст вокруг.
Одну из комнат Мавра Павловна превратила в кабинетик для мужа, соорудив из ящиков письменный стол и диван. Во второй устроила спальню, гостиную и столовую, в третьей поселила Степана и Генриха. Гербарии, геологическая коллекция, книги, астролябия, компасы и гармонифлют заменили домашнюю обстановку.
Черский обнял за плечи жену, шепнул на ухо:
— Лучше, чем в Петербурге, Мавруша. Я могу работать и отдыхать. А больше мне ничего не нужно.
Он пошел осматривать крепость и знакомиться с ее обитателями. Верхне-Колымск, расположенный по берегу Ясачной — маленького притока Колымы, не удручал, не отталкивал путешественника своим безобразным видом. Он даже понравился Черскому. Черский не мог бы сказать самому себе, почему понравилось ему это местечко.
Нет ненавистнее тех мест, куда загоняют на каторгу или в ссылку. Они противны уже потому, что напоминают о свободе.
Красота, сила, радость, горе зависят от ощущения свободы. То, что кажется великолепным и ценным свободному человеку, ненавистно невольнику.
Черский знал это по себе.
Он изведал, выстрадал это восприятие за двадцать лет царской ссылки. Омск и Иркутск были несравненно красивее Верхне-Колымска, но они были для него безысходной тюрьмой. Там он годами испытывал боль одиночества и тоску невольника.
При одной мысли о местах своей неволи Черского охватывала скользкая холодная боль. А вот в Верхне-Колымске ему было легко и просторно. С этим жалким, затерянным в земных просторах местом связаны все его мечты, все надежды.
Отсюда он продолжит свое путешествие по неизвестной реке Колыме до Ледовитого океана. Нет, Российская Императорская Академия наук не ошиблась, назначив его начальником такой сложной, трудной, но интересной экспедиции...
Заложив руки за спину, он остановился на берегу Ясачной. По речушке шла шуга: из глубины поднимались студенистые комья льда и, сталкиваясь, сцеплялись между собою. «Скоро ледостав. Ударят настоящие колымские морозы. Мне остается только ждать, ждать весны и работать».
Зима ударила сразу, как грозовой гром. Почти неделю мела, не уставая, пурга, потом наступил мороз. Верхнеколымцы засели в своих берлогах, пили водку, играли в карты, рассказывали всевозможные басни и спали.
А Черский работал в своем кабинетике под неустанным наблюдением жены. Мавра Павловна на цыпочках ходила по кабинетику, шикала, когда громко разговаривали Степан, Саша или Генрих, и радовалась, что здоровье мужа улучшилось.
А Черский работал.
Он приводил в порядок свои дорожные дневники, списывал коллекции, размышлял над географическим положением хребтов Тас-Кыстабыт и Томус-Хая. Его внимание привлекла и новая горная цепь, идущая по берегам великой северной реки. Она начиналась где-то выше Верхне-Колымска и называлась у местных жителей Сиен-Томахой.
В голове ученого роились сомнения и неожиданные догадки. Он сомневался в точности географических карт, на которых положено огромное пространство между Верхоянским хребтом и рекой Колымой.
Какая-то неразбериха была на этих картах. По схемам его предшественников Сарычева и Врангеля горные цепи размещались в меридиональном направлении, с юга на север. Они якобы шли вдоль Индигирки, Яны и Колымы, не пересекаясь между собою. «Так ли это? Не ошибка ли это моих предшественников?» — мучительно размышлял Черский. «Какая жалость, что я не осмотрел эту горную систему с какой-нибудь высокой точки ее! Я видел горные цепи только с дорожных троп. А что, если горные цепи расположены не так, как на схемах Сарычева и Врангеля? Может, они идут поперек к течению Индигирки и Колымы? Да, интересно! Но пусть пока мои предположения остаются при мне...»
В мерзлом окошке стояла ночь, черная, как графит. За перегородкой всхлипывала сквозь сон Мавра Павловна, ее тревожные вздохи заглушали ровное дыхание сынишки. В соседней комнате храпели Степан и Генрих.
Черский прислушался.
Из глубины ночи долетел тоскливый собачий вой и ознобил сердце: перед глазами возникли бесшумные собачьи стаи, скользящие по горным распадкам. По графитовому окну пробежали какие-то неясные белесые клубочки, на нем зажглись и погасли тонкие блестящие иглы. «Северное сияние», — подумал Черский, подтянул в коптилке фитиль, пододвинул к себе тетрадку.
Перед ним лежал начатый в Якутске и все еще неоконченный «Проект помощи местным жителям Севера».
Он перечитал написанное, поморщился и продолжал своим бисерным почерком.
«...Якуты, юкагиры, ламуты, одулы должны быть спасены от вымирания и грабежа со стороны купцов и тойонов...
Правительство Его Величества Государя Императора Самодержца Всероссийского должно снабжать жителей Севера по казенной цене продуктами, товарами, припасами для охоты...»
Он задумался над этой фразой, приподняв руку с пером. Перо вздрогнуло и засеяло синими точками бумагу.
«...Снабжать жителей Севера по казенной цене продуктами, товарами, припасами для охоты», — перечитал он только что написанное. «Легко сказать, а сделать? Пока местных жителей снабжает якутский купец Бережнев. Единственный в Верхне-Колымске торговый лабаз принадлежит ему. Купеческий приказчик Филипп Сысоич Синебоев — бог над таежными жителями...»
Черский закусил губу. Тонкая жилка на левом виске набрякла от напряжения. Желтый цветок пламени сгибался и выпрямлялся над вонючей коптилкой.
«Надо создать рыбные магазины и хлебные склады на случай голода, так часто повторяющегося на Севере...»
Буквы легли на белый лист и показались черными. Мысль, вложенная в них, была нелепой и мертвой.
— Господи, боже мой! Господи! Я же наивный мечтатель! Разве царское правительство заинтересуется моим проектом? Так зачем же, ясно сознавая, что царь никогда не окажет помощи народам Севера, зачем я составляю этот проект? Чтобы успокоить свою совесть?
Разбрызгивая чернила, он перечеркнул фразу, положил перо, подул на коптилку. Желтый цветок исчез. На темной пластине окна вспыхивали алмазные веточки северного сияния. В своих, жалких лачугах спали верхнеколымцы — одинокие, забитые люди.
Эти люди обладали способностью спать по восемнадцать часов в сутки. Страдная, пора, их жизни начиналась с весенним пробуждением природы и кончалась при первом посвисте сентябрьских метелей. Зиму они называли «малой смертью», и это была действительно смерть, вернее летаргический сон существ, обреченных на полное ничегонеделание.
Верхнеколымцы не имели сведений из внешнего мира, ничего не знали о событиях, его потрясающих, да и, если говорить правду, не интересовались ими.
Единственным жителем Верхне-Колымска, с которым Черский с наслаждением в эти дни беседовал, был ссыльный поп Василий Сучковский. «Преоригинальнейший человек отец Василий. Смелая и отзывчивая душа. Какое проклятое время — все смелое и честное должно погибать в диких пустынях Севера!..»
Черский положил перо и выпрямился. По заиндевелому окошку все скользили белесые клубочки, разноцветные искры и алмазные веточки полярного сеяния. Он осторожно, стараясь не разбудить жену и сына, прошел в переднюю комнату и надел малицу.
Проснулся Степан, приподнял курчавую пшеничную голову, поморгал белобрысыми ресницами.
— Ты чо, Диментьич?
— А ты спи, спи! Я выйду на улицу.
— Мне тоже проветриться надо. С тобою выйду нароком...
Они вышли во двор; заиндевелые собаки оцепили их почтительным полукругом. Косматые, худые, вечно голодные псы тоскующе смотрели на путешественников. Черский вспомнил вчерашний свой разговор с якутом Емельяшкой и улыбнулся.
Он спросил у Емельяшки, велика ли его семья.
— Двенадцать душ, — ответил якут.
— Как так? У тебя десять детей?
— А ты собачек не считал? Собачки мне тоже души родные...
Черский положил руку на загривок худого пса и запрокинул его голову в небо.
Луна ослепила звезды. Вокруг нее мерцали ложные кольца; почему-то подумалось: лунный диск распадется на тысячи таких же колец, и они охватят все небо, от горизонта до горизонта.
Волкодавы, стоящие, полукругом, лунные ложные кольца, голубоватые снега, пятидесятиградусный мороз не пугали Черского. Снежная верхне-колымская ночь казалась прекрасной и бодрила его. Он долго смотрел на звезды и ложные лунные кольца. Среди бесчисленных созвездий горела Полярная звезда — звезда путешественников и скитальцев. Его любимая звезда.
Пар от дыхания превращался в иней и осыпался на грудь белыми дробинками. Борода затвердела, как проволочная сетка, руки закоченели, в ушах возникло тонкое настойчивое шуршание. Шуршал замерзающий воздух.
Звездное небо затянула легкая белесая паутина. Откуда она взялась? Но она появилась и, быстро разрастаясь, заволокла ночь. Паутину пронизали синие, зеленые, красные искры, и она превратилась в плотную ткань, сотканную из драгоценных камней.
И вдруг эту гигантскую ткань кто-то невидимый взял за восточный и западный концы и подбросил вверх. Она разорвалась на длинные полотнища, полотнища обратились в ленты и, выстроясь в ряд, потекли на юг. Снежная пустыня преобразилась. По сугробам побежали зыбкие тени, снег затрепетал, охваченный зеленым пламенем.
Черский испытывал странное, двойственное ощущение, наблюдая за полярным сиянием. Его бесконечные переходы из одного цвета в другой приподнимали Черского над действительностью, уносили к тем самым звездам, о покорении которых так упрямо мечтает человек. И в то же время Черский чувствовал себя придавленным, жалким перед величием вселенной. Кто он такой? Ничтожная снежинка, затерянная в океане снегов?
Полярное сияние погасло, Черский снова очутился в темноте. Рядом стоял Степан, но Черский с трудом угадывал его лицо. Борода, брови, веки Степана светились в темноте, иней запорошил его от шапки до торбасов.
— Каково? — сказал Черский простуженным голосом. — Какая хватающая за сердце красота! Тебе понятно, Степан, почему люди, побывавшие за Полярным кругом, заболевают Севером? Если любовь к Северу можно назвать болезнью, то это великолепная болезнь. Болезнь красоты.
— Я родился на Севере, всю жизнь прожил на Севере, а привыкнуть к «юкагир уста» не могу, — ответил Степан.
— Как ты сказал? Что за «юкагир уста»?
— Да сполохи же. Местные жители называют, их «юкагирскими огнями». Мне летось охотник сказку баял про них.
— Интересно, — усмехнулся в закуржавелую бороду Черский. — Длинная сказка?
— Короче заячьего хвоста. Только я не мастак сказки баять. Ну так вот. Когда-то на Севере было так много юкагирских племен, что их костры освещали небо. Теперь повымерли юкагиры, а огни как достигли неба, так и не угасают.
Черский неосторожно вобрал шуршащего воздуха в легкие и закашлялся. Ледяная струя обожгла его, острые иголки пробежали в груди.
— Пойдем в избу, Иван Дементьич. Не дай бог, простудишься. Ты и так со здоровьишком не в ладах, — взял Черского за руку Степан.
Черский, опираясь на твердую спокойную руку проводника, вернулся в избу. Степан помог ему снять малицу, усадил на стул. Черский смахнул иней с бороды и усов, облокотился о стул. Боль в легких не прекращалась. Он прижал ладони к груди, словно хотел усмирить ее, и вдруг почувствовал, как рядом с ним что-то застучало. Осторожно, тихо, тревожно. Эти короткие тупые удары удивили Черского, он стал искать причину их возникновения. И потому, что он не мог сообразить, что породило эти непонятные звуки, боль в легких усилилась. А удары все нарастали, постепенно охватывая Черского, избушку, душный воздух. Они били по нервам, проникали в мозг. Черский не шевелился, ожидая их прекращения.
И вдруг он понял: это стучало его собственное сердце. Как только он это понял, ему стало сразу легче и свободнее, сердце забилось размеренно и спокойно, боль в легких исчезла. «А ведь дело-то мое плохо», — родилась едкая мысль. «Ничего, ничего! Мы еще поживем и поборемся», — и эта вторая мысль, уничтожив первую, успокоила его.
— Спать, — сказал он себе. — Скоро рассветает...
Глава шестая
Едва лесной закат погас,
Чуть потянуло холодком.
Приходит он в его лабаз,
Распахивает дверь пинком.
Черского разбудил настойчивый стук в окно. Морозная ночь сменилась метельным утром; не хотелось вставать под непробиваемый рев метели. Черский спустил ноги на холодный под, но услышал, как Степан уже подбежал к окну, приложил к мохнатому льду голову.
— Стучали? — спросил Черский.
— Покарзилось, Иван Диментьич. Да ты босиком! Залезай в постель...
Тревожный стук в окно повторился. Степан стремительно шагнул к двери, распахнул ее: снежный ветер отшвырнул Расторгуева на середину избы.
— Кто там? Входи поживее!
Ветер в клочья разорвал слова и кинул их в лицо Степану.
— Черт, леший, залезай, не мешкай...
Новый порыв ветра втолкнул в избушку толстую заснеженную фигурку, потом вторую — худую и длинную. Люди не удержались на ногах и тяжело рухнули на пол. Степан с трудом захлопнул дверь и кинулся к упавшим. Черский поспешил на помощь.
Из оленьих мехов они извлекли тоненькую юкагирку, почти девочку. Длинный старик оказался ее отцом. Он отдал дочери всю одежду, а сам, окоченелый, с заиндевелым лицом и алебастровыми руками, трясся от холода. Рваная, вытертая доха не спасла бы человека от гибели, если бы человек не родился в колымской тайге.
Черский и Степан долго оттирали отца и дочь снегом.
Проснувшаяся Мавра Павловна сварила невероятной крепости чай, приготовила строганину — последний запас мороженой кеты, накрыла стол. Проснулся Генрих и, зевая, спросил:
— Что за гости, дядя?
— Люди, Генрих, люди, — сухо ответил Черский.
Мавра Павловна усадила за стол отца и дочь, стала угощать гостей строганиной. Старик ел, ел и молчал. Девушка посматривала на Черского, на Мавру Павловну, на Генриха испуганными оленьими, глазами и тоже молчала. Наевшись, старик обратился к Черскому:
— Ты будешь Иван, скажи?
— Да, я.
— Тебя называют лесные люди Справедливым?
— Вот уж этого я не знаю.
— Об этом знают таежные люди.
— Спасибо за хорошее слово. Хорошее слово дороже пыжиковой дохи.
— Я приехал к тебе за правдой. Я Эллай Хабаров, охотник, твой сосед, живущий в сиен-томахимских лесах. Мы живем с тобой совсем рядом.
Черский невольно улыбнулся. Эллай Хабаров жил от Верхне-Колымска за двести верст, но для Севера это пустяки.
— Я приехал к тебе за правдой, — повторил Эллай. — Помоги мне. Ты поможешь, однако?
— Зачем спрашиваешь, Эллай? Закон тайги — помогать человеку.
— Ты не знаешь, что за помощь мне нужна.
— Разве ты спрашивал бы попавшего в беду, какая ему нужна помощь?
Эллай закрыл на секунду глаза, подумал и просто ответил:
— Тайга отвернулась бы от человека, не помогающего человеку.
— Не будем тратить время на разговоры. Какая помощь необходима тебе?
Эллай остановил взгляд на дочери. Она сжалась в комочек у пылающего камелька. Старик повернулся к бездонному от метели окну. Пурга терлась о ледяную пластину, обтачивая и полируя ее.
— Мои собаки опрокинули нарты и сбежали, — вздохнул Эллай.
— Наша упряжка свежа.
— Пурга перестанет не скоро.
— Нам ли с тобой бояться пурги?
— Я боюсь человека, задумавшего против меня дурное. Спаси мою дочь, Иван. Спаси от плохого человека по Имени Филь...
Подвижное лицо Черского окаменело.
— Что же хочет от тебя Филипп Синебоев?
— Я должен ему за муку, винчестер и медный котел. Вчера он приехал в мою ярангу и забрал всех соболей. Слишком много он взял за маленький долг. По Эллай не пропал бы, как годовалый олененок, Эллай добыл бы еще соболей. То, что Филь требует еще, Эллай не может отдать.
— Что же он еще требует?
— Вот ее, дочь мою, Атту. Атта нужна Филю в его яранге. Правда, он не сказал, что возьмет ее даром. Филь за нее дает одеяло, ящик табака, два мешка муки. Но я не хочу, чтобы моя дочь ушла к Филю. Не хочу, но я боюсь его гнева. У меня нет ничего, кроме дочери. Научи, Иван, что мне делать.
— Ты слышала, что говорит Эллай? — спросил Черский жену.
— Слышала и могу сказать, как бы я поступила. — Мавра Павловна подсела к Атте и обняла девушку за плечи. — Я бы поехала к этому хаму и отбила у него охоту до молоденьких девушек. Эллай, твоя дочь погостит у меня.
Эллай радостно закивал головой.
— Сколько у тебя забрал соболей Синебоев? — спросил Степан.
— Три дюжины...
— Хитер бобер! За твой должишко и дюжины за глаза. Ты знаешь, где яранга Синебоева?
— В распадке Ветвистого ключа.
— Долго к нему добираться?
— За пять собачьих кормежек.
— Я еду к Синебоеву. Он вернет тебе соболей, Эллай.
— Я поеду с тобой, Степан, — сказал Черский. — Ты сгоряча дров наломаешь.
— Что за нужда, дядя, вмешиваться в дела туземцев? — лениво заговорил Генрих. — Зачем нам портить отношения с приказчиком?
— Странный ты человек, Генрих. Каменная душа.
— Всех людей не обогреешь. Я не советую ссориться с Синебоевым.
— Глупости, Генрих. А тебе, Эллай, не следует ехать с нами. Лучше разыщи своих собак, они где-то скрываются от пурги.
Эллай охотно согласился: ему не улыбалась встреча со своим кредитором. Мавра Павловна собрала узелок с хлебом, вяленой лососиной и плиточным чаем, шепнула мужу:
— Вот за что я люблю тебя, Иван...
Черский и Степан мчались на нартах по долине Ясачной, к белым вершинам Сиен-Томахи. Все вокруг них пенилось и клубилось. Припадая к земле, мела поземка. Вороны попрятались в дуплистые лиственницы, зайцы отлеживались в зарослях краснотала, белые куропатки зарылись в снег.
Пурга, пурга!
Колымская пурга может продолжаться пять, десять, пятнадцать дней. В такие дни Черскому казалось, что в мире нет ничего, кроме ревущего ветра и пролетающих снегов.
Из долины Ясачной выбрались на простор Колымы. Река спала под аршинным покровом льда, но метель вовсю разгулялась над ней. Ветер дул с нестерпимой силой, снег наотмашь бил по глазам.
Противоположный берег обстреливал их камнями, как звонкой шрапнелью, бросал в лицо ветки и хрустящий песок. Пурга дочиста вымела скалы, нарты застревали в камнях, собаки оставляли кровавые следы па голой земле.
Ценою огромных усилий они поднялись на берег, думая лишь об одном — скорее углубиться в леса Сиен-Томахи. Горные вершины то неожиданно возникали, то так же неожиданно проваливались в метель.
К вечеру путники достигли сиен-томахинских лесов. На всем Севере не встретишь таких печальных лесов, как на Сиен-Томахе. На десятки верст тянутся массивы сухих, исковерканных лиственниц. Зимой здесь голые деревья, погруженные в снег, летом — кладбище поваленных, изломанных, гниющих стволов и пней. Сквозь черный пепел пожарищ пробивается лишь редкая крапива да лоснится пегий лишайник.
Первую ночь Черский и Степан провели в сухостойном лесу, под огромными валунами, перед жарким костром. Собаки вместе с ними сидели у костра, подняв острые морды в иссеченное пургою небо. Путников окружала темнота, непроницаемая, как бездна, и такая же страшная. Достаточно было шагнуть от костра, чтобы тотчас же провалиться в темноту ночи.
Степан задремал, уткнув голову в колени. Проснулся он перед рассветом. Пурга утихла, костер погас, только головешки трепетали синими огоньками да в тенях лиственниц поблескивал снег.
Черский спал, подтянув колени к подбородку, обхватив руками шею собаки. Степан посмотрел на его белую неподвижную фигуру и невольно подумал: «Непоседливый мужик Иван-то Диментьевич-то. Какая морока гонит его в тайгу? Помогать юкагиру? Все равно всем не поможешь. А мужик-то он больно душевный. Не зря инородцы к нему за помощью лезут. Жалостливый к чужой беде человек. Да и сам-то, чую, досыта хлебнул горя. Кто беды не испытат, тот чужой не понимат...»
Степан сварил завтрак, накормил собак, разбудил Черского. Тот отряхнулся от снега и весело крикнул:
— Ты не замерз, Степан? Нет? Тогда вперед, в гости к Синебоеву.
Двое суток проплутали они по сиен-томахинским лесам. И хотя Степан ни разу не был здесь, но все же отыскал тропинку на Ветвистый ключ.
Редко встретишь человека в этих холодных лесах. Только охотники живут здесь, промышляя соболя и белку, да рыбаки ставят свои переметы на лесных озерах. Зато привольно и добычливо жить охотникам и рыбакам. Весною гнездятся здесь полчища диких гусей. Полнозвучные лебединые стоны нарушают камышовый покой болот, серебряными трубами курлыкают журавли. В чащобах ревет сторожкий сохатый, мнет голубицу медведь. В речных омутах тучами ходит хариус и налим, росомаха прыгает на зайчишку, полярная сова разрывает кедровку.
Но сейчас зима — в лесах холодно и пустынно.
Весь день пробирались Черский и Степан по руслу Ветвистого ключа: Собаки по уши проваливались в сугробы, пришлось утаптывать снег и вырубать тальниковые заросли. Голые сучья лиственниц хватали за шиворот, дымящиеся наледи преграждали путь, одинокие вороны со зловещим безмолвием кружили под ними. Удивительно неприятные птицы — радуются всему живому, попадающему в беду.
Сумерки опять затянули сопки, а Черский и Степан без отдыха продвигались вперед. Русло ключа сузилось до трех аршин, отвесные скалы сдавили его с обеих сторон. Путники очутились в извивающемся каменном коридоре. Над головами густо зачернело небо, угрожающе нависли снежные наносы. Каждую минуту они могли обрушиться в ущелье.
Собаки уже не лаяли, не резвились. Опустив хвосты, они тянули нарты, устало повизгивая. Черский шел за нартами, подавляя желание сесть на снег, закрыть глаза и уснуть. Даже Степан стал сдавать: по тому, как он переставлял ноги, можно было догадаться, что Расторгуев на пределе усталости.
— Давай переночуем, — предложил Черский.
— Здесь нельзя. Здесь нет дров, — ответил Степан. — Пройдем эти «чертовы прижимы» — и сразу на привал.
А каменный коридор все уползал и уползал в чернозвездную ночь. Наступила такая тишина, что стало больно ушам. Слабое перевивгивание собак, скрип парт, шорох шагов обрушивались в тишину, как горный обвал. Странное испытывал чувство Черский, когда слушал тишину и грохот одновременно. Это казалось нереальным, неправдоподобным, но это было так.
Самое, непонятное заключалось в том, что тишина мгновенно поглощала все звуки.
Гул.
Тишина.
Грохот.
И опять тишина.
Это не успевало поколебать воздух, и он, отяжелевший от мороза, не в силах был заволноваться или дрогнуть.
Путники остановились. Два человека и собачья упряжка стояли под звездным небом морозной ночью, прислушиваясь, сами не зная к чему.
Весь окружающий мир будто нарочно притих и, приподнявшись на цыпочки, рассматривал их. Он тоже прислушивался к ним. Кто они такие? Чего хотят? Как их встретить?
Морозную, пахнущую снегами тишину неожиданно расковал выстрел. Снега зашептались, воздух пробежал по ущелью, тайга широко вздохнула, освобождаясь от своего оцепенения.
Черский сначала не понял, почему так внезапно родилось эхо, потом догадался. Выстрел был вне ущелья, где воздух не так плотен. Он хлынул в ущелье и привел в движение воздух, оцепеневший от мороза.
Собаки отчаянно завыли, их вой взлетел над обрывами и окончательно сокрушил тишину.
— Кто же это стрелял? Неужели Синебоев? Тогда его избушка за первым поворотом, обрадовался Черский.
Через десять-пятнадцать минут каменные прижимы кончились, уступив место просторной долине. Над пологим берегом переливался красный столб искр. Запах дыма ударил в ноздри.
Собаки залаяли, натянули постромки и устремились на красный столб. Черский и Степан стали искать место, где можно быстрее подняться на берег, но не находили его.
— Сюда, друзья, сюда! Здесь легче всего выбраться, — раздался громкий голос. Невысокий человек в волчьем полушубке, в беличьей шапке с длинными ушами, закинутыми за спину, кубарем слетел с обрыва, посмотрел на ученого и схватил его окоченевшие руки.
— Здравствуйте, господин Черский! Рад неожиданной встрече. Здравствуй, Степан! Какое счастье! По глазам вижу, как вы устали. Скорее в мою избушку. Я позабочусь о ваших собаках.
Прежде чем Черский смог сделать протестующий жест, Синебоев освободил от постромок собак и сам потащил нарты.
— За мной, за мной! — приговаривал, он, легко перетаскивая нарты через сугробы. — Вас ожидает горячий чай и жареная сохатина. Я только что убил сохатого. Он заявился в гости, как по заказу. Проходите в избушку, я накормлю собак.
Синебоев построил избушку из толстых сухих лиственниц, обложил ее снаружи мохом, стены и потолок внутри обил оленьими шкурами. Единственное оконце было затянуто щучьей кожей, на грубом, сколоченном из жердей столике чадила плошка, полная медвежьего жира. Фитиль был ссучен из медвежьей же шерсти. Тонкие жерди, уложенные на камни, заменяли кровать. Над кроватью висели два винчестера, между ними кривой охотничий нож. В переднем правом углу помещался камелек.
Почти вся хижина была заставлена мешками, ящиками, банками с разными продуктами: между ними лежали котлы, ножи, топоры. На стенках, на ящичках, на мешках искрились шкуры соболей, черно-бурых лисиц, белых и голубых песцов.
Черский и Степан разделись и присели на толстые очищенные пни. Черский остановил взгляд на искрящихся мехах.
«Сколько охотников ограбил Синебоев? Скольких опоил проклятой водкой, обманул, обчистил? На это я, пожалуй, не получу от него ответа. А как спокойно он себя здесь чувствует! Будто колымская тайга — его собственный дом», — подумал Черский.
В избушку стремительно вошел Синебоев.
— Собаки накормлены, я запер их в сарайчик. В нем лучше, чем на улице. Наберитесь еще терпения, я приготовлю ужин.
Он засуетился около камелька, наполняя сковородку свежими кусками сохатины, захлопотал над бутылкой водки, смачно крякнул, выдергивая пробку, потом настрогал розовые ломтики лососины.
Черский невольно залюбовался Филиппом Синебоевым. Приказчик был приземист, но широк в плечах. Продолговатое лицо окаймляла черная бородка, зеленоватые глаза сияли влажно и властно. Черский любил рассматривать и сравнивать человеческие глаза. Он сравнил глаза Синебоева с драгоценным камнем александритом. Когда рассматриваешь александрит при солнечном свете, он кажется синим и глубоким. Ночью мерцает зеленовато, остро и холодно. В пасмурную погоду александрит подернут сизой пленкой; при огне глаза Синебоева имели все цвета переменчивого александрита.
Синебоев смотрел на Черского настороженно, но ласково и внимательно. Черскому стало неудобно под этим настороженным взглядом. Они явились к Синебоеву для неприятного разговора, их разговор может кончиться ссорой, а приказчик встречает своих врагов, как желанных гостей.
Степан вытащил из кармана трубку, закурил ее, темнея напряженным лицом. Черский догадался, Расторгуев подсчитывает стоимость мехов, развешанных в хижине.
Черскому расхотелось предстоящего неприятного разговора: было так хорошо сидеть в теплом помещении, вдыхать запах жареного мяса и крепкого табака. Трудный путь и вязкая усталость брали свое.
Синебоев поставил на стол сковородку с дымящейся сохатиной, разлил по стаканам водку.
— За дорогих гостей! За счастливую встречу! — Он весело поднял стакан. — За плавающих и путешествующих! За всех, кто сейчас в пути под морозным северным небом...
Губы Степана дрогнули, брови сдвинулись, рука потянулась к стакану. Черский встревожился: что может выкинуть Расторгуев?
— За тех, кто в пути, — ответил Степан. — Но не за тех, кто сдирает с людей последнюю шкуру...
С этими словами он швырнул стакан в лицо Синебоеву. Приказчик отшатнулся, вытер рукавом лицо и медленно, даже лениво снял со стены винчестер. Черский бросился между приказчиком и Степаном.
— Что вы делаете? Остановитесь!
— Дай ему ружье, Иван Диментьич. Это дерьмо не выстрелит! Дай!
— Что вы делаете? Образумьтесь! — взволнованно повторил Черский. — Вы не посмееете драться...
— Верно, — усмехнулся Синебоев. — В моей хижине не будет ни драки, ни убийства. Успокойтесь, господин Черский, и сядьте.
Приказчик поставил винчестер в угол, выпил водку и заговорил с вежливой яростью:
Не думайте, что я испугался. Совершенно напрасно затевать драку. Ссору начали вы, а я в долгу не останусь. Я сумею расквитаться.
Клянусь своей совестью, Расторгуев, я пущу тебя вниз по реке быстрее, чем ты думаешь. А теперь убирайся отсюда...
— А я тебя трусом не считаю. Ты мошенник, а не трус. Вот только пустишь ли ты меня вниз по реке, сумлеваюсь. Выкладывай на стол меха Эллая Хабарова, и я уберусь.
— Ах, вот оно что! Вот зачем вы пожаловали? Нищий — защитник нищего. А я обдираю туземцев — каюсь! Мошну на них набиваю — тоже каюсь! За муку с Эллая причитается пять соболей, за котел еще пять, за винчестер десять. Итого двадцать. А я взял три дюжины. Лишних шестнадцать. Получай сдачу. — Синебоев наклонился: из-под койки к ногам Степана полетели черно-бурые лисы и голубые песцы.
— Пусть их забирает Эллай к чертовой матери! Только куда он денется, когда жрать захочет? Когда патроны и порох выйдут? К Синебоеву? Шалишь, кум, не с той ноги плясать вздумал.
—Синебоев! Если чо с Аттой, тебе не жить в Верхне-Колымске, — угрожающе заявил Степан.
Синебоев расхохотался.
— Вот это по-моему! И здорово и красиво! Передаю девку тебе. Пользуйся ей сколько влезет. Что еще от меня требуете? Пока все? Тогда до свиданья! Ровного пути, скатертью дорожка...
Глава седьмая
Он подрезал гусей дуплетом,
Глушил медведей топором.
Он мог бы стать большим поэтом.
Когда бы не был он попом.
Холодный звон проникал в кабинетик ученого, и склянки с заспиртованными рыбами жадно отзывались на колокол.
Церковный колокол созывал верхнеколымцев к заутрене.
Наступало рождество Христово — большой праздник для жителей Верхне-Колымска.
Мавра Павловна хлопотала около печи: ей хотелось состряпать вкусный праздничный обед, но припасы быстро оскудевали. Уже к рождеству были истрачены почти вся мука, сахар, чай.
А грузы из Якутска все не прибывали. Купец Бережнев не сдержал своего слова, приказчик Филипп Синебоев не хотел ничего знать.
Перед рождеством он примчался в Верхне-Колымск, пять дней гулял в доме священника Стефана Попова. В этом доме пропадал и Генрих Дуглас, прельщенный полногрудой и густобровой дочерью священника Катериной.
Синебоев покорил Генриха широтою своей натуры и прекраснодушием. Из купеческого амбара в поповский дом текли вино, крупчатка, сахар, сласти. Синебоев подарил всем шести поповнам по серебристой лисице, а Катерине еще и беличью дошку. С Генрихом он подружился с первой минуты.
— Я немножко сердит на вашего дядю, но вы-то тут ни при чем. Иван Дементьевич — человек благородный, я его встретил по-благородному, а расстались врагами. И подумать только, из-за кого? Из-за этого скота Расторгуева. Я бы рад помириться с господином Черским, да не могу. Подумает, что низкопоклонствую. Я перед его ученостью преклоняюсь, но низкопоклонничать? Пардон! И благодарю покорно!
А Расторгуеву я душу выверну и высушу на колымском морозе...
Заметив, что Генрих увлечен Катериной, Синебоев обрадовался. У него созрел план мелкой мести Черскому.
Мавра Павловна между тем волновалась все больше и больше. Провизии еле-еле хватит до мая, а ведь в мае начнется полное лишений и неизвестности путешествие. Она страшилась сказать мужу о скудных припасах: не хотелось его тревожить и беспокоить. Слава богу, он хорошо переносит колымскую зиму, но что-то будет, когда наступит весна? Весной туберкулез его разгорится, что тогда? Как быть?
Колокольный звон разбудил Черского. Он вспомнил: сегодня рождество, вскочил с диванчика, весело крикнул жене:
— Мавруша, пойдем к заутрене?
— Некогда. Стряпаю. Кстати, пригласи отобедать отца Василия.
— А где Генрих?
— Где ему быть? С утра ушел к Поповым.
— Что-то он зачастил туда?
— Катериной околдован. Нашел себе черно-бурую лису.
— Дело молодое, Мавруша.
В кабинетик вбежал Саша и затормошил отца.
— Папа, пойдем скорее. А то заутреня кончится,
Черский оделся, расчесал бороду, красиво и строго завязал на манишке галстук.
На дворе Степан кормил сушеной юколой собак. Рыча и повизгивая, псы рвали из его рук рыбу.
— Степан, в церковь пойдешь? — спросил Черский.
— А для чо? Я богу и в тайге помолюсь. Мне нарты починить надоть.
Черский взял за руку сына и направился к церкви. С правой и левой стороны единственной улицы тускло смотрели ледяные пластины окошек: верхнеколымцы, не имея стекла, вставляли в окна отполированной лед. У темных изгородей валялись нечистоты, на шестах висели оленьи шкуры, пахнущие застарелой кровью.
Над заржавленным крестом замшелой церквушки проносилась снежная крупа, голодные собаки шныряли у полусгнившей паперти. Печальный голос колокола задыхался на голом ветру.
Толпа прихожан раздвинулась, пропуская Черского к алтарю.
Черский увидел Филиппа Синебоева, стоявшего на самом почетном месте. Приказчик распахнул тяжелую волчью доху: из-под нее алела шелковая рубаха и отливали густо-зеленым цветом заправленные в меховые торбаса брюки. Черский бросил мимолетный взгляд на стайку девушек — дочерей священника Попова и псаломщика Протопопова. Среди девушек не было Катерины. Черский увидел Эллая: старик слушал богослужение, опершись на винчестер. Атта с восторженным испугом смотрела на отца Василия огромными, черными, как лесные цветы, глазами.
Таежная тоска подкатилась к сердцу Черского — вокруг мелькали обмороженные, страдальческие, полуголодные лица. Темные глубокие морщины, покорные руки, сгорбленные спины. Облезлые собачьи полушубки, порванные оленьи малицы, изломанные морозом малахаи и треухи. Русские, якуты, юкагиры — бедные, несчастные, замордованные люди, — смелые охотники, отчаянные рыбаки, безвестные землепроходцы! Ими измеряна, истоптана голая и железная эта земля, ими пройдены эти студеные реки, обшарены таежные дебри. Это они могли бы стать легендарными открывателями северных пустынь, если бы умели заносить их на карты, описывать их, объявлять человечеству о своих славных, но неведомых путешествиях.
Они молчат, ибо не ведают величия своих открытий. Они покорно молятся богу, они неслышные герои русской земли!
Отец Василий возвышался над ними подобно сибирскому кедру над чахлыми лиственницами. Обросший жесткими вороными волосами, с сизым ноздрястым носом, он небрежно, с лукавой торжественностью благословлял свою паству позеленевшим крестом. Неистребимой силой дышал этот веселый старик. Заметив Черского, он поднял над головою крест и проникновенно начал проповедь:
— Братие! Рабы Христовы! В день светлого рождества спасителя нашего, Иисуса Христа реку: трудно вам, тяжело вам! Голые вы люди на голой земле. Нищие и нагие, голодные и забитые. Многие из вас даже не знают, что такое плод. О плоде не духовном глаголю вам, а говорю о самом простом анисовом яблоке. Вы даже не вкушали сего плода, братие. Не беда! Это не мешает вам быть добрыми, смелыми, честными. Как вы похожи на того садовника, что, дожив до преклонных лет, изрек:
«Могу умереть, о господи! Я неплохо прожил жизнь. Я развел для людей богатый сад».
И только изрек он сие, как явилась девушка. Молодая, красивая.
«Я пришла за тобой, отче».
«А кто ты такая?»
«Смерть...»
«Странно! Я думал, смерть с пустыми глазницами и ходит с косой».
«У каждого свое понятие о смерти. Прежде чем умереть, покажи мне свое сердце».
Старик открыл грудь.
«Боже! — воскликнула смерть. — У тебя там пустота. Как должны ненавидеть тебя люди, тебя, человека без сердца!..»
«Ну, ты врешь, — ответил старик. — Все будут рыдать, когда я умру. Ведь я же отдал свое сердце людям».
Вот и вы, братие, подобно садовнику, ежечасно раздаете свои сердца и тому, кто нуждается в них, и тому, кто не нуждается. Да ниспошлет бог мир и покой в ваши души страждущие! Аминь!
Отец Василий кончил проповедь, прихожане повалили из церкви.
— Мавра Павловна приглашает вас отобедать, отец Василий, — подошел к священнику Черский.
— Почту за большую честь, — растроганно ответил священник. Натянув поверх застиранной холщовой рясы рваный дубленый полушубок, отец Василий размашисто зашагал сквозь снегопад. Черский едва успевал за длинноногим попом.
Мавра Павловна, розовая от кухонной жары, поклоном приветствовала священника.
— А я боялась, что опоздаете. Извиняйте за угощенье, отец Василий. Особенно попотчевать нечем.
— А мне рюмочку водки и кусок кеты, матушка, — окая и растягивая слова, ответил священник. — Я деликатесов не люблю.
— А строганину из нельмы? А налимьи печенки? Оладьи с красной икрой?
— Чревоугодие! Давай, матушка Мавра Павловна, все на стол мечи.
Мавра Павловна подавала на стол и с любопытством посматривала на священника. Он пил, крякал, багровел, расправлял ладонями рыжую полуседую бороду и с наслаждением беседовал с Черским. Мавра Павловна заметила, что священник в светском разговоре избегал церковнославянских слов. Говорил свежо и сочно, пересыпая речь пословицами и поговорками.
За окнами раздалась беспорядочная пальба.
— Генрих палит! — крикнул Саша, выбегая из комнаты. — Почему стрельба и крики и эскадра на реке? — раздался его голосок за дверью.
— Шустрый мальчонок, — усмехнулся отец Василий. — Славно иметь наследника на старости лет. У меня тоже веселый отрок зреет.
— Извиняйте, отец Василий, за нескромный вопрос, — сказала Мавра Павловна. — Не пойму я, зачем вы здесь живете? Давно хотела спросить, да стеснялась.
— Чем вас очаровала Колыма, в самом деле? — поддержал вопрос жены Черский.
Отец Василий сдвинул лохматые брови. Губы его стали жесткими, словно жестяными, желваки на скулах посерели. Казалось, священник или неистово заругается, или жалобно запричитает, зажалуется на судьбу. Но отец Василий так добродушно рассмеялся, что Черские невольно улыбнулись.
— Я не по своей воле обретаюсь в Верхне-Колымске. Я живу здесь по воле его преосвященства иркутского архиепископа. Послан его преосвященством в Верхне-Колымск на покаяние...
— За что? — изумленно спросил Черский.
— За ересь...
— За какую ересь?
— Сослан за вольнодумство...
Отец Василий широко улыбнулся, и улыбка его осветила ореховые глаза и пышную бороду. «Ссыльный поп — это звучит и смешно и горько», — подумал Черский. «Когда этот поп смеется, становится как-то теплее», — подумала Мавра Павловна.
А за окнами продолжалась пальба. С улицы доносились мужские крики и девичий смех. «Ай да Генрих! Шапку мою — пулей навылет. Бей, не жалей! Во имя рождества Христова одну пулю в лоб, другую — в задницу!»
—Синебоев разгулялся, — заметил отец Василий. — Когда трезв, хитер, как бес, а пьян — наружу лезет обман. Мы здесь все под его дудку пляшем. Ничего не поделаешь — сила! О туземцах и не говори, все они у Филиппа Сысоича в долгу, как в шелку. А ведь што интересно, у этого живоглота бывают иногда души прекрасные порывы...
— Мы отвлеклись от интересующего меня разговора, — мягко заметил Черский. — Мне все же хотелось бы знать, за какое вольнодумство сослал вас архиепископ в Верхне-Колымск?
— Пребывая в Иркутске, я недозволенно интересовался житием декабристов. Собирал сведения с целью дать описание жизни и полезной деятельности оных в Сибири. Его преосвященство признал мои деяния вольнодумными и неприличествующими сану. Вот и сослал в Верхне-Колымск на покаяние...
Улыбка сошла с лица Черского. Ему стало грустно, сочувствие к отцу Василию вызвали горькие воспоминания. Вспоминались не только сосланные в Сибирь декабристы, но и участники польского восстания восемьсот шестьдесят третьего года.
Отец Василий откинул назад волосы, положил на грудь мозолистые ладони и снова сказал:
— А все-таки жаль! Интересные материалы я нашел в иркутском архиве. Особенно письма декабриста Завалишина. В них неоднократно и благоговейно упоминались имена Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола. Ценные письма для истории российской. Втуне лежат, погибнуть могут...
Имя декабриста Муравьева по ассоциации напомнило Черскому имя палача польских повстанцев военного генерал-губернатора Муравьева.
— Вы напомнили мне горькие вещи, отец Василий. Я до сих пор не могу без содрогания вспомнить гнусные слова: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают. Я из тех Муравьевых, которые вешают сами...»
— Слова, достойные Иуды-христопродавца.
Воспоминания юности нахлынули на Черского страшным, безмолвным потоком, и было невозможно от них избавиться. Мавра Павловна поняла возбужденное состояние мужа и поспешила перевести разговор на новую тему.
— Надо бы попросить Синебоева. Не можем же мы продолжать путешествие без муки и сахара. До Нижне-Колымска больше тысячи верст. Как ехать, без хлеба?
Черский махнул рукой.
— К Синебоеву на поклон не пойдем. Придут же к весне наши грузы из Якутска.
— У меня есть в запасе мучица. Сделайте одолжение, возьмите, — предложил священник.
— Спасибо, отец Василий! — Черский пожал священнику руку.
После обеда они перешли в кабинетик. Священник поправил густые волосы, умные ореховые глаза с нескрываемым любопытством следили за путешественником. Отец Василий понимал в медицине и давно уже приметил, что Иван Дементьевич болен. Его душит туберкулез, мучает астма, плохо работает сердце. Достаточно одной из трех этих болезней, чтобы приковать человека к постели. Знает ли об этом Иван Дементьевич? Священник осторожно, исподволь заговорил о болезнях.
Черский слушал, положив на стол исхудалые руки, и перебирал листки своего проекта помощи местным жителям.
— Я полагаю, — выпячивая «о», говорил отец Василий, — древние римляне были правы, утверждая, што лишь в здоровом теле — здоровый дух. Посмотрите на меня, я пока один на один с медведем встречаюсь, колымских осетров острогой бью не хуже любого якута. Горжусь сим, многогрешный! Ежели бы им знали, как баско осетра острожить! И что может быть слаще осетровой ухи, да с водочкой, да у лесного костра? У вас, Иван Дементьевич, дух мятущийся, но сильный, а вот тело надо поправить. Подзакалить его надобно. Оставайтесь у нас на лоне природы подольше. Вам ведь не обязательно в мае по реке сплывать. Оставайтесь, право! Гусей постреляем, осетров побьем, сил наберемся, и тогда — с богом. С богом тогда...
Черский только улыбнулся на простодушную хитрость священника.
— Отец Василий, я весьма реально смотрю на свое здоровье. Знаю, что даже в самых идеальных условиях протяну недолго. Так скажите мне: может ли спокойно умирать человек, не выполнив хотя бы частицы своего дела? Зачем же тогда я ехал сюда из Петербурга? Успокоиться, не приблизившись хотя бы на шаг к своей цели? Нет, я так не могу. Любимый мой девиз — вперед, и никогда назад! А я могу умереть, не сделав еще одного шага вперед. Нет, нет, только вперед, и никогда назад!..
Черский навалился грудью на стол, к чему-то прислушался и произнес медленно, с усмешкой:
— Слышите, какая музыка играет в моей груди? Туберкулез и астма задушат меня весною. Я знаю об этом...
«И я знаю — задушат», — подумал священник, но не осмелился высказать вслух свой ответ. Поэтому солгал:
— Что ты! Мы еще поживем, Иван Дементьевич.
— Мне недолго жить, а цель вот она, передо мной.
Черский показал на географическую карту, недавно вычерченную им. Голубой струйкой вилась по ней Колыма к Ледовитому океану. Горные цепи и хребты Томус-Хая, Сиен-Томаха, Тас-Кыстабыт, а за ними река Индигирка, тоже текущая с юга на север, в Ледовитый океан. Со дня приезда в Верхне-Колымск Черский трудился над составлением этой карты, исправляя на ней ошибки своих предшественников.
«Карта верхнего течения рек Индигирки и Колымы, а также Индигирско-Алданского водораздела. Исправлена на основании маршрута 1891 года и расспросных сведений И. Д: ЧЕРСКИМ», — прочитал священник.
— Вот она, моя цель, отец Василий, — повторил Черский и постучал большим пальцем по карте. — Эти великие северные реки, эти горы, леса и тундра — «белое пятно» на всех географических картах мира. Академия наук снарядила сюда мою экспедицию, а я брошу путешествие лишь потому, что болен? Да что вы, отец Василий! Как бы трагически ни сложилось мое путешествие, я должен ехать! Прошу вас об одной услуге. Я пишу в Академию большой отчет о своем пути из Якутска в Верхне-Колымск. И отчет, и карту, и коллекции эти, — Черский обвел рукой кабинетик, — в случае моей смерти переправьте в Петербург. Наша экспедиция будет продолжаться до Нижне-Колымска, даже если я буду мертвым. Я радуюсь, что успел познакомить жену с целью исследований наших. Она закончит экспедицию...
«Он говорит о себе, как об умершем», — с горечью подумал священник и неожиданно для самого себя произнес: — Я ошибся, говоря, что древние римляне утверждали: в здоровом теле — здоровый дух. Не правы древние римляне! Вы опрокидываете их слова собственною персоною.
— Какой я римлянин! Просто о падении духа не при мне писано. Не при мне — и все тут! Так вы обещаете выполнить мою просьбу?
— Обещаю, — ответил отец Василий.
— И еще одна просьба. За время моего пребывания на здешнем Севере насмотрелся я на жизнь инородцев. Страшно сказать, как они живут. Несчастные люди страдают от купцов и шаманов больше, чем от суровой природы. Да и вы в сегодняшней чудесной проповеди говорили о голых людях на голой земле. Я вот написал «Проект помощи местным жителям Севера». — Черский взял со стола и подал священнику исписанные листки. — Вот он, мой проект. Но что такое мой голос? Глас вопиющего в пустыне! Ко мне царское правительство не прислушивается. Чересчур одиозный я для него человек. Но вы! На вас священный сан. Во имя Христа и справедливости поднимите голос в защиту инородцев. Умоляю вас, поднимите свой голос...
Глаза Черского, только что лихорадочно блестевшие, погасли, руки обессилено лежали на столе. Во всей фигуре его было такое безысходное отчаяние, что священник перепугался. Он заговорил, смягчая свое оканье, стыдясь беспомощности слов своих:
— Иван Дементьевич, видит бог, но я тоже ничем не могу помочь инородцам. Меня в епархии слушать не пожелают. Стражду, а помочь не могу.
Черский глубоко и жадно вдохнул прохладный воздух. Сжал кулаки. Закусил напряженные губы.
— Сколько людей гибнет на святой Руси! Добрых, честных, смелых! Возьмите якутов, одулов, юкагиров. Что за душевные, отзывчивые люди! В метельную ночь ли, в морозный ли день, но гостя, зашедшего в ярангу, хозяин разденет, разует, высушит его обувь, накормит последним своим куском.
— Все знаю, все, вижу, а помочь не могу, — тоскливо пробормотал отец Василий.
Черский уже не слушал оправданий попа. Увлеченный ходом своей мысли, он следил за ее поворотами, как всегда неожиданными.
— И есть же наглецы, клевещущие на северные народы! И эти наглецы осмеливаются называть себя учеными! Недавно, отец Василий, я прочитал совершенно позорные строки. Они, как гвоздь, застряли в моем уме...
Он процитировал, совершенно не напрягая память:
— «Умственные способности северных народов гораздо ниже, чем у европейцев». Это писал какой-то немецкий антрополог. Забыл фамилию, прочитав эти слова его. Если нельзя наказать подлость, ее следует презирать. Но хотел бы я видеть, — повторил он, — этого антрополога рядом с Эллаем перед лицом северной природы! На оморочке у бушующих порогов, с ножом против медведя, в снегах на чудовищном морозе.
Хотел бы столкнуть его с их мужественной правдой, с любовью к человеку, с их простыми, но мудрыми понятиями о чести, долге и совести. Наконец с их песнями, чистыми и живыми, как лесной родник. «Способности ниже, чем у европейцев». Вот клеветник, вот бесстыдник!
— Согласен! Сие срамно, — поспешно согласился отец Василий. — И все же ни вы, ни я не и силах облегчить судьбу несчастных инородцев России...
Они замолчали, и каждый задумался о своем. Черский перебирал страницы рукописи, отец Василий вынул кисет и стал свертывать цигарку. Махорочная пыльца осыпалась на рясу, кисет подрагивал в волосатых пальцах. Тонкая папиросная бумажка лопнула, отец Василий скомкал кисет, положил в карман и поднял на Черского выпуклые глаза.
— Инородцам я помочь не могу, — повторил он, возвращаясь к начатому разговору. — Сие я понял давно, остается только вздыхать, страждать и молится за облегчение их судьбы. А вам, Иван Диментьич, ежели понадобятся мои услуги, завсегда готов оказать их.
Черский улыбнулся попу.
— Спасибо! Я готов принять вашу помощь сию же минуту. После исследования Колымы я переберусь на Индигирку. Места на этой реке дикие, совершенно неизвестные науке. Они — «белое пятно» на карте Российской империи. А вы жили на Индигирке. Хочу иметь ясное представление об Индигирке, расскажите о ней подробнее.
— Я могу только рассказать о Русском устье, — ответил отец Василий. — Местечко прелюбопытное, но не приведи господь попасть туда снова. Трудно там жить, тошно там быть, а любопытно. Поучительно, — подчеркнул поп последнее слово.
— Русское устье — это что такое?
— Древнейшее поселение русских людей на Индигирке. Я прожил в нем восемь месяцев. Ссылку-то свою спервоначала я в Русском устье отбывал. Потом уже надо мной его преосвященство смилостивился, в Верхне-Колымск перевел.
Отец Василий задумался, собираясь с мыслями, вспоминая уже позабытые годы своей жизни в Русском устье. Потом, окая, сопя толстым носом, покашливая в кулак, начал рассказывать. Он говорил медленно, бессвязно, сбивался на мелкие подробности, упускал характерное, но все же перед Черским вставали необычайные картины жизни русских поселенцев на реке Индигирке...
Глава восьмая
По далекой Индигирке
Ходят горе и беда.
Даже в месяце июле
Тяжела ее вода!
Было тихое июльское утро, когда рыбацкая «ветка» причалила к травянистому берегу. Ссыльный священник Василий Сучковский и сопровождающий его жандарм вышли из лодки и побрели к почерневшим избам, рассыпанным по берегу. Покрытые дерном, с окнами, затянутыми щучьей и налимьей кожей, жилища эти были жалкими, словно охваченные безысходным отчаянием. Непролазная грязь, нечистоты, свалки мусора, рыбьих костей, оленьих черепов громоздились по сторонам узкой тропинки, ведущей к поселку.
К востоку, югу и северу от реки лежала необозримая тундра: на ней нежно цвела звездоплавка, зеленел можжевельник, пепельные облака отражались в озерках и лужах. Тундра ярко, свежо и остро дышала под незаходящим солнцем, а в поселке царило безмолвие. Не лаяли собаки, не раздавались женские голоса, не появлялись мужчины. Русское устье казалось покинутым, лишь синие огоньки под пеплом, свежая рыбья чешуя да одежда, развешенная на шестах, напоминали о том, что люди где-то рядом.
Жандарм распахнул дверь, священник вошел в избу. Странное чувство охватило его в этой избе, построенной из речного плавника. Отец Василий будто перенесся из девятнадцатого в шестнадцатый век.
Отпечаток допетровской старины лежал на дымных иконах, на домашней утвари, расписанной ромашками и одуванчиками, на горшках и корчагах, покрытых глазурным узорочьем. По стенам висели рубахи непомерной длины, холщовые юбки, расшитые бисером, цветастые сарафаны, картузы с высокими козырьками, собольи боярские шапки, зипуны, азямы.
Над входной дверью чернели большие кресты, отгоняющие нечистую силу.
В окошки, похожие на бойницы, с трудом проникал дымчатый свет, налимья кожа, заменявшая стекло, казалась от солнца рыжим пергаментом. Священник заметил, что шпингалеты в оконных рамах сработаны из мамонтовой кости, дверная ручка — из моржового бивня. Икона Николая-угодника была также в раме из мамонтовой кости, украшенной причудливыми узорами растений и трав.
Старинная одежда и домашняя утварь, закоптелые полати, столы и скамейки, выскобленные до блеска, русская, занимающая половину избы печь, суровые полотенца, вышитые лиловыми и желтыми петухами, —; все носило печать далекого прошлого. На столе валялся медный прозеленевший пятак с изображением Георгия Победоносца. Святой всадник пронизывал копьем извивающегося змея, и священник определил, что монете по крайней мере четыреста лет..
Жандарм посетовал, что люди только вечером вернутся с рыбалки, снял сапоги, забрался на печь и уснул. Отец Василий посидел с полчаса на скамье и вышел во двор. На дворе он наткнулся на странную глыбу. Огромная, серая, выше человеческого роста, она казалась высеченной из гранита. Это был череп кита, в котором хранился медный котел, топоры, поплавки для сетей, обломки плавника, ржавые остроги, юкагирские стрелы с костяными наконечниками.
Священник постучал кулаком по китовому черепу, вздохнул, перекрестился и побрел со двора. Через пять шагов он снова оказался в мокрой, мерцающей, покрытой бледными и холодными цветами тундре. «Вот где мне придется жить, нет, прозябать, — с тоскою подумал священник. — Мне, ссыльному попу, поручено проповедовать здесь слово божье, а кому? Судя по иконам, здесь живут русские старообрядцы, а не якуты, не юкагиры. Признают ли они меня за своего духовного пастыря?»
Наступил вечер, солнце катилось по краю тундры, печальное и далекое, как утраченная надежда. Отец Василий увидел в низовьях Индигирки паруса. Легкие карбасы и «ветки» спешили с рыбной ловли.
Из причаливших лодок выходили бородатые мужики, парни, стриженные «под горшок», женщины и девушки в сарафанах и душегрейках, ребятишки, подпоясанные кручеными опоясками. Жители Русского устья без удивления, без восклицаний приветствовали священника, словно он был их давним и постоянным жителем.
Отец Василий видел русские лица, слышал русскую речь и не понимал ни слова. Жители Русского устья говорили нараспев по-московски, окали по-вятски и вологодски, сыпали владимирскими скороговорками, в их речь врывались сочные словечки архангельских поморов и византийская вязь изречений — и все-таки священник ничего не понимал.
Лишь через несколько дней он стал улавливать смысл их слов и понял, что жители разговаривают на древнем русском языке, изменив и приспособив его к своему заполярному обиходу. Но этот обиходный язык не был убогим и жалким. Он блестел и переливался образными сравнениями, тонким колоритом охотничьей и рыбацкой жизни и северной природы. Одна-две короткие фразы заменяли длинные и пустопорожние разговоры, старое, слегка измененное, слово приобретало новый звучный и точный смысл.
Хозяин избы, у которого поселился отец Василий, рыжебородый могучий старик, тяжело окая, произносил по утрам:
— Нонесь денек-то будет комарным...
И священник сразу видел утренний воздух, затянутый тучами зудящего комарья.
— Опять на улице копотно, — жаловался старик.
И перед глазами отца Василия вставал пасмурный, в густом молочном тумане, денек.
Хозяйка, пожилая, с плавными движениями, с выцветшими голубыми глазами женщина, вздыхала:
— Остались в мангезеюшке упыль да мышеядь...,
И священник уже представлял пустой амбар с седой пылью и мышиным пометом вместо муки.
— Трудновато вам жить здесь, — говорил он хозяйке. — Правда ведь?
Хозяйка отвечала с тихим спокойствием:
— Самую заболь сказали, батюшка!
И он опять чувствовал, что это печальное слово «заболь» точнее, глубже, выразительнее его слова «правды».
Жители Русского устья называли непролазную грязь «няшей», речной залив ««курьей», тундровые тальники «веретьем», предание «прилогом», рассказ «сказкой». Чем больше узнавал отец Василий необычных для него слов, тем сильнее убеждался в том, что в Русском устье говорят на языке времен Ивана Грозного и Бориса Годунова. Обитатели малюсенького поселения на Индигирке, живущие в настоящем, принадлежали прошлому. Они не понимали истории, не знали отшумевших больших, и малых срытий, не интересовались ничем, кроме охоты и рыбной ловли.
И все же в памяти их еще хранились истлевающие сказки о предках, приплывших с берегов Белого моря на индигирские берега. По смутным воспоминаниям, горьким догадкам, неправдоподобным домыслам повторяли они зыбкую историю появления своих предков на Индигирке.
Постепенно из бесед и расспросов отец Василий нарисовал себе такую странную, почти легендарную картину.
...То ли в дни Бориса Годунова, то ли в царствование Алексея Михайловича из подмосковных мест бежали к Белому морю боярские крепостные, но и там не нашли вольной жизни. Они попали в цепкие руки монастырей и торговцев. И беглецы решили очертя голову кинуться дальше на поиски матерых земель, где можно было бы жить вольно, без боярского и царского ярма. Как перелетные птицы, сбившись в большую стаю, отплыли они на самодельных кочах в метели Ледовитого океана.
Кто вел их без карты, без компаса, без опыта по глубинам Белого, Баренцева, Карского морей? Какие ветры трепали их паруса, какие лишения перенесли беглецы на гиблом своем пути? Как шли они сквозь слепые туманы, мимо ледяных полей и айсбергов, мимо диких островов и заснеженных берегов? Через сколько лет и сколько их добралось до Индигирки? Почему именно в этом окаянном, никому не известном месте прервали они свой мучительный путь на северо-восток? Для чего обосновались в устье реки они, предшественники Вильяма Баренца, Витуса Беринга, братьев Лаптевых, Семена Дежнева?..
На эти вопросы священника не могли ответить их потомки, живущие в Русском устье. Но они жили по обычаям предков, тягуче и проголосно пели старинные песни, считали время по зарубкам на деревянных палочках-календарях, верили в нечистую силу; защищаясь от домовых и леших, которых звали «шеликанами», ставили на избах угольные кресты.
Они боялись бурь и метелей, северного сияния и наводнений, а когда болели, то обращались к якутским шаманам. Суеверные приметы, как и нечистая сила, властвовали над ними. Они предпочитали голодать, чем жарить осенью жирного чира на сковородке.
— Чира ловить да жарить, перекрестись, батюшка! Лонесь мой мужик поймал одного да съел, а непойманные чири на нас рассердились. Озера уросить стали, никакой рыбешки не выдали. Пришлось зиму борчой питаться, — сокрушенно жаловалась хозяйка священнику.
Отец Василий мысленно переводил ее слова «озера уросят» как «озера капризничают», а о борче уже имел свое представление. Борча — это рыбные кости, высушенные и истолченные в порошок. Здешние женщины хранят борчу в сумках из налимьей кожи, варят ее в рыбьем жиру и едят, когда уже совершенно иссякнет самая скудная пища.
А питались индигирцы плохо, голодно. Раз, редко два раза в год приезжали к ним купцы из Якутска и Оймякона с мукой, водкой, чаем, сахаром и красным товаром — дешевенькими ситцами и гнилым сукном. За стальную иголку брали по голубому песцу, за медный котел — столько, сколько умещалось в него шкурок серебристых лисиц. Не имея муки и крупы, индигирцы стали изобретать самые неожиданные рыбные блюда. Они стряпали «пирожейники» из щук и налимов, «барабаны» из мороженой и мятой икры, варили «щербу» из свежей рыбы. Как лакомство, подавали в престольные праздники и для гостей строганину — мороженую кету или нельму. Янтарное мясо строгалось ножом прямо с мерзлой рыбины.
Только изредка с необычайной бережливостью и неохотой пережаривали они горстку крупчатки в рыбьем жиру и пили с чаем. Этот «пережар» хозяйки давали в дорогу мужчинам, когда те уезжали в тундру на зимнюю охоту.
И еще одно редкостное блюдо приготовляли хозяйки Русского устья — «бутугас». Они бросали в горшок несколько щепоток ржаной муки, наливали щербы и сбивали мутовкой, как сливки. Мутовки были вырезаны из мамонтовой кости.
Женщины вели домашнее хозяйство, мужчины занимались охотой и рыбной ловлей. Весной, когда на Индигирке появлялись «забереги» — узкие проталины, мужчины неводами и наметами ловили частиковую рыбу. После ледохода устремлялись на речные лайды и виски ставить сети, острожить громадных щук и сазанов. Летом все население, до стариков и детей, перебиралось на острова, на речные косы и жило путиной.
Мужчины ставили свои сети на «уловах» — в местах, где Индигирка образует страшные водовороты и быстрины, женщины и дети неводили у берега, собирали утиные яйца, ловили ленного гуся. Многие отыскивали по речным ярам мамонтовую кость, вылавливали плавник для топлива и построек.
Зимой жизнь в Русском устье еле теплилась. В избах, черных и жалких, затерянных в полярной ночи, чадили лейки; под их неверным дрожащим светом женщины шили меховые малицы и торбаса, пели печальные песни, а мужчины готовили «пасти» на песцов и лисиц. Капканы переходили по наследству от дедов к внукам, от отцов к сыновьям, и каждый житель знал свой участок в тундре, где охотился на песцов...
Больше года провел отец Василий в Русском устье. Он подружился- с индигирцами, охотился и рыбачил с ними, пел их песни, крестил новорожденных, хоронил мертвецов, венчал молодоженов, лечил, как умел, их болезни. И невольно размышлял о судьбе их — потомков русских крепостных, бежавших три столетия назад к берегам далекой сибирской реки.
Индигирцы вырождались от голода, болезней, кровосмесительства. Они жили словно закупоренные в ледяной гигантской банке тундры, северных снегов и морозов, без всяких связей с внешним миром. Редкие наезды якутских купцов, безжалостно грабивших и спаивавших их, наносили непоправимый вред жителям Русского устья. Все они были неграмотными, и никто не интересовался их судьбой. Царские власти знали только, что Русское устье — страшное и безысходное место для поселения государственных ссыльных. Но это место находилось так далеко даже от Якутска, что в последние годы девятнадцатого века сюда попал лишь он, опальный священник Василий Сучковский...
Отец Василий с задумчивой усмешкой. рассказывал о своем пребывании в Русском устье. Черский сидел, запустив пальцы в бороду, и слушал с напряженным вниманием. В карих глазах его опять появилась снежная тоска, губы, закушенные до боли, посинели, на впалых щеках выступил чахлый румянец.
— Я ужо улещивал, улещивал свое начальство, писал, писал слезные жалобы, пока надо мной не смилостивились. Через год перевели меня из Русского устья в Верхне-Колымск. Здесь ноне и обретаюсь, — закончил свой скорбный рассказ священник. И, подумав, добавил: — Вот вам, как перед святым образом, говорю, Иван Дементьевич, ни за што, ни при каком случае не хотел бы обратно в Русское устье. Ни при каком случае, — повторил он, делая ударение на предпоследнем слоге.
Черский расправил пальцами бороду, добродушно и лукаво сказал:
— Эх, отец Василий, отец Василий! Мне бы ваше здоровье да вашу силу, я бы пешком отмахал от Верхне-Колымска до Русского устья. Ползком дополз бы, честное слово! Ну да ничего. Я еще надеюсь попасть на Индигирку. Окажите любезность, напишите заметки о Русском устье. Это же ценнейший материал для этнографической науки. Говорю совершенно серьезно.
К сожалению, священник не выполнил просьбы Черского.
Глава девятая
Невыносим ревущий горн,
Безумен бьющий барабан,
И снова колокола звон,
И виселицы сквозь туман...
Ветры срываются с вершин Сиен-Томахи и продувают Колыму. Ветры дуют с Ледовитого океана, дуют и день, и пять, и пятнадцать, чудовищные, неодолимые ветры Севера. Метели замели избушки и заплоты, верхнеколымцы не выглядывают на улицу, собаки спят глубоко под снегом. Бесконечны морозные ночи, угнетающе действует сивая мгла на людей.
Черский знает: от зимнего вынужденного безделья легко заболеть ностальгией — тоской по родным местам. Он не дает впадать в сонливое состояние ни жене, ни сыну. И сам работает по строгому расписанию.
Саша по настоянию отца учился, чтобы не отстать за годы путешествия от школьных занятий. Мавра Павловна совершенствовалась в зоологии и ботанике. Степан хлопотал по хозяйству. Проводник не знал и не мог знать про странную и прекрасную болезнь — ностальгию.
По вечерам Степан приходил в кабинетик Черского. Между безграмотным проводником и ученым путешественником начинались многочасовые беседы. Черский полюбил жадный до знаний ум Степана. Он с огромным удовольствием посвящал его в дальнейшие планы своих работ, рассказывал о географии Колымо-Индигирского края.
— Ты же знаешь, Степан, куда впадает река Колыма?
— В студеное мере, кабыть.
— Совершенно верно. До Ледовитого океана отсюда почти две тысячи верст. Мы доберемся до океана, осмотрим его берег, соберем образцы горных пород, растения, травы, может, найдем, кости доисторических животных. Потом вернемся в Нижне-Колымск. Подниматься по Колыме, сам знаешь, как весело, но мы с тобой люди привычные, С Колымы перейдем на Индигирку. Год на исследование Индигирки придется истратить. А еще через год отправимся на реку Яну. За три года нам придется пройти пять тысяч верст. Одолеем?
— Надо бы одолеть. Понатужимся — одолеем.
— И не просто одолеть! Все места, в которых мы будем, на географическую карту положить надо. Образцы горных пород везде собрать надо. Только тогда будем знать, какие богатства есть на здешней земле.
— А золота не найдем?
— А для чего нам золото? Есть — не захочешь, таскать — тяжело. От золота, брат, пользы мало, а горя хоть отбавляй.
— От золота человеки плачут, — согласился Степан.
— Для науки на Колыме есть кое-что поважнее золота. Если бы нам найти труп мамонта, вот было бы дело!
— В Якутии мамонтова рога дюже много. Я слыхал, кой-где костяной рог из мерзлоты так и прет. Будто кто его посеял. А вот про мамонтово тело не слыхивал.
Степан с увлечением слушал рассказы Черского о жизни в Омске, Иркутске, о его изысканиях на Байкале. Как-то он грустно и восхищенно сказал:
— Тебе бы, Диментьич, книгу про свою жизнь сработать надо. Я нароком азбуке выучусь, чтобы ее, твою книжицу, прочесть. А что в самом-то деле? Разве мне одному такая книжица на пользу пошла бы? Когда-нибудь люди заграмотеют, те же инородцы туземные, им в любом разе знать положено, кто для них свой живот надрывал. Сделай о себе книгу, Диментьич? Ты же вон какую уйму бумаги травишь.
Черский похлопал по плечу проводника.
— Моя биография интереса не представляет. Ее можно уложить в три слова: родился, страдал, умер...
Степан уходил спать, а Черский снова присаживался к столу. Мигала коптилка, терлась о ледяную пластину пурга, шелестели ускользающие в ночь снега, а он писал.
Его интересовало все в этом крае — от географии и геологии до этнографии и фольклора. Он заносил в путевой дневник, что верхне-колымские жители по-своему и очень своеобразно произносят русские слова...
Они говорят «слышать» вместо «понимать»». «Он все слышит по-якутски, только баять не может». Они неправильно употребляют глаголы, «бояться от медведя», «давать от муки», «рыбы только-только стало». Сочно и образно выражают они свои поступки: «Я ничего не доспел» — не сделал. «Новый год взял в Верхне-Колымске, а пасху возьму в Нижнем». Союз «ду» из якутского языка они употребляют в разговоре без изменения: «Хорошо-ду дело выйдет, плохо-ду? Чо, попал-ду в векшу, чо, промахнулся-ду?»
Серебряные, похожие на закрытую раковину часы монотонно тикали, отсчитывая секунды. Казалось, часы тоже спрягали неправильные глаголы: «Ли, ли, ду, ду! Ли, ли, ду, ду!» По окну прошумело гривастое пламя пурги, ветер ударился о бревенчатую стену и отхлынул с гулом морского прибоя.
Пурга разыгралась вовсю.
Странные, неясные звуки рождались в ночи; не то стон, не то визг, не то горькая жалоба. Откуда-то выплеснулся пронзительный голос колокола и задохнулся. Где-то забил военный барабан, сухая палочная дробь его натолкнулась на стену и рассыпалась в белой метели. Взамен барабанного боя послышалось короткое тявканье: то ли залаяли вечно голодные псы, то ли закружилась ослепленная пургою лисица.
Черский уже не мог писать. Мысли спутались и оборвались, жила и работала лишь память. Память всегда обращена в прошлое, и ей нет начала, как потоку времени. Только время течет из прошедшего в будущее, а память останавливается у границы завтрашнего дня.
Он наморщил лоб, вызывая из памяти картины прошедшего. И вдруг кровавая пронзительная вспышка, ослепив его глаза, осветила память. «Я не из тех Муравьевых, которых вешают. Я из тех Муравьевых, которые вешают сами...»
Стало темно и тихо.
В темной неприятной тишине родились какие-то непонятные, тупые удары. Они усиливались, нарастали, приближались. Они стали хлестать по голове, бить по нервам, холодить кровь. Тупые эти удары захватили все тело. «Буу, буу, буу!» Ошеломленный и подавленный ими, он поворачивался из стороны в сторону. Что же это такое? Что, что, что? Сердце? Нет, сердце бьется спокойно и ровно. Так что же это такое?
Из метельной ночи к нему долетел сухой палочный треск и сразу же забил барабан. Бой барабана оборвался так же неожиданно, как и возник.
Снова наступила темная тишина.
Повизгивала метель, терлись о стену снега, бессильные разломать тишину. Ее разорвал пропитый металлический визг. И опять забил барабан.
Металлический визг военного горна и треск барабана пробили туманные завесы прошедшего, вернув его к юности. Он увидел себя восемнадцатилетним юношей в сером арестантском халате. Он увидел себя, шагающего под лязг кандалов, под матерную брань конвоиров, через всю Россию в Сибирь. Он идет в Сибирь на вечное поселение, как участник восстания 1863 года.
Вчерашний дворянский стипендиат, молодой человек с блестящими способностями, свободно говорящий на пяти языках, идет штрафным рекрутом в бессрочную ссылку.
За спиной его ветер разносит пепел пожарищ, на виселицах раскачиваются трупы повстанцев. Трупы, трупы! Три тысячи жертв Муравьева-Вешателя. Виленский генерал-губернатор, родственник декабриста Муравьева-Апостола, оправдал доверие царя и помещиков.
Он залил кровью Польшу, Литву, Белоруссию, засыпал пеплом города и деревни, застроил тракты и проселки виселицами. Десятки тысяч повстанцев погнал он на вечное поселение в Сибирь.
Из глубины времени перед Черским возникают Тобольск, Омск, Иркутск, грязные этапы, пересыльные тюрьмы, штрафные казармы, гибельные места поселений...
Коптилка подмигивала дымным своим язычком, короткие безобразные тени приплясывали на стенах, карманные часы отсчитывали секунды. Черский поставил на стол локти, стиснул ладонями виски. «Степан действительно прав, мне следует написать воспоминания. Мне есть что рассказать потомкам! Судьба моя похожа на судьбу сотен тысяч страдающих русских людей. Что же это будет? Автобиография? Мемуары? Литературное произведение? О жизни человеческой можно написать и тысячи страниц и, как в восточной легенде, сказать всего лишь три слова — «люди рождаются, люди страдают, люди умирают...».
Он взял чистый лист бумаги и вывел: «Скорбный лист».
Подумал несколько мгновений, держа на весу перо, и начал:
...«Я, Черский Иван Дементьевич, сын литвина, родился 3 мая 1845 года, в имении «Сволна» Дриссенского уезда Витебской губернии...»
Он чему-то усмехнулся, немножко поколебался и продолжал:
«...Я рано осиротел. Сначала учился в Виленской гимназии, потом перешел в Виленский шляхетский институт. Учился я неплохо и мечтал стать... Кем я только не мечтал быть? И географом, и геологом, и ботаником, и антропологом! Мечты мои частично исполнились, но иным, невероятно тяжким путем.
Я не успел закончить институт, когда вспыхнуло злосчастное восстание шестьдесят третьего года. Пламя восстания, зародившись в Польше, перекинулось на более восточные губернии Российской империи. В борьбе против русского царя и помещиков приняли участие и студенты нашего института. В том числе и я. Во главе восстания стояла революционная шляхта, ее называли «Красной партией». Вождем крестьянского восстания в Белоруссии был Кастусь Калиновский.
Восстание революционной шляхты, поддержанное крестьянами Литвы и Белоруссии, нашло горячий отклик в России. Русское тайное революционное общество «Земля и воля» обратилось с прокламациями к царским солдатам и офицерам. «Землевольцы» убеждали солдат обратить оружие против царя и сановников. «Царь и дворяне гнетут и грабят равно как польский, так и русский народ», — писали в своих прокламациях члены «Земли и воли».
Великий Герцен обратился ко всему передовому человечеству со страстным призывом — помочь повстанцам. Голос лондонского изгнанника гремел на весь мир.
«Мы с Польшей, потому что мы за Россию! — писал он, — Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих...»
Царь двинул на подавление нашего восстания сто шестьдесят тысяч человек — по три солдата на каждого повстанца. Мы героически сопротивлялись, но...»
Черский положил перо. «К сожалению, я — никудышный политик и не могу дать политическую оценку нашему восстанию и причинам его поражения. Но, думается мне...» И он с внутренним колебанием продолжал:
«У польских революционеров, создавших «Красную партию», не было единых действий в борьбе с самодержавием. Не было и четкой идейной платформы. Это позволило польским магнатам создать свою «Белую партию» и захватить руководство восстанием.
Польские магнаты не хотели признавать национальных прав за белорусами, литвинами, украинцами. Они не желали наделять крестьян землей. Они стремились сделать восстание исключительно антирусским. Польские магнаты выступали не столько против самодержавия, сколько против русского народа.
Крестьяне не поддержали магнатов. Восстание было разгромлено, и генерал-губернатор Михаил Муравьев учинил над нами страшную расправу.
Я был арестован и посажен в витебскую тюрьму. Через полгода меня этапом отправили в линейный сибирский батальон штрафным рекрутом.
Не буду описывать свои мытарства в Тобольске. Тобольск для меня — город без воспоминаний. Обращаю память свою к степному городу Омску, где начался мой новый путь — путь самоучки-ученого. По этапным дорогам на Омск встретил я незабвенного Чекановского...»
При имени Чекановского его сердце забилось радостно и учащенно. «Воспоминания юности встают, как тени, пробегающие мимо. Пусть прошлое уже невозвратимо, воспоминания юности живут», — продекламировал он про себя. Встреча и дружба с ссыльным повстанцем Александром Лаврентьевичем Чекановским — самое нетленное воспоминание его юности.; Разве забыть тридцатилетнего крепыша Чекановского, его стройную фигуру, пышные усы, роскошную бороду? Его великолепный, отточенный ум, неувядающий оптимизм? В гнусных этапных условиях жизни он все время что-то насвистывал, смеялся, шутил. По дороге Чекановский, не обращая внимания на окрики конвоиров, собирал насекомых, ловил на лету бабочек, рассовывал по карманам камешки и растения. Он был страстным натуралистом. Но выше всего он ставил геологию и ей посвящал свою жизнь ссыльного.
«Александр Чекановский привил мне любовь к науке. От него перенял я жажду познания природы, он открыл мне цель всей моей дальнейшей жизни. Если я и стал ученым, то это благодаря ему, Александру Чекановскому...»
Милые улыбающиеся глаза друга словно следили сейчас за ним. Ему казалось, на ледяной пластине окна вызвездится силуэт Чекановского и в комнатушке раздастся его голос:
— Мы живы! Горит наша алая кровь огнем нерастраченных сил!..
Черский хрустнул суставами, сцепил пальцы в замок, положил на них голову. «Что же писать дальше? События и факты толпятся в моей голове, какие из них самые существенные?»
«В Омском линейном батальоне я сторожил прославленный Достоевским «мертвый дом» — острог. Сам на положении бесправного каторжанина, я сторожил каторжников. Парадокс! А свободные часы посвящал книгам. В нашем дворянском институте естественным наукам почти не уделялось внимания. И совершенно случайно в Омске я «открыл» для себя Чарлза Дарвина. Его «Происхождение видов» и «Путешествие на корабле «Бигль» вокруг света» стали моими настольными книгами.
Я читал все, что попадалось под руку. И трактат физика Тиндаля «Теплота, как род движения», и труд профессора Куторги «Естественная история земной коры», и «Основы геологии» Лайеля, и книги о кольцах Сатурна, лунных кратерах, каналах на Марсе.
Меня все больше и больше манила к себе геология. Мне удалось совершить несколько походов по берегам Иртыша и Оби в поисках костей доисторических животных, ценных минералов и раковин. Маленькое счастье искателя сопутствовало мне. В загородной роще я наткнулся на целое кладбище окаменевших раковин. Находки росли, и у меня образовался небольшой музей палеонтологии.
Счастье продолжало мне улыбаться. Случайно о моих геологических раскопках узнал проживающий в Омске популярный путешественник Потанин. Потанин одобрил мои исследования и дал много ценных советов. По его совету я послал коллекцию раковин в Московский университет. Ответа ждал нетерпеливо и долго. И не дождался.
Я не буду, не желаю описывать свою жизнь ссыльного штрафного солдата. Она была омерзительна. Я вел скотское существование, но горевал лишь об одном — из казармы увольняли меня на один-два часа. Невежественный командир линейного батальона смеялся надо мной, поносил похабными словами, запрещал заниматься любимым делом.
Не представляю, как бы развернулись дальнейшие события моей жизни, если бы опять не счастливая случайность.
Летом 1868 года в батальонную канцелярию принесли на мое имя письмо. Знаменитый ученый-путешественник, академик Александр Федорович Миддендорф приехал в Западную Сибирь. Кто-то, видно, рассказал ему о сумасбродном штрафном солдате, собирающем раковины на берегах Иртыша.
Академик заинтересовался мною. Я явился к Миддендорфу со своей коллекцией. Знаменитый ученый с интересом рассматривал коллекцию, а я ждал его приговора. Ждал с большим волнением, чем приговора царского суда в день моего осуждения. Наконец академик сказал:
— Если не ошибаюсь, это пресноводные раковины. Да, да, если это пресноводные, то вы, молодой человек, совершили ценное открытие. В науке утвердился взгляд, что Великая Западно-Сибирская равнина была дном моря. Ваша коллекция пресноводных раковин отвергает этот укоренившийся взгляд в науке. Может быть, нам придется изменить представление о здешней равнине, как морском дне. Однако все это требует научной проверки. О результатах я вам напишу...
Академик Миддендорф уехал, и я остался опять один со своими ожиданиями. Я жил ожиданиями, страдал и мечтал. Мечтал о том, чтобы полностью посвятить себя любимой науке. И продолжал потихоньку заниматься изысканиями.
Моя мечта стала явью.
Осенью 1871 года меня неожиданно вызвал в Иркутск Сибирский отдел Русского географического общества...»
«Вызов в Иркутск был поворотом в моей судьбе. Он изменил все мое существование, и этим обязан я академику Миддендорфу, — подумал Черский. — Он хлопотал обо мне перед властями. Иначе как бы я, ссыльный, попал в столицу Восточной Сибири? Но кого интересуют переживания ссыльного? И об этом я не буду писать».
Он несколько минут раздумывал над своим «Скорбным листом» и решил записывать только самое существенное.
«В Сибирском отделе Русского Географического общества меня встретили радушно, как товарища и коллегу. Устроили на работу писаря, библиотекаря и консерватора музея, с жалованием в двадцать пять рублей ежемесячно. После двух рублей десяти копеек, положенных на месячное пропитание царскому ссыльному, это было богатством.
С благоговением и благодарностью говорю я о Сибирском отделе Географического общества нашего. Всего лишь тридцать лет существует отдел, но уже внес он неоценимый вклад в отечественную науку. Отдел начал и с успехом проводит систематические исследования безграничных пространств Сибири. Видную роль сыграл он в известной Сибирской пятилетней экспедиции, объединил вокруг себя путешественников и ученых. В деятельности Отдела принимали участие географ и геолог Кропоткин, русский революционер Петрашевский, сын бурятки профессор Афанасий Щапов.
С огромным наслаждением погрузился я в научную работу при Сибирском отделе. Вместе со мною работали и ссыльные поляки, участники восстания нашего — Витковский, Дыбовский, Гартунг.
Особенно радостно было мне встретить друга своего Чекановского. Правда, с трудом признал я в угрюмом молчаливом человеке прежнего весельчака, и оптимиста Александра Лаврентьевича. Позже я узнал, что друг мой уже заболел душевным расстройством.
Александр Лаврентьевич руководил моими первыми шагами в Иркутске, несмотря на болезнь свою. Он ввел меня в большой и интереснейший мир геологических работ своих, учил распознавать образцы горных ископаемых, зарисовывать геологические разрезы, определять возраст горных пород. Чекановскому, и только ему, обязан я познанием геологии как науки.
Весной восемьсот семьдесят третьего года по рекомендации Александра Лаврентьевича Сибирский отдел поручил мне геологические исследования Восточного Саяна. Вместе с Гартунгом отправился я в Тункинские и Китойские гольцы. Это была моя первая самостоятельная экспедиция, Факты и практика, практика и факты дали мне то, что не дает теория.
Мы исследовали долину реки Китой и Китойские альпы, побывали на реке Хонголдой и в Тункинских альпах, через реку Ушарингу вышли на реку Иркут.
И работали, работали! С увлечением, радостью и вдохновением работали мы. Я весь горел от жажды деятельности и чувствовал себя неутомимым покорителем гор. Мы побывали с Гартунгом на таежных реках Илтей-Дабане, Хороке, Белой. Вторично пересекли Тункинские альпы, доходили до верховьев Ехе-Угуна. Мы досконально изучили этот малоизведанный горный район, произвели измерения многих вершин и составили подробную геологическую карту...»
Черский снова оторвался от своих записок. «Что-то скучно у меня получается! А ведь еще старик Вольтер говорил: все жанры хороши, кроме скучного! Но как же быть, если моя жизнь состоит из перечисления путешествий и работ? Я не буду перечислять всего пройденного и изученного мною. В конце концов кому интересна жизнь моя? Я что, Чарлз Дарвин? Александр Гумбольдт? Или Семенов-Тян-Шанский, великий мой современник?..»
И он не написал о том, что получил письмо от академика Миддендорфа. Академик сообщал, что омские раковины оказались пресноводными и научное значение находки Черского подтвердилось. Он не упомянул о путешествии в Еловский отрог Тункинских гольцов летом восемьсот семьдесят четвертого года. И о том промолчал он, как произвел маршрутную геологическую съемку Московского тракта от Иркутска до реки Бирюсы. Промолчал он и о путешествии в Нижнеудинскую пещеру, которая, по его догадкам, была кладбищем древних животных. И он действительно нашел в пещере палеонтологический клад — кости животных четвертичного периода.
Без колебаний опустил он и свою личную жизнь в Иркутске. А в этом городе «золотых миражей», дикого счастья и горькой нужды встретил он Мавру Павловну, дочь прачки, ставшую его женой. В этот город пришла ему высшая награда Русского Географического общества — золотая медаль за исследования Байкала.
Все это было, по его мнению, слишком частным и не представляющим никакого интереса. Он преувеличивал заслуги других исследователей Сибири и уменьшал свои.
В иркутские годы своей жизни он стал географом и геологом, видным специалистом по зоологии и анатомии, первым в России исследователем палеолита, талантливым этнографом. Острого ума и дарований его хватило бы на дюжину ученых.
Он даже не заикнулся о бешеной своей работоспособности — шестнадцать часов в сутки! Не обмолвился словом о своих научных трудах, а им было написано девяносто семь работ.
Он сидел за письменным, сооруженным из пустых ящиков столом и мучительно размышлял, стоит ли продолжать свою биографию.
«Я что, Чарлз Дарвин? Александр Гумбольдт? — повторил он снова и усмехнулся полынной улыбкой.— Кого заинтересуют жизнь и путешествия какого-то Ивана Черского?»
И вдруг сгреб написанные листки, смял их и кинул в камелек. Чиркнул спичку. И поджег. Воспоминания завертелись, как оранжевые птицы, и обратились в пепел.
«Вот цена вещам, не имеющим человеческого интереса!» — он погрел озябшие пальцы над пеплом и поднял глаза на окно.
Метель улеглась, ветер затих, но ледяное окошко было по-прежнему непроницаемо. Язычок над коптилкой, чуть подмигивая, сгибался на сторону. Черский потушил коптилку и будто опустился в вязкую черную глубину. Память мгновенно уснула, мысль прекратила плавное свое течение. Прозрачные волны воспоминаний замутились усталостью.
Он закрыл глаза, нажал на них пальцами. Голубые, оранжевые, красные круги засияли перед ним, сливаясь в радужное пятно.
Пальцы разжались, радужное пятно растаяло...
Покатая снежная горка врезается в молодой ледок. Он мчится на лыжах с горки, вылетает на лед и срывается в вороную зыбкую прорубь. Он погружается с головою в воду и снова мчится, но уже в гибкой речной глубине. Лыжи касаются песчаного дна, он спотыкается, падает и лежит на спине. Над ним двухаршинная толща воды, над водой — ледяная броня. Вокруг мельтешат красноперые окуни, чебаки серебряными ножами прорезывают реку. «Вот я и умер, вот я и утонул», — думает он — и просыпается...
Он идет через лес, непролазный и темный, полный угрожающих шорохов. Ох, как же темно в этом неизвестном лесу! Между гигантскими кедрами засветилась призрачная полянка. Он выходит на поляну, охваченную зеленым негреющим светом. Светляки всюду — на траве, на кустарниках, на замшелых стволах кедров. Его знобит, ему зябко от сырости и волглой травы. Он протягивает окоченевшие руки к зеленому ровному потоку, излучаемому малюсенькими насекомыми. Руки начинают пылать — не от жара — от нестерпимого холода. Он выпрямляется во весь рост и стоит, коченея на зеленом бездымном огне. «Вот я и горю и замерзаю одновременно», — думает он и просыпается...
«Смешно! За пять минут я видел два сна, и каждый окончился моей смертью. Я не суеверен, и все же какой неприятный осадок в душе».
Комнатная мгла посинела, серый квадрат окна выделялся из нее почти с осязаемой выпуклостью. Жена, сын, Степан, Генрих все еще спали: был шестой час утра. Он пошарил под столом, нашел стеариновую свечу, но не зажег. «Последняя! А где их взять, эти свечи? Ничего же нет у верхнеколымцев, ничего. Голые люди на голой земле. И у меня нет ничего. Неужели у меня нет совсем ничего?»
Ничего в этом мире нет,
Что я мог бы назвать своим, —
Даже ворона черный цвет,
Даже ветел зеленый дым!
Даже розовых чаек лёт
Не захлестывает души.
За собой меня не зовет
Лось, ломаюший камыши.
«Неправда! Ложь! Не признаю поэзии, усыпляющей волю. Расслабляющей, убаюкивающей, уничтожающей радость бытия и творчества».
Он отодвинул ящик, на котором сидел; ящик с грохотом опрокинулся на пол.
«Поэзия — это молния, освещающая дорогу, черт возьми!»
— Ваня, что с тобою, Ваня? — Мавра Павловна вбежала в кабинетик, перепуганная грохотом рассыпавшегося ящика.
— Прости, Мавруша: Я разбудил тебя. Со мной совершенно ничего не случилось. Работал. Устал. Уснул. Вот проснулся, и пора за работу.
— Ты не спал всю ночь, вот что я вижу. Раздевайся и ложись в постель. Надо же так изнурять себя! — Мавра Павловна откинула одеяло на несмятой постели. — Прошу тебя, Ваня, поспи.
Он покорно разделся, и лег в постель.
Глава десятая
Отсюда —
только в неизвестность;
В хребты весны, в леса зимы.
Зовет неведомая местность
Материком из белой тьмы.
— Капсе бар?
— Бар капсе.
— Рассказывай свои новости. Чо молчишь?
Но прибывший не торопился с таежными новостями. Он развязал заиндевелый малахай, расстегнул малицу, набил табаком трубку. Скуластое лицо его, исхлестанное ветрами и морозами, выражало величайшее спокойствие; Степан уже давно убедился: пока якут не выкурит трубки, новостей не расскажет.
— Уйбан у себя в яранге? — спросил прибывший, выпуская из ноздрей тонкие штопорки дыма. — Новости мои я припас для него. Скажи ему об охотнике Онисиме Слепцове.
Расторгуев вызвал Черского из кабинетика. Черский,. как и Степан, обратился к прибывшему с неизменным вместо приветствия вопросом:
— Капсе бар?
— Бар, бар!
— Степан, крепкого чаю, табаку и немножко спирта. — Черский распахнул дверь кабинета. — Проходи, Онисим.
Слепцов прошел в кабинет, сел на диван, сбросил с головы малахай, Черский ждал. Не надо задавать вопросов охотнику-якуту, он расскажет все сам, без суетни и спешки. «Суетливая белка на стрелу налетает — эту якутскую пословицу, путешественник всегда вспоминал, когда торопился.
Степан принес круто заваренный чай, пачку табаку, спирт и закуску.
Старик выпил, уперся ладонями в колени, сгорбился и заговорил тонким, бесстрастным голосом:
— Я приехал к тебе, Уйбан, с реки Яны. Слух о тебе дошел до наших охотников и рыбаков. Мы знаем, тебя послал сам белый царь. Еще мы знаем, ты ищешь в нашей земле костяной рог, старые кости зверюшек и птиц. На реке Яне живет мой приятель Михал Михалов Санников. Он живет в наслеге Казачьем. Так вот, он нашел в мерзлом берегу Яны тело большого косматого зверя. Мы, якуты, зовем такого зверя водяным быком — у-огун-мога. Но старики говорят, у-огун-мога умер давно, так давно, что не помнят даже отцы наших отцов.
— Твой друг нашел труп мамонта? — вскрикнул Черский. — Ведь у-огун-мога — водяной бык — это мамонт!
— Ты — нюча по-нашему, так мы зовем всех русских. А по-твоему водяной бык — мамонт? Пусть будет так.
— Что же сделал с трупом мамонта твой друг? Сам ты видел водяного быка?
— Нет, сам не видел. Михал Михалов Санников сказал мне: «Ты едешь в Верхне-Колымск. Скажи ученому человеку о моей находка. Если он хочет иметь ее, пусть напишет мне. Я буду хранить водяного быка, пока он (он — это ты, — пояснил Онисим) не приедет ко мне в гости в наслег». Вот и все мое «капсе»...
Черский зашагал по кабинетику, еще не веря в реальность необыкновенной находки. «Целый труп мамонта! Невероятно! Необыкновенно! Вечная мерзлота может хранить тела людей и животных сотни лет. Но миллионы лет? Такое событие в науке — полный, нетронутый труп мамонта!»
Он остановился около Онисима, заложил руку за борт сюртука.
— Ты когда вернешься на Яну?
— Я буду жить здесь. Здесь добычливее охота, жирнее налим.
— Какая жалость! С кем же я пошлю письмо Санникову?
— Передай его любому охотнику. От охотника до охотника, от рыбака к рыбаку оно попадет в руки моего друга.
— Спасибо за добрый совет. Где же ты будешь жить, Онисим?
— Пока нигде.
— Поживи у меня до весны. Места не унесешь.
— Окси! Поживу у тебя до месяца отдыха.
— Живи, живи до мая! В начале комариного месяца я уеду отсюда.
Степан и Онисим вышли. Черский присел к столу и начал письмо охотнику Санникову.
«Милостивый государь
Михаил Михайлович!
На Колыму проник слух, будто бы Вам посчастливилось открыть где-то по р. Яне хорошо сохранившийся труп мамонта.
Быть может, Вам уже известно, что в настоящее время ученая экспедиция Императорской Академии наук, состоявшая под моим начальством, находится в Верхне-Колымске...
Так как одна из главнейших целей экспедиции заключается в геологическом изучении почвы, в которой встречаются остатки мамонтов и других ископаемых животных, то понятно, что приобретение более или менее хорошо сохранившегося трупа мамонта (или другого какого-либо животного того времени) имело бы громадное значение для науки, в особенности, что такое желание выражено было самим государем императором, всемилостивейше даровавшим средства на снаряжение этой экспедиции»...
Черский передохнул от длинного своего абзаца.
«Вот когда ложь важнее правды! Государь император знает о моей экспедиции не больше, чем о мамонте. И интересуется государь император наукой, как я извлечением солнечного света из соленых огурцов».
«Поэтому, если слух о находке мамонта не принадлежит к числу возможных выдумок, покорнейше прошу Вас, м. г., уведомить меня письменно в виде ответов на нижеследующие вопросы...»
Со свойственной ему обстоятельностью, с любовью к точным и непреложным фактам он спрашивал неизвестного охотника: где найден мамонт? Целый ли труп, или только его части? Есть ли при нем бивни? Покрыт ли он кожею? Сохранилась ли шерсть? Заметно ли мясо около костей или жир под кожею? Сохранились ли внутренности? Есть ли мясистый хобот и уши? Сохранился ли хвост, и покрыт ли он шерстью, и какой длины волосы на кончике хвоста?
Свое обстоятельное, похожее на великолепную инструкцию по охране мамонтов письмо он закончил словами:
«Если слух о находке мамонта действительно верен и труп достаточно хорошо сохранился, то, разумеется, первою заботою человека, которому посчастливилось его найти, должно быть сбережение его от возможных повреждений или же совершенного уничтожения...»
В кабинет вошла Мавра Павловна, вся искрящаяся от мороза. Черский развязал ее пахнущую снегами шаль, усадил жену на диван.
Ваня, приказчик заломил дикую цену за свечи и сахар...
Постой-погоди! Что такое свечи и сахар перед мамонтом? Какую невероятную новость получил я сегодня!
Бог с ними, со свечами и сахаром! Рассказывай.
Только когда он все рассказал жене и успокоился, Мавра Павловна передала ему свою беседу с Филиппом Синебоевым.
За гнилую муку требует двадцать пять целковых с пуда. За фунт свечей — полтора рубля. А фунт сахару — целковый!
— Грабитель! Мы будем чаевничать вприглядку, будем есть черный хлеб, как пирожное, но платить такие цены не станем. А писать я буду с коптилкой.
Черский не предполагал, что Синебоев окажется мстительным. «Неужели ссора из-за Атты и Эллая причина мести? Мелко и подло! Хотя Филипп Синебоев по-своему прав: наживаться на нужде людей, пользоваться удобным случаем — да какой же торговец упустит такую возможность?»
На Колыме еще буйствовали первоапрельские морозы, еще два месяца оставалось до вскрытия реки. Как жить? На что жить? И нельзя без провизии отправляться в длительное путешествие по Колыме.
А в это время грузы Черского купец Бережнев еще и не отправлял из Якутска. Купец обрекал экспедицию на голодную смерть, а якутский губернатор даже не интересовался судьбой путешественника.
В это же самое время на далекой реке Яне охотник Санников не уберег величайшую научную ценность — труп мамонта. Дикие голодные звери растаскали мамонтово мясо, обглодали его непомерные кости.
В это же время Филипп Синебоев нанес второй удар Черскому. Он использовал для своей мести Генриха Дугласа.
Синебоев уговорил Дугласа жениться и бросить экспедицию в Верхне-Колымске, он же обещал переправить его с молодой женой в Якутск. Смешная месть эта удалась Синебоеву на славу.
Генрих пришел к Черскому и вручил официальное письмо о вступлении в брак с Екатериной Поповой и отказе продолжать путешествие. Письмо свое он подписал: «Прусский подданный Генрих Иосифов фон Дуглас». В верхнем углу письма поставил «копия», и нижнем «с подлинным верно».
Черский изумленно прочитал письмо, снял очки, еще раз перечитал и наложил резолюцию: «Утверждаю».
— Официально так официально! Желаю счастливой жизни, поздравляю с законным браком, освобождаю от должности препаратора. Жалею только, что ошибся в тебе. Надеюсь, Филипп Синебоев не бросит тебя в трудный час. Передай ему мой поклон.
А он опять укатил в тайгу собирать с туземцев ясак, — с ухмылкой ответил Дуглас.
После ухода Генриха Черский присел к столу, подпер кулаком подбородок. Он прислушался к шагам жены, хлопочущей на кухне.
— Мавруша!
Жена вошла в кабинетик, почти бесшумно ступая оленьими торбасами.
— Ты что хотел сказать? — Она села на диванчик, опустив на колени усталые руки.
— Нам пора перейти на голодовочные блюда. Продуктов нет, приходится потуже затянуть пояса.
Она улыбнулась тихо, скорбно, погасив голубоватый свет в глазах.
— Я уже переписала все рецепты голодовочных блюд. Вчера попадья учила меня готовить суп из стружек лиственницы и полутухлых рыбешек. Ничего, кушать можно. Научилась я стряпать и пироги из рыбного теста.
Придется нам выдержать тяжелую борьбу за зимнее бытие, — вздохнул Черский. — Береги сахар. Отныне сахар только для гостей, ну и для местных ребятишек. От них никуда не денешься. Вот и все, Мавруша. Я еще поработаю.
Он придвинул к себе дневник, взял перо, окунул в чернильницу. Чернила замерзли, пришлось отогревать их на коптилке. От ледяного окошка тянуло морозом, между бревнами и по углам комнаты куржавился иней, Черский перечитал последнюю запись в дневнике:
«Мы познакомились с оригинальным изобретением северян, о котором нельзя было составить себе надлежащего представления по имевшимся до сих пор литературным данным. На нарте, запряженной собаками, подвезли к нам плиты прозрачного льда, заготовленные уже заранее в двойном количестве против окошек и стоявшие на реке, После незначительной подправки вставленная плита подпиралась с наружной стороны жердью для удержания ее в колоде окна и сейчас же намазывалась снегом, смоченным водой...»
«Интересно, как будут читать господа академики сие описание? — сказал он себе с тонкой улыбкой.— Они серьезно почтут меня за сумасшедшего. А Семенов-Тян-Шанский? Ну, этого не удивишь! Он видел виды похуже, этот меня только одобрит. — Он вызвал из памяти могучее, в густых седеющих бакенбардах лицо великого путешественника. — Географическая наука, как и природа, имеет свои горные вершины. Колумб, Магеллан, Гумбольдт, Семенов-Тян-Шанский. Вот они, горные вершины географии мира. У них надо учиться, им следует подражать. О собственных затруднениях можно написать, но со спокойной, даже иронической улыбкой...»
И он записал в дневник:
«Особенно досадно бывает, когда при гостях, на столе нашем, за чаем появляются какие-либо вкусные и жирные лепешки, причем в открытой сахарнице белеют куски сахара. А между тем к сим предметам роскоши не только не смеешь припасть, а напротив, должен изображать из себя лицо, относящееся к этим лепешкам самым равнодушным образом. Наполняешь поэтому стакан чая сухарной крошкой и пьешь его без сахара, облегчая себя мыслью, что вот, спустя месяц или два, придет транспорт и будет праздник и на нашей улице. А если и когда дерзнешь протянуть руку к чему-либо, уготовленному для гостей, то это делаешь с такой не испытанной до сих пор робостью...»
Он писал, изредка дуя на озябшие пальцы и поглаживая бороду. За окнами избушки снова разыгралась метель. Белый океан снегов шел на Верхне-Колымскую крепость, захлестывая и заметая все, что встречалось на его пути. Казалось, над миром дует непроницаемая, неодолимая, космическая метель.
Глава одиннадцатая
...что за смысл
Сейчас, немедленно ему,
Разбитому, полубольному,
Столкнуть карбас в холодный омут
И уходить в Нижне-Колымск?
Он стоял на береговых скалах, когда тронулась Колыма.
Господи боже мой! Как жалок человек с его суетой и мелкими дрязгами перед всесокрушающим величием природы!
Неподвижная река пошевелилась и хрустнула, скалы мелко задрожали, лиственницы на них вздрогнули. По льду заструились трещины, обнажая зияющие провалы.
Несколько мгновений все настороженно молчало, по вот река снова пошевелилась, и воздух наполнился шорохами. Шорохи переросли в тревожный гул, и лед сдвинулся с места сразу, во всю верстовую ширину.
Береговые скалы выдвигались далеко в реку. Лед пополз на них, вздыбливаясь и разламываясь. Из трещин тугими фонтанами забила вода и, взлетев в небо, осыпалась радужными зонтами. Льдины закрутились, сшибаясь в звоне и грохоте. Речные берега, смертельно посиневшие леса, вершины Сиен-Томахи завращались в глазах Черского.
Над скалами медленно поднималась ледяная стена, открывая свою нижнюю подводную сторону. Было странно смотреть на рыхлую, размытую, в желтых полосках речного песка ледяную громадину. И еще удивительнее было видеть примерзших к ней хариусов и налимов.
Ледяная стена все поднималась и поднималась: лиственницы на нижних уступах скал начали склоняться, будто лед притягивал их к себе. Гулко треснув, откололась большая льдина, скользнула по уступам, подрезала вековые деревья и приподняла в воздух.
Несколько секунд лиственницы стоймя двигались со льдиной, потом рухнули в водовороты.
Черский оцепенело смотрел на возникшую перед ним стену. Как всегда в таких случаях, вспыхивали нелепые мысли: «Неужели нет силы, могущей остановить ледоход? Что было бы со мною, если б я оказался на гребне стены? Сколько весит лед Колымы в эту минуту?..»
Мысли улетучились от неожиданного видения: на гребне ледяной стены стоял человек.
На середине реки, на самой кромке вздымающегося льда, темнела маленькая человеческая фигурка, окруженная точками. Человек и собачья упряжка, захваченные ледоходом, попали в затор. Черский не мог представить безумца, рискнувшего переправиться через Колыму в такое неподходящее время, но этот безумец мельтешил перед глазами.
Человек, попавший в беду, не метался, не размахивал руками, не звал на помощь. Он стоял совершенно неподвижно в кольце собак. И Черский понял, что это спокойствие необходимо человеку. Малейшее неверное движение — и он может обрушиться со стены в кипящие водовороты.
Черский не мог помочь погибающему. Даже ценою собственной жизни он бы не смог этого сделать. Но вот человек пошевелился и шагнул вперед: собаки устремились за ним. Ледяной обломок, на котором он только что находился, звеня и рассыпаясь, рухнул в реку. Человек торопливо пробежал несколько шагов и опять остановился. Гребень стены то ускользал из-под его ног, то приподнимался. Одна из собак вильнула на острой кромке и не удержалась — покатилась вниз.
Человек, балансируя, прошел через опасное место и снова замер. «Кто он? — подумал Черский. — Русский? Якут? Охотник? Рыбак? И что заставило его перебираться через Колыму в такие минуты?»
Кто был этот человек, борющийся со смертью? Черский беспомощно топтался на месте, видя, слыша, чувствуя и лед, повиснувший в воздухе, и человека, балансирующего на нем, и глухое ворчание водоворотов, и потрескивание скал.
Ледяная стена больше не приподнималась. Достигнув высоты, она весело поблескивала над рекой. Солнце переполняло ее голубым светом, хариусы и налимы шевелились, будто живые.
Наклонившись вперед, Черский не отрывал глаз от человека. Теперь он хорошо видел побледневшее лицо и черную бородку Филиппа Синебоева.
Вдруг центр ледяной стены стремительно осел, правый край ее подскочил к небу и повернулся к Черскому синим своим ребром. Это продолжалось только мгновение, но Черский успел в это мгновение увидеть приказчика, подобно белке карабкавшегося вверх по ледяному ребру, потом прыгнувшего в пустоту.
*
Колыма раскидывала затор, перемалывала лед, захлестывала скалы, сотрясала тайгу звоном, а Черский уже ничего не слышал. Скользя и спотыкаясь, он спускался на нижние уступы, где между ветвями поваленных лиственниц виднелось безжизненное тело Синебоева. Напрягая все свои силы, Черский подмял приказчика и вытащил на берег.
Пять минут понадобилось ему, чтобы разложить костер, раздеть и привести в сознание Синебоева. Его собаки, нарты, меха погибли.
Без жалоб и вздохов приказчик приподнялся с земли, крепко пожал руку путешественника.
— Благодарю вас, господин Черский! Вы спасли мне жизнь...
Они разошлись, не сказав друг другу больше ни слова.
Колыма очистилась ото льда через несколько дней, и Черского охватило сладостное томление предстоящих неизведанных странствий. Каждое утро он отправлялся на берег реки, садился на плешивый мокрый валун, прижимал ладонь к сердцу. Сердце стучало неровно и глухо, маленькими острыми взрывами. Сердце приказывало отдохнуть, пожить спокойно, без волнений, присмотреться к окружающему миру.
А все, что было вокруг, было огромным, таинственным и угрюмо прекрасным.
Раскидывая в воздухе крестообразные тени, громко проносились журавлиные косяки. На реке раскачивались гусиные стаи, из слепящей голубизны неба падали вскрики розовых чаек.
— Ку-ик, ку-ик, ку-ик! — вскрикивали розовые чайки. Только здесь, на реке Колыме, водились они, и Черский мечтал раздобыть два-три экземпляра для своей зоологической коллекции.
Он, притихнув, сидел на камне и щурился на широкий желтый луч еще не видимого солнца. Ему все чудилось: луч вот-вот обломится и сорвется с неба. Но луч не срывался. На душе путешественника стало светлее.
Внизу, под ногами, холодно, настойчиво и неудержимо шла Колыма.
Она шла на север, к Ледовитому океану, а на ее отмелях таяли ноздреватые льдины, желтела смешным цыплячьим пухом молодая жимолость, умирали исковерканные рекою лиственницы.
На противоположном берегу грозовыми облаками толпились вершины Сиен-Томахи. И они уходили на запад, на юг, на восток, то обрывались на севере, перед пустыми пространствами Чаун-Чукотской тундры.
Черский с удовольствием слушал любовные лебединые стоны, веселые вскрики розовых чаек, теплое гусиное гоготание. Бледный стебелек колебался у валуна: Иван Дементьевич обошел его, чтобы не покалечить первого нежного вестника весны.
Он сидел по-прежнему неподвижно и прямо, присматриваясь к окружающей прозрачной тишине рассвета, ко все растущему солнечному перу.
Опять громко и тревожно застучало сердце, ударило в ребра и заныло. Он испуганно схватился за грудь. «Я слабею с каждым часом. Ждать больше нельзя. Мы должны отправиться завтра. Что бы ни случилось со мною, мы отправимся завтра...»
Он склонялся все ниже и ниже, боясь потревожить сердце. Сердце успокоилось, зато в легких вспыхнула острая боль и мучительный кашель потряс тело.
Прижав к губам платок, он кашлял надрывно и долго, потом скомкал красную тряпку и отбросил. «Что бы со мной ни случилось, мы отправимся завтра. Я пока еще, слава богу, не умер. Я жив. Я еще мыслю, значит я существую. Значит, надо работать».
Черский поднял голову.
Огромное косматое солнце выдвигалось из-за сопок, убирая с реки тяжелые тени. Укорачиваясь, тени уходили в ущелья.
Какое же это наслаждение смотреть на встающее солнце!
Кто не зимовал на Севере, тот не поймет этого наслаждения, пронизывающего светом все тело, озаряющего не только глаза, но и мозг, зовущего вдаль. Даже грязные дороги приподнимаются над землей, постепенно возвышаясь над горизонтом.
Черский зажмурился, ощущая ласковый розовый свет на веках. Солнце ощупывало его лицо, руки, грудь, залоснилось на сапогах. Он приоткрыл глаза: два маленьких солнца играли на носках, медленно скатываясь в липкую грязь.
«Ку-ик, ку-ик, ку-ик!»
Пушистый комочек просвистел над его головой: легкая воздушная волна от сияющих крыльев обдала лицо. Розовая чайка пошла в небо бесшумной свечой. Он следил за вертикальным полетом чайки, мысленно измеряя взятую ею высоту.
За спиной раздались грузные шаги: сырая земля чавкала и вздыхала под сапогами идущего. Отец Василий высморкался, вытер кулаком нос, поправил на плече ружьишко.
— Нехорошо, Иван Дементьич! Окончательно и бесповоротно нехорошо! На тебе лица нет, температуришь, чай, а разгуливаешь по заре. Я тебе лекарство всуе даю? Сердчишко-то, чай, опять заходилось?
— Мне сегодня лучше, отец Василий. Помогла ваша наперстянка.
— Полегче? Тогда слава богу! Только что-то не верится. Больно уж ты худущий, и глаза пожелтели, и щеки подернулись прозеленью.
— Уверяю, мне значительно легче.
— Дай бог, дай бог!
Священник оперся на ружье. Лохматый добродушный гигант — один вид его успокаивал путешественника. Отец Василий внушал к себе какое-то добротное доверие: так пятистенная мужицкая изба говорит о несокрушимости бытия.
— Я тебя разыскивал, — продолжал после паузы отец Василий. — Надо нам по-серьезному потолковать. Иван Дементьич, нельзя тебе сейчас ехать. Не даю благословения на окаянный путь...
Упругий, как пружина, протестующий жест остановил попа.
— Нет нужды отговаривать меня, отец Василий. Я решил, я еду...
— Безрассудство! Безумство! Вот как сие называется. Пожалей жену, сына своего пожалей, коли себя не жаль. Что будет с ними, ежели...
Священник не договорил, испугавшись собственной фразы.
— Жена понимает все. Она продолжит мое путешествие. А сын? Саша — смелый, мужественный мальчик. С ними останется Степан. Наша экспедиция должна пойти и пойдет до конца. Не будем говорить больше об этом, отец Василий.
«Господи Иисусе Христе, вразуми раба неразумного», — подумал священник, но не посмел высказать вслух свою мысль. Насильно растянув в улыбке мясистые губы, сказал:
— Хорошо стало на Колыме-то. Самое время осетров острожить.
На рыжей густой воде играли солнечные пятна, чайки кувыркались в нарастающей голубизне неба.
— Ах, хорошо бы раздобыть экземпляр розовой чайки! Надо попросить Степана...
Гулкий выстрел расколол утреннюю тишину.
Сложив узкие крылышки, птичка рухнула на обрыв. Священник, отставив назад еще дымящееся ружье, поднял розовый теплый комочек.
— Пожалуйте, Иван Дементьич.
Черский положил на ладонь птичку. Нежные, как лепестки розы, перья, золотистая грудка, розовое брюшко, легкое оранжевое колечко на шейке соxраняли отсветы полярных сияний и северных зорь. Это чудо природы только что было живым, но смертная пленка уже задернула глазки.
И опять в его сердце возник холодок, незаметный, невесомый, но неприятный. Стало больно и трудно дышать. Он прошептал, как булыжники роняя слова:
— Надо сделать чучело розовой чайки. Будет чудесное чучело...
Резкая боль завладела каждой жилкой, каждым нервом его, и он стал опускаться на землю, держа на ладони убитую чайку.
— Что с тобой, Иван Дементьич? Да ну же, ну же! Господи боже, да что же это такое?
Черский слышал, как его звал отец Василий, но голос священника казался тусклым и таким далеким, словно он доносился с другой стороны реки...
Перед ним снова проходили неизвестные берега северной реки, неисследованные хребты, мокрая цветущая тундра, белые тени Ледовитого океана.
Черский снова стоял на грани неведомого. И неведомое казалось сейчас доступным и легким. Горестные мысли о безнадежной болезни, о вчерашнем припадке исчезли. Все существо его пронизывало одно-единственное подмывающее желание — в дорогу! Как можно скорее в дорогу!
*
Черский вернулся в избу, положил перед собой чистый лист, взял перо, но, прежде чем написать первое слово, задумался: Есть ли необходимость в том, что он напишет? Исполнит ли жена завещание, хватит ли у нее силы и мужества следовать по его пути? Как бы то ни было, что бы ни произошло, он должен написать завещание. Рука тряслась, и перо прыгало, когда он писал:
«Открытый лист...»
«Открытый лист? Почему открытый? Ах, не все ли равно, я никогда не придавал значения форме! Необходимо сказать в этом листе самое главное, самое существенное...»
Он утихомирил дрожь в пальцах и вывел твердым мелким почерком:
«Экспедиция Императорской Академии наук находится в полном снаряжении к плаванию до Нижне-Колымска, и необходимые затраты для этого сделаны. Между тем серьезная болезнь, постигшая меня перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли я даже до назначенного времени отбытия. Экспедиция, кроме геологических задач, имеет еще зоологические и ботанические, которыми заведует моя жена Мавра Павловна Черская, поэтому я делаю нижеследующее постановление...»
Черский положил перо и взглянул на вошедшую жену.
— На корме карбаса мы построили каюту. В ней тебе будет спокойно, — сообщила Мавра Павловна.
Черский проследил, как жена подняла ящик и скрылась за дверью, и снова склонился над письмом.
«...Я делаю нижеследующее постановление, которое во имя пользы для науки и задач экспедиции должно быть принято во внимание и местными властями: в случае моей смерти, где бы она меня ни застигла, экспедиция под управлением жены моей Мавры Павловны Черской должна все-таки ныне летом непременно доплыть до Нижне-Колымска... Если экспедиция 1892 года не состоится в случае моей смерти, Академия должна потерпеть крупные убытки и ущерб в научных результатах, а на меня, вернее, на мое имя, до сих пор ничем не запятнанное, ложится вся тяжесть неудачи. Только по возвращении экспедиции обратно в Верхне-Колымск она должна считаться законченной».
Он к чему-то прислушался, потом посмотрел в синий проем окна на берег Ясачной. На реке покачивался юкагирский карбас — неуклюжее суденышко с квадратным парусом, острым длинным носом, крутой, яйцеобразной кормой. Степан построил на корме что-то вроде навеса, только отдаленно похожего на каюту. Это для него, чтобы он мог отдыхать, работать, укрываться от непогоды. Жена все помнит, жена ничего не забудет.
— Милая ты моя Мавруша!
Слезы выступили на его глазах, он смахнул их ладонью, наклонился над завещанием и решительно заключил:
«После всего изложенного выше, смею надеяться, что местные власти за все время экспедиции благоволят способствовать ее целям так же, как это делалось ими и при моей жизни.
Начальник экспедиции
И. Д. Черский
Верхне-Колымск.
Мая двадцать пятого дня 1892».
Две мысли, выраженные им в конце завещания, поразили его: «Как это делалось при моей жизни».
— Я еще надеюсь прожить месяца два! Может быть, вычеркнуть фразу? И эту фразу надо убрать:
«Местные власти за все время экспедиции благоволят способствовать ее целям».
Вот когда ложь становится святой! Власти благоволили ему в его целях? Ведь это неправда! Ты написал неправду, ты солгал, солгал только потому, чтобы охранить от ненужных препон свою экспедицию.
Он потянулся к перу, чтобы вычеркнуть обе фразы: первую — страшную, вторую — лживую. И не вычеркнул.
Черский прикрыл глаза. Тонкие веки стали пепельными, синяя жилка над левым виском робко запульсировала. Борода беспомощно расстелилась по сюртуку, руки упали по бокам стула..
С улицы доносились голоса жены, сына, Степана, Зллая, отца Василия, Онисима Слепцова, но он уже не воспринимал их разговоров.
Он видел, как жена пронесла к карбасу гербарий, но не понимал, что это.
Прошел Степан, сгибаясь под каким-то мешком. Зачем?
Отец Василий прогрохотал своим толстым басом: «Парус надо укрепить, парус!» Для чего?
В избу вошел Саша, осторожно, стараясь, не потревожить отца, начал собирать какие-то вещи. Черский смотрел на лицо сына, любовался им и силился вспомнить: где, когда видел совершенно такое же?
Он вспоминал другое юное лицо, похожее на сыновье, словно от этого зависело что-то очень важное и необходимое для него. Наконец вспомнил: да ведь это же его собственное лицо из отлетевшего детства. Но как только память подсказала ему это, он потерял интерес к лицу сына.
На солнечном луче, пересекшем избушку, маленьким маятником раскачивается паук, в распахнутое окно влетела белая бабочка и закружилась над паутиной. Розовые чайки кувыркаются в небе, воды. Ясачной колеблются за окном. Они все шепчут и шепчут свое, непонятное, недоступное душе человеческой, но это успокаивающий призывный шепот.
Белая бабочка села на желтую руку — живой однодневный цветок бледного севера. От ее невесомого прикосновения теплота расходится по дрожащим пальцам и смиряет дрожь. Солнечный луч, выскользнув из-под паука, падает на бабочку, и она вспыхивает, как драгоценный камень. Грязные следы на полу подсохли и стали выпуклыми, скрипучие половицы безмолвствуют, тени в углах голубеют.
Прошлого нет, настоящее остановилось, уступая дорогу будущему. Совершенно спокойно стучит сердце, кашель исчез, легко и свободно дышать. В голове— солнце. Все вокруг полно солнечного света, и не из него ли возникают любимые, всегда незабвенные стихи: «Мы живы, горит наша алая кровь огнем нерастраченных сил». Черский улыбается радостной улыбкой. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы!» Улыбка ширится и растет.
«Ку-ик, ку-ик, ку-ик!»
В небе кувыркается чайка, белая бабочка выпорхнула в окно, щелкает по воздуху тяжелый парус...
Наступил последний вечер перед отъездом из Верхне-Колымска.
Черский чувствовал себя хорошо, его хорошее настроение передавалось Мавре Павловне, Степану, всем провожающим. В избушку приходили попрощаться верхнеколымцы. Отец Василий сел в переднем углу и молчал насупившись.
Явились Эллай, Атта, Онисим, а с ним охотник-якут Филипп Табагрыр. Черский еще зимой слышал о нем как о талантливом сказителе и импровизаторе. Филипп охотился в лесах Сиен-Томахи и только что вернулся.
Атта подала Черскому расшитые красным и синим бисером рукавички из равдуги — выделанной кожи молодого олененка и теплые носки из гагачьего пуха.
— Это тебе, чтобы пели ноги и не плакали руки, — смеясь, сказала она.
— Спасибо, Атта!
Эллай осторожно положил к ногам Черского туго набитый мешок.
— Что это? — спросил Черский.
— Тебе мой подарок.
— Что ты мне даришь? Я ведь знаю, у тебя нет ничего.
— Десять соболей и пять серебристых лис. Два мешка сушеной юколы я отнес на карбас.
— Нет, — ответил Черский. — Нет, нет, — почти выкрикнул он. — Я не принимаю таких подарков. Зачем ты их принес? Ты же знал, что я не приму! За рыбу, спасибо, меха забери.
Эллай опечалился, но Черский был непреклонен. Наступило тягостное молчание: его тактично разрушил Филипп Табагрыр.
— Чуть-чуть не опоздал тебя проводить, Уйбан. Для меня было бы плохо. Недобычлив бы стал на охоте, не проводив гостя. Говорили мне, ты хотел послушать, как я пою?
— Хотел и хочу, — обрадовался Черский.
— У меня очень плохие песни, однако. Тяжелые песни.
— Все равно я хочу их слушать.
Филипп сел на корточки около порога. Мавра Павловна быстро взяла карандаш, тетрадку и приготовилась записывать. Черский откинулся к стене, зажав в кулаке бороду. Отец Василий, подобрав рясу, настороженно слушал.
В раскрытую дверь вливалась бездумная яснота белой ночи, сияла из полумглы река. Лиственница зеленела в негаснущем небе легким парусом. Комары еще не родились, и вечерний воздух не стонал от их тонкого звона. Молчали даже собаки, отожравшиеся на легкой весенней добыче.
Филипп запел тонко, пронзительно, грустно:
— Мы родиться родились. Зачем? Кто нам путное что-нибудь скажет на это? Никто! Почему мы питаемся голой нуждою и ждем восходящего солнца? Все солнца мы ждем, ждем и день, и два, и четыре. Я солнце увидеть желаю, пока торбаса не порвутся, не будут колени в крови. Что путного в этом, не знаю. Но знаю, что стану скелетом, пока себе пищу промыслю.
Вот так я хожу и думаю только о пище. Как яйцо в скорлупе, таежные люди живут. Я это от крайности горя пою. И эту вот песню кончаю на крайности горя...
Мавра Павловна торопливо записывала, Черский слушал, наклонив голову. Отец Василий тяжело вздыхал. Филипп оборвал пение.
— Я тебя расстроил своим волчьим воем, Уйбан? — В белесой раме двери лицо Филиппа казалось расплывчатым, как лунное пятно на воде.
— Расстроил, — чистосердечно признался Черский. — Но не волчьим воем, а правдой своей песни, Филипп. «И я от крайности горя пою». Как это верно, как правдиво!
— Я тебе спою другую песню, Уйбан. Повеселее. Хочешь, лучше я спою песню о тебе? Вот буду смотреть на тебя, на красивый дом твой, на всех буду смотреть и петь.
Горькая улыбка тронула губы Черского. У каждого свое понятие о красоте и великолепии. Жалкая лачуга Черского казалась Табагрыру необыкновенным дворцом. А Черского он принимал за друга великого белого царя. Царь послал своего друга помочь северным людям.
— И пой, — сказал Черский. — Пой обо мне, о моем дворце, о великолепных вещах моих, пой, о чем хочешь, но правду. Одну правду. Одну правду.
Отец Василий пошевелился в углу: неподвижная черная фигура его напоминала большого старого ворона. Черский взял со стола старый номер «Нивы», стал перелистывать страницы.
Табагрыр прислонил голову к косяку двери, устремив глаза на стену избушки.
Потом запел немного печально, но торжественно:
— Из-за девяти верст я вижу твой дом с девятью окошками. Вижу тебя, девятью пальцами читающего девять книг. У тебя красная, как бы золотая, борода и каменные блестящие глаза...
«О чем это он поет? — подумал Черский и положил журнал на лавку. — Девять книг — это девять страниц «Нивы», а каменные глаза — мои очки. Он превращает в поэзию все, что видит».
Ты жил в стране, где, должно быть, очень тепло, где путное солнце и хорошая пища. И все же ты приехал в наш край, холодный ветреный край, чтобы посмотреть, как якуты живут и юкагиры. И ты видишь, как живем мы, морозные люди, и все пишешь, все пишешь. Ведь недаром у тебя девять пальцев, читающих девять книг. Вчера из девяти норок ты поймал девять мышей и царю хочешь их показать. Я смотрю на твои девять комнат: они так хороши, так красивы, как у сытых людей. На столе твоем лежит золотая книга в серебряном переплете, с листами из белого камня. Я знаю, как зовут эту книгу. Эта книга — святое евангелие...
Филипп приподнялся с корточек, подошел к столу, на котором лежал фотографический альбом, перекрестился, благоговейно поцеловал его и вернулся к порогу.
Несколько мгновений он осматривал тусклое стенное зеркало, стеклянные колбы с заспиртованными рыбами и мышами.
И снова запел:
— Из-за девяти верст виден твой дом с окошками, а зеркало вижу за семьдесят верст. Вижу и такую вещь у тебя, что сама поет, играет и смеется. На девяти окошках стоят девять рюмок с разными винами. На тех же окошках лежат девять медалей. Царь наградил тебя ими, видать, за большие заслуги...
«Не девять, а три, — усмехнулся Черский. — И совсем не медали, а компасы и рулетка».
— Из-за девяти сажен вижу девять твоих подушек, сверкающих, как черное серебро, из-за девяти шагов видны твои девять перин, как белые лошади. И вижу, как ты тоскуешь и вспоминаешь своих друзей. Когда уезжал ты из Аршита-города [* Петербург.], то, должно быть, плакал, прощаясь с друзьями. Поедешь теперь к Ледовитому морю и будешь опять плакать, прощаясь с друзьями. Но мы, друзья твои, говорим: не плачь при разлуке. Ты едешь туда, где не были наши карбасы, куда не залетали розовые чайки. Ты вернешься обратно к нам с Ледовитого моря, и мы поплачем от счастья и посмеемся над горем,
Филипп замолчал. Молчал Черский, молчал отец Василий, карандаш вздрагивал в руке Мавры Павловны. Трепетное дыхание белой ночи освещало убогую хижину. Черные тени на полу казались выпуклыми. Черский не решался похвалить песню Филиппа. Что ему похвала? Все равно, что винчестер без пули.
— Спасибо тебе, Филипп! Большое спасибо!
Крепкие пальцы таежного охотника осторожно пожали худую руку ученого.
На рассвете 31 мая Черский в теплом пальто, с шарфом на шее сидел у стола, терпеливо ожидая, когда Степан объявит о начале отъезда. В комнату вошел Генрих, смущенный, подавленный, тоскливо заговорил:
— Прости, дядя, что я покидаю тебя в самые трудные минуты.
Глаза Черского похолодели.
— Я не сержусь на тебя, Генрих. Каждый волен распоряжаться своею судьбой. И никто, даже ты сам, не виноват в отсутствии мужества. Желаю успешно возвратиться в Петербург.
Генрих поклонился и выбежал из комнаты.
Вошел Степан.
— Пора, — сказал он. — Пора отправляться в путь, — и приподнял Черского сильными добрыми руками.
Все жители Верхне-Колымска толпились у карбаса. Отец Василий, Эллай, Атта, Онисим, Филипп Табагрыр обнимали Черского, Мавру Павловну, Сашу, желали здоровья и счастья.
Степан и Мавра Павловна устроили Черского на корме под маленьким навесом. Он смотрел на толстое красное лицо отца Василия, на черные глаза Атты, на худенький ястребиный профиль Эллая.
— Постойте, погодите! Иван Дементьевич, подожди!..
Филипп Синебоев почти скатился с обрыва, сгибаясь под тяжестью четырехпудового мешка. На обрыве появились еще пять верхнеколымцев с мешками.
— Вот вам мука, вот сахар, Иван Дементьевич, — с какой-то веселой яростью кричал Синебоев. — Самые сокровенные запасы вам отдаю. Рассчитаемся после, когда вернетесь. Не беспокойтесь, мы сами погрузим мешки на карбас. Счастливого плавания!
Приказчик сдернул с плеча винчестер и выстрелил в рассветающее небо. Генрих, Эллай, Онисим, отец Василий и Табагрыр дали залп из своих ружьишек.
Степан уперся в кормовое весло, над левым бортом накренился квадратный парус, карбас, вздрогнув, затрещал, оторвался от берега и устремился вперед по реке.