Глава 1
Огромный купол неба, мерцающий мириадами звезд, опрокинулся над просторной равниной Западно-Сибирской низменности. В ней терялся захолустный город Омск, грязный и неуютный, с невысокими деревянными домами. Ни в одном из них не было света, и только на задворках поповского дома из оконца заброшенной бани пробивалась неширокая светлая полоска. Но вот слабо вспыхнула еще одна — в отворенной двери. Из бани, низко пригнувшись, вышел высокий, стройный человек, лет девятнадцати. Он был в старой солдатской форме, в разбитых сапогах.
На его крупной голове буйно росли русые волосы с золотистым оттенком. Темные брови и ресницы составляли контраст с ярко лучистыми голубыми глазами, немного выпуклыми. Черты лица его были правильны, заостренный подбородок чуть выдавался вперед. Лицо его было из тех редких, на которых никогда не бывает равнодушия: на них беспрестанно видна смена чувств и мыслей — верная примета немалой одаренности натуры. Это был Ян Черский. Сомкнув пальцы рук, он прижал их к груди и, запрокинув голову, принялся пристально разглядывать небо в самом зените. Каким недобрым ветром занесло его в сибирскую глушь? Кто он и откуда?
Утро его жизни началось лучезарно в родном имении отца, богатого помещика в Витебской губернии. Детство Яна было безоблачным, пока не минуло ему десяти лет. В этом возрасте он перенес первый удар судьбы — смерть отца. Шли годы, он подрастал, но оставался таким же чувствительным к своим и к чужим огорчениям и радостям. Музыка, пение, стихи приводили его в восторг. Само воспитание в семье, которым занималась мать, немало способствовало тому.
Потом его послали в Вильно, определив в дворянский институт. Там он, добросердечный, жизнерадостный, прекрасно воспитанный, вскоре стал душой общества своих сокурсников. Наделенный редкой памятью, с увлечением принялся изучать европейские языки, а еще раньше безукоризненно знал французский. Увлекался танцами, занимался музыкой.
Но его недюжинная природная любознательность оставалась неутоленной. Естественные науки были в полном пренебрежении в шляхетском институте, изучать их считалось делом, недостойным аристократов.
В эту пору огневым вихрем взметнулось восстание 1863 года и пронеслось из конца в конец по всему царству Польскому. Оно подхватило, зажгло впечатлительного Яна, потрясло его, увлекло беззаветно. Бороться за волю соотечественников, за их счастье, что может быть выше и более свято!? Он оставил институт, Вильно и бежал в повстанческий отряд Николая Витковского, выходца из крестьян.
Когда восстание было подавлено, восемнадцатилетнего Яна Черского сослали в Сибирь навечно штрафным солдатом. Чем дальше продвигался он со своей партией по этапам вглубь ужасной для него страны, тем больше казалось, что приближается к пропасти. И в ней ему оставаться навсегда... В ней и сгинуть бесславно. Мысль об этом повергала его то в безысходное отчаяние, то в такую апатию, что, казалось, душная мгла окутывала со всех сторон. Ни малейшего просвета в ней! Наконец добрался он до Ишима.
Здесь, на этапе, их партия встретилась с ранее прибывшей и задержалась из-за каких-то неурядиц. Как ни безразличен был Черский ко всему, а невольно заметил в той партии необычного арестанта. С первой же встречи запомнились его выразительные большие серые глаза. Он был деловито оживлен. Сразу же принялся разбирать свои вещи, извлекать какие-то коробочки и с интересом разглядывал их. Потом взялся клеить новые.
Назавтра он поднялся раньше всех. Прежде всего начал тщательно выбривать чуть заросший подбородок. Затем так же старательно принялся холить свои узенькие усы-стрелки. После завтрака он быстро собрался и куда-то исчез. Среди арестантов, заросших, опустившихся, изнывающих от безделья и скуки на этапах, этот поневоле возбуждал к себе чувство любопытства.
Вскоре он поразил тем, что каждодневно и подолгу стал отлучаться из этапной избы. Издали Ян не однажды видел, как этот арестант что-то ищет на берегу реки и на окрестных полях. А когда он возвращался, у него бывало такое выражение лица, будто нашел сокровище. Природная любознательность Яна проснулась и однажды повела следом за этим загадочным искателем. Шел он поодаль от него, потом неожиданно потерял из вида — тот скрылся за перелеском. Потом как в реку канул — она была совсем рядом. Выйдя на невысокий обрыв берега и оглядевшись по сторонам, Ян заметил незнакомца у самого подножия обрыва. Он с азартом разрывал рыхлую породу небольшой лопаткой с коротким черешком, которую обычно привязывал к поясу, отправляясь на свои поиски.
Долго наблюдал Ян за его безудержной работой, дивясь той увлеченности, с которой он предавался ей. Неожиданно незнакомец радостно воскликнул, доставая из только что отваленного кома породы крошечную раковину. Он. с безмерной осторожностью очистил ее, положил на ладонь, зачем-то принялся бережно дуть на нее и разглядывать такими глазами, словно это была не серая ракушечка, а алмаз дивной красоты.
Пораженный Ян не сводил с него глаз. Искатель вдруг рассмеялся н произнес:
—Несомненно она! — Тут он добавил каких-то два латинских слова, незнакомых Яну, вскинул голову и только теперь заметил постороннего. Ничуть не удивился тому, а простодушно обрадовался я заговорил, как с добрым старым знакомым.
— Посмотрите, несомненно она! — и опять назвал ее по-латыни. — Никак не ожидал встретить ее здесь! Находил немало других, но эта!.. — Он, спохватившись, гостеприимно предложил: — Да вы прыгайте сюда.
Ян тотчас спружинил ноги и ловко слетел вниз, очутившись рядом с незнакомцем. Тот поднес раковину к самым его глазам и пустился вдохновенно рассказывать, кто она такая, где и кто находил ее прежде и что за существо жило в ней многие миллионы лег назад. Ошеломленный этим бурным словесным потоком, Ян больше всего был поражен тем, что видел крошечный домик существа, жившего в сказочно далекие времена. В нем просыпалась не только любознательность, но и взыграло воображение. Вбирая в себя стремительный поток слов незнакомца, Ян представлял, как в чудовищно давние времена на этом самом месте разливался огромный морской водоем, в котором по дну ползала «она», неся на себе этот домик. Ее так давно нет в живых, а он пролежал миллионы лет! Как это представить?.. Другие люди, конечно, встречали такие же раковинки здесь, но даже не подозревали, что это такое? Он едва увидел, как сразу понял... Искатель казался ему чудесным провидцем.
Тот спохватился и представился:
— Александр Лаврентьевич Чекановский. Кандидат естественных наук. Участник польского восстания. Иду в Восточную Сибирь на каторгу — на шесть лет. А по пути исследую, когда к тому есть возможность.
Ян назвал себя. И как-то сразу, точно прорвало в нем невидимую плотину, наглухо закрывавшую его в пути от мира, принялся рассказывать о себе. Александр Лаврентьевич поискал вокруг глазами, заметил невдалеке выброшенный волнами ствол старого дерева и предложил его вместо кресел. Усевшись на него рядом с Чекановским, Ян продолжал, как на исповеди. Он видел, как внимательно и сочувственно слушает его Александр Лаврентьевич, и спешил излить перед ним все наболевшее.
Когда Ян замолчал, тотчас заговорил Чекановский, тоже страстно, взволнованно. Он принялся убеждать, что не так страшна Сибирь и ссылка в ней, даже вечная. Надо только найти себе занятие по душе, необходимо учиться, затем работать. Судьба переменчива, и кто знает, как она повернет?.. Надо верить в себя, в свои силы.
— Вы ещё так юны! У вас вся жизнь впереди. Только но давайте воли мрачным мыслям — это самое опасное в нашем положении! — закончил он горячо.
На этап они возвращались вместе.
В этот вечер впервые за время этапного пути Ян очнулся. В окружавшей его прежде душной темени как бы пробился яркий луч света. Он манил его к себе неудержимо. Ян долго не мог заснуть, перебирая в памяти все виденное и слышанное в минувший день.
Назавтра само собой случилось, что едва Чекановский тронулся в путь, привязав к поясу свою лопатку, как Черский очутился подле него. Но Александр Лаврентьевич был не один, а с товарищем почти одних лет с ним, Николаем Гартунгом. Он представил его как своего лучшего друга, естествоиспытателя и химика. Тот был вооружен сачком для ловли насекомых.
До реки дошли все вместе, а там Гартунг свернул в лес, начав свою охоту на бабочек, жуков, стрекоз. Чекановский же направился вдоль берега к тому месту, где накануне нашел раковинку. Дойдя до него, он тотчас принялся неутомимо рыть податливую наносную породу, рассматривая каждый отваленный ком ее, а некоторые разминал руками. Когда он устал, Ян с готовностью принял от него лопату и торопливо начал копать, зорко присматриваясь к каждой гальке, комочку, хотя бы отдаленно напоминающих остов ракушки. Александр Лаврентьевич продолжал тщательно исследовать отваленную им породу.
Перевалило уже за полдень, когда они, изрядно утомившись, уселись на песчаном берегу и, отдыхая, стали любоваться плавным течением реки.
Александр Лаврентьевич о чем-то глубоко задумался. Яну он казался мудрецом и почему-то старым, хотя было ему тридцать лет, да и выглядел чуть постарше, несмотря на сильное истощение.
Он временами принимался подкручивать правый ус, почти касаясь локтем плеча рядом сидевшего Яна и не замечая того. Его стрельчатые усы с концами, напоминающими шильца, задорно топорщились и запомнились Яну с первой встречи. И глаза его — тоже необычайные. Сейчас он старался угадать, какая мысль билась в них? — Но напрасно. Чувствовал себя в сравнении с ним беспомощным ребенком. Этот мудрец всевидящим взглядом, наверное, проникает во все, что было миллионы лет назад не только здесь, но и в других концах земли и что случится на ней в грядущем.
Сам Ян видел только искрящуюся под солнцем реку, лес за ней, слышал всплески волк и щебетание птиц, ощущал тепло солнца — от всего этого несказанно хорошо было на душе. Но что он знал о реках, о лесе — о жизни их, о земле, по которой проехал столько верст, наконец, о самом солнце?.. «Я живу, как слепой!»— неожиданно подумал он с грустью и обидой за себя.
Вокруг порхали бабочки. Одна, пестро окрашенная, села ему на колено, сложив крылышки. Он почти бессознательно протянул осторожно руку, схватил ее и начал разглядывать.
Александр Лаврентьевич повернулся к нему и обрадованно произнес:
— А, крапивница! — Как будто увидел дорогое ему существо. — Помню ее с самого раннего детства. Она была первой бабочкой, которая страшно удивила меня своими превращениями как в сказке! Однажды, вот в такой же летний день, перелезал я через забор, да вдруг сорвался, и... в крапиву. Руки, лицо жжет, а перед самым носом на земле блестит комочек... золота! Формы оно невиданной: угадывается в нем тупая головка и что-то вроде туловища и толстого хвоста. Взял я его на ладонь, а оно как пошевелит хвостом,— Чудо!.. Полетел я с ним к отцу. Он был у меня страстным естествоиспытателем, особенно увлекался насекомыми. Показал ему находку. Стал допытываться, что это такое? Он, не отвечая мне, посоветовал самому разгадать. Принес скляночку, положил в нее мое сокровище, обвязал горло склянки марлей и предложил мне каждый день наблюдать, что будет дальше? Меня качало лихорадить от нетерпения. Едва утром подымусь с постели — прежде к склянке. Днем, чем бы ни занимался, бегу смотреть, что с моим «золотом»? А оно лежит и даже хвостом не шевелит. Терпение мое начало истощаться.
Как-то днем подбегаю и вижу: то, что было золотым комочком, лопнуло. Лежит оно пустым мешочком. А из него еще не совсем вышла мокрая бабочка со смятыми крылышками. — Опять чудо!.. Бабочка была крапивница, как сказал мне отец. С того времени я тоже увлекся насекомыми. Помогал отцу собирать коллекцию их, но больше всего любил наблюдать за бесподобными превращениями при их развитии. У нас была роскошная коллекция насекомых. Интерес к ним так и остался у меня до сих пор. По дороге сюда, пока шли из Киева от этапа к этапу, мы с Николаем Гартунгом тоже собрали большую коллекцию их. Есть в ней немало видов, еще неизвестных науке.
— А я совсем их не знаю, — сокрушенно произнес Ян, думая о том, что даже мир насекомых, который перед глазами на каждом шагу, ему абсолютно неизвестен. — Вижу каждый день, и ни одно мне не знакомо. Различаю только — бабочки, жуки, стрекозы.
— Не унывайте! — ободрил Александр Лаврентьевич. — Если хотите, я помогу вам. Сегодня вечером посмотрим нашу коллекцию.
Ян с радостью согласился и благодарно посмотрел на своего собеседника. Тот сказал:
— Хорошо! А теперь давайте еще поищем древних обитателей бывших здешних водоемов.
Ян вызвался копать первым, Александр Лаврентьевич внимательно просматривал породу. Но в этот день им не повезло. Возвратились на этап с пустыми руками. Вечером Александр Лаврентьевич показал Яну коллекцию насекомых и, заметив как он с нарастающим любопытством разглядывает ее, пустился с увлечением рассказывать, где и какое насекомое поймано, чем оно интересно.
Вступил в разговор и Николай Гартунг, показывая свои сборы минувшего дня. Он явно волновался и без надобности поминутно приглаживал темные, слегка вьющиеся волосы. Карие небольшие глаза его светились застенчивой радостью. Во всем облике его теперь было что-то детски простодушное, доверчивое. Смотрел он обычно прямо, серьезно. Но когда улыбался, все лицо очень хорошело, и в ответ ему невозможно было не улыбнуться. Я уже всем сердцем потянулся к нему.
Однажды Гартунг, просияв лицом, начал рассказывать о крошечном существе с прозрачными крылышками, испещренными черными прожилками, которое лежало у него в отдельной коробочке. На взгляд Яна, в этой букашке не было решительно ничего особенного. Если бы сам встретил ее, то просто раздавил бы. К насекомым, как все, среди кого вращался прежде, не питал ничего, кроме презрительного пренебрежения или отвращения.
А тут двое таких необыкновенных людей рассматривают букашку, как драгоценность, увлечены ею, словно дети. Александр Лаврентьевич достал даже увеличительное стекло и через него стал разглядывать насекомое, вслух подсчитывая у него членики в ножках, в усиках. Ян с любопытством присматривался к необычному стеклу в его руках. Перехватив его взгляд, исследователь мимоходом объяснил:
— Эту линзу я отшлифовал из осколков графина во время пути сюда. Мы с Николаем, — он кивнул на товарища, — изучали тогда муравьев, а лупы не было, — Он продолжал подсчет члеников. Потом разглядел что-то необыкновенное в строении головы, брюшка и оживленно заговорил, обращаясь к Гартунгу и пересыпая свою речь латинскими названиями. Наконец, передал ему линзу и драгоценную находку. Тот прямо-таки впился глазами через стекло в голову насекомого. Потом взял из рук Чекановского определитель, долго в нем что-то искал и, подумав, как-то нерешительно, но с явным волнением произнес:
— Я думаю... новый род.
— Да! — подтвердил Чекановский. — Я рад за тебя, Николай! Ты первый нашел представителя нового рода в этой стране. — Он пожал ему руку, а потом встал и обнял товарища.
Все это было так необычно, удивительно для Яна. Долго он не мог заснуть в ту ночь — мешало радостное, непонятное волнение. Впервые за всю жизнь он встретил людей, вполне довольных тем, что изучают каких-то букашек и где? В пути на каторгу!.. Он понемногу прозревал, что дело тут не в букашках или ракушках, а в том, что люди ищут неизвестное и делают открытия. Какую это может доставить радость, видел своими глазами.
Он все думал, что и для него подобное тоже возможно, но надо многое знать — учиться. А где и как?.. Впереди — бессрочная солдатчина. На какое-то время тот мрак, который преследовал его всю дорогу, опять начал застилать все вокруг. Но помалу он стал как бы отодвигаться, а перед глазами все яснее вставала картина: сияет солнце, блещет река, под обрывом на берегу ее стоит Александр Лаврентьевич, держит на ладони ракушечку и потихоньку дует на нее. Чудесная улыбка озаряет его лицо. «Завтра я пойду один, — неожиданно подумал Ян. — Буду копать подальше, в других местах, пока не найду. Подарю ее Александру Лаврентьевичу».
Так и сделал. Поднялся спозаранку, когда все еще спали, выпросил лопату у хозяина этапной избы, разрешение на отлучку у конвоя и отправился вверх по реке. Искал до изнеможения, но понапрасну. Вернулся только к вечеру, еле волоча ноги, страшно огорченный. На вопрос Чекановского, куда же это он исчезал, Ян чистосердечно признался в своем замысле и в неудаче его. Александр Лаврентьевич обрадовался чему-то и значительно произнес:
— В вас, мой юный друг, просыпается естествоиспытатель. Чудесно! Но искать вам лучше со мной, а не одному. Хотя... Я тоже начинал без руководителя в природе. Но они были у меня в университете: профессора Рогович, Феофилактов, Кесслер. Им я обязан, что основательно познакомился с естественными науками, учился же на медицинском факультете, который был совсем не по душе. Помню, как в летние каникулы впервые отправился изучать природу. Моим путеводителем в ней было популярное руководство по геологии. Берегу его, как реликвию...
Он пустился в воспоминания. Рассказывал самозабвенно. С лица его не сходила та самая улыбка, которую Ян увидел при первой встрече с ним. То, что рассказывал Александр Лаврентьевич, не всегда было понятно ему, хотя бы те же фораминиферы, которых он столь одержимо искал в Подольской губернии. Но по тому, как он говорил об этом, явно угадывалось, что студент Чекановский был непередаваемо счастлив этими поисками и находками.
С тем же увлечением Александр Лаврентьевич продолжал вспоминать, как изучал гранаты в Волынской губернии, а потом писал первую свою научную работу по ним и фораминиферам. И как позже, окончив Киевский университет, уехал в Дерптский, чтобы послушать лекции известных профессоров. К тому же мечтал изучать там девон и силур Прибалтики. Для Яна силур с девоном прозвучали как слова незнакомого языка, но он постеснялся спросить, что они значат? Догадавшись о том по выражению его лица, рассказчик с истинным вдохновением пустился описывать эти древнейшие периоды в жизни земли, отстоявшие от современных дней на сотни миллионов лет. О живых существах тех времен он рассказывал так, словно довелось ему видеть их собственными глазами. Перед Яном они вставали тоже будто наяву.
С неменьшим воодушевлением Александр Лаврентьевич начал вспоминать, как в Дерптском университете, в кружке естествоиспытателей подружился с людьми замечательными: Бенедиктом Дыбовским, Фридрихом Шмидтом, необычайно живым, увлекающимся, беззаветно влюбленным в геологию. Вот с ним-то и под руководством профессора Гревингка посчастливилось ему экскурсировать на острове Эзель, по Эстонии два лета сряду и изучать силур тех мест. Как много они дали ему, эти экскурсии! Тогда же решил, что снова займется изучением силура на Днепре, где уже бывал и собрал большую коллекцию моллюсков.
— Дерптский университет закончить мне не удалось.— Не на что стало жить. Пришлось вернуться в Киев.— с грустью закончил Александр Лаврентьевич. — Он помолчал, задумался, взъерошивая свои пышные русые волосы. Потом, точно встрепенувшись, проговорил: — На родине я устроился работать в электротехническую фирму «Сименс и Галске», Но все свободное время просиживал в университете, приводил там в порядок палеонтологические коллекции. И... мечтал! О дальних путешествиях в северную Азию, в которой для натуралиста открытий — непочатый край! Мечтал об Индии. В нее чуть не попал. Бригада фирмы собиралась в эту страну, и я с ней.
Но тут жизнь моя круто повернулась. В Польше, вы ведь знаете, появилась революционная партия «Красных», цель которой — свергнуть так ненавистный нам царизм. В Киеве был филиал ее. Организовал его Стефан Бобровский. Я тоже всей душой отдался борьбе. — Александр Лаврентьевич встал, стремительно прошелся и, овладев собой, почти спокойно продолжал: — В Киеве я встретился с Дыбовским. Он тоже ринулся в борьбу, весь ушел в подготовку восстания, с тем и приезжал к нам из революционного центра... Теперь... мечты мои о северной Азии сбываются. Только иду в нее пешком — уже тысячи верст остались позади. Не упускаю случая вести исследования в ней. — Он горько усмехнулся и добавил: — Не о таком путешествии сюда я мечтал.
У Яна при виде этой усмешки нестерпимо защемило в груди.
В следующие дни они опять были неразлучны. И Гартунг с ними. С утра спешили к реке, В поле, где находили овраги, а в них обнажения пород. Но Гартунг часто отлучался, занятый своей охотой на насекомых. Оставшись вдвоем, Александр Лаврентьевич все чаще рассказывал своему юному спутнику, где и по каким приметам надо искать ископаемую фауну. Ян уже знал — это остатки древних вымерших животных, по которым геологи определяют возраст тех пород, в которых находят их. Известно ему теперь стало, что фауны, пресноводная и морская, встречаются лишь в осадочных породах, возникших на дне бывших водоемов. Он уже пригляделся к этим осадочным, они встречались ежедневно. В душе был рад, что начинает понимать кое-что в окружающей природе. Но главное-то было в том, что он все больше чувствовал, сколь увлекателен сам поиск неизвестного в ней.
Не менее захватывающим были для него и рассказы Александра Лаврентьевича о далеком прошлом земли. Внимал им жадно, воображением и мыслью уносясь в такие дали, что порой чувствовал душевный трепет. В эти минуты рамки видимого мира, как по волшебству, разом раздвигались, и он видел за ними совершенно иной, недосягаемо далекий мир прошлых времен. Это было чудо в своем роде, и с каждым днем Ян все жаждал повторения его. Вечерами он уже не замечал ни грязного этапа, ни шума и сутолоки в нем — всего, что прежде угнетало. Теперь он продолжал грезить тем, чем был полон минувшим днем.
Но настал час, когда все это разом оборвалось: Александр Лаврентьевич с Николаем Гартунгом отправились со своей партией дальше на восток. Для Яна разом все померкло вокруг. Несколько дней он жил, будто в сумерках. Чтобы посветить себе в них, как фонарем, доставал из сундучка две книги, подаренные ему на прощанье Александром Лаврентьевичем. Одна из них была та самая «дорогая реликвия», служившая хозяину ее в молодости путеводителем в геологических поисках, а другая ж популярная по энтомологии со множеством рисунков насекомых.
Ян запоем читал книгу по геологии. Однажды под вечер отправился к обрыву на реке. Долго стоял на нем, не шелохнувшись, вперив взгляд на то место, на которое спрыгнул тогда и очутился рядом с Чекановским. Теперь как бы вновь видел открытые серые глаза Александра Лаврентьевича, сияющие безудержной радостью, и чудесную улыбку, и протянутую руку с находкой. Неожиданно его осенило: искать! Ту самую ракушечку, за которой они столько времени охотились с ним, но безуспешно. Александру Лаврентьевичу так хотелось найти хотя бы еще одну такую.
Со всем пылом своей безудержно страстной натуры Ян взялся за поиски раковинки, теперь драгоценной и для него. Он решил, что найдет ее во что бы то ни стало. Потом узнает, где будет на каторге его дорогой и первый учитель-натуралист, и пошлет ее ему. То, что ускользнуло от Чекановского, искушенного исследователя, само собой далось в руки Яну Черскому в первый же день, когда он начал искать один. Заветная раковина попала ему на глаза в обрыве дальнего оврага, высунувшись на свет божий своим заостренным концом. Надо ли рассказывать, как начинающий следопыт очищал ее от приставшей земли, какими глазами разглядывал, как потихонечку дул на нее, не зная зачем. Наконец, как летел с нею к этапу, перемахивая через рытвины на пути. В этапной избе он то разглядывал ее, то опускал в карман, а потом поминутно прикасался к нему, чтобы убедиться, что она там. Уже поздно вечером, когда почти все спали, он зашил ее дорогой талисман — под борт арестантского халата.
Глава 2
Весь остальной путь до Омска Ян Черский шел, согреваемый этим талисманом и подаренными книгами, которые читал на этапных остановках. На последних иногда ловил насекомых самодельным сачком. Пытался определить их по рисункам в книге, по описаниям в ней. Иногда это удавалось и радовало его. Но чтение руководства по геологии увлекало куда больше: оно давало простор воображению, мысли.
В Омске всю их партию загнали в темную, грязную казарму. Тут вскоре началось переодевание в новую солдатскую форму. Когда очередь дошла до Яна, ему швырнули одежду, как перед тем кидали и другим. Он не успел подхватить сверток, тот шлепнулся на пол. Ян, возмущенный таким обращением, начал было выражать свое негодование, но фельдфебель грубо толкнул его, отпихнул ногой упавшую одежду и зло проговорил:
— Чего встал тут!.. Получай следующий.
— Вы не смеете!.. — крикнул Ян.
— Па-га-вари ты мне, — зловеще процедил фельдфебель. На его скуластом лице выступили багровые пятна. — Этого захотел? — вдруг сорвавшимся голосом в бешенстве закричал он и сунул к самому лицу Яна кулачище в коротких черных волосках. Ян в ужасе отшатнулся. Одна мысль, что его могут ударить в лицо этим страшным кулаком, заставила его содрогнуться. Не помня себя, он подхватил упавший сверток, забился с ним подальше и принялся скидывать арестантский халат. Потом облачился в солдатскую форму. Он весь дрожал от негодования и обиды. Чтобы скрыть это, начал пробираться к двери, намереваясь выйти во двор.
Но вдруг остановился и метнулся обратно к тому месту, где оставил арестантский халат. Тот лежал на полу. Кто-то успел наступить на него, оставив грязный след. Ян быстро поднял его и начал с судорожной поспешностью ощупывать то место, где была зашита раковинка. От нее остались одни крошки. Его талисман был уничтожен. Он тоже почувствовал себя раздавленным. Ночью, лежа на нарах вповалку вместе с другими, он долго не мог уснуть. Слезы душили его. Он боялся разрыдаться. Но ему куда бы легче было. То, что страшило его в пути до самого ишимского этапа, сбывалось, он чувствовал себя уже в пропасти — безвозвратно.
В пути не однажды слышал рассказы о том, что солдат-штрафников за малейшую провинность бьют, сажают в карцер, зуботычинами награждает их все начальство, от мала до велика. Сейчас при мысли, что любой хам в мундире может ударить его, посадить в карцер или выдрать, он приходил в ужас.
Предчувствие не обмануло Яна. Этот фельдфебель запомнил его. Он мстительно искал случая, чтобы уязвить, унизить его или отправить вне очереди в караул. Была у него противная привычка кстати и некстати говорить: «Поди ты!», произнося гнусаво на свой лад — «Па-ди ты!». Эти ничего не выражающие слова он презрительно цедил, обращаясь то к одному, то к другому солдату, но чаще к Черскому, самому юному среди них. «Па-ди ты какой нежный!» — говорил он ему хрипловатым голосом с явной издевкой. Его маленькие темные глаза, прятавшиеся в жирных складках век, злобно, торжествующе посверкивали. Этот его взгляд преследовал Яна, настигал часто врасплох и приводил то в замешательство, то вызывал целую бурю негодования, но бессильную — про себя. Яну куда легче было сносить грубое хамство других офицеров, чем это.
Солдаты прозвали наневистного им фельдфебеля «внутренне волосатым». Иногда он внезапно менял тактику и, выкатив в бешенстве глаза, надсадно кричал: «Этого хочешь?» И тотчас подносил свой кулачище к глазам Яна. Насладившись произведенным действием, он внезапно опускал его, повертывался и уходил, презрительно сплюнув. Иногда говорил: «Руки об тебя, об молокососа, марать!» А других бил и с размаха — в кровь. По его милости Ян уже отсидел в карцере. Но даже в нем ему было легче, чем ожидать, что фельдфебель размозжит ему когда-нибудь лицо. Это было ужасно для него.
Так началась служба Яна в штрафной роте. Каждый следующий день был точным повторением предыдущего — с утра до вечера муштра, скверное питание, тяжелый сон в душной казарме. Миновал месяц, второй, более полугода. Сумеречная, дико бессмысленная жизнь продолжалась без малейших изменений. У Яна уже недоставало сил, чтобы выдержать ее. Он чувствовал себя, как под прессом, который выжимал из него последние жизненные соки.
...Не кончилось бы добром для него такое бытие, не пошли ему судьба случайно замечательного его соотечественника Квятковского, человека необъятных знаний, страстного поклонника и собирателя книг. В его богатейшей библиотеке было много редких научно-популярных и научных книг. Но доступ к ним был только избранным. В числе их оказался и Черский. Читать ему по вечерам в казарме, еле освещенной, было почти невозможно. Да мешал там нескончаемый говор, шум. А книги манили его неотступно.
Днем, пока его гоняли в строю, муштровали на разные лады или отправляли в караулы, шла по-прежнему жизнь, как в сумерках. Но едва наступал вечер, Ян уединялся в поповской бане и со страниц книг лился ослепительным потоком свет знаний. Тогда Ян, воспламенившись, начинал жить прекрасными мгновениями, наслаждаясь тем высшим, что дано человеку — познанием. И не было в эти часы во всем Омске кого-нибудь более счастливого, чем он.
Вот в один из таких поздних вечеров вышел он из бани, ецепил пальцы рук в «замок», запрокинул голову и начал созерцать небо в зените. Перед тем он при коптящем пламени свечи с упоением читал популярную книгу по астрономии, данную ему Квятковским. Теперь охватывал небо как бы двойным зрением: и то, что было перед глазами, и то, что рисовалось воображению. Каждая звезда — не мерцающая точка, а огромное светило. Вокруг многих из них тоже кружатся спутники-планеты, подобные Земле, Марсу, Юпитеру. И на них разлита жизнь, неизвестная, загадочная. Позабыв решительно обо всем, он размечтался об этой внеземной жизни, пытаясь хотя бы смутно представить ее. Наконец, он вернулся в баню и снова жадно припал глазами к книге. Небольшая светлая полоска еще долго лежала перед его оконцем.
Минул почти год, как Ян Черский попал в Омский линейный батальон. Судьба снова свела его с необыкновенным человеком, Григорием Николаевичем Потаниным. Он был старше его на десять лет и только что вернулся из научной экспедиции по Средней Азии. Его оставили в Омске при генерал-губернаторе переводчиком татарского языка. А еще служил он в губернском совете, занимаясь делопроизводством по делам инородцев и крестьян. Прослышав, что Черский великолепно владеет европейскими языками, он поспешил познакомиться с ним и пригласил его к себе.
Ян был очарован им, особенно его детской непосредственностью, доверчивостью, редкостной сердечностью, а вместе с тем бурной энергией. Разговорились и как-то сразу и быстро сошлись по душам. Лицо Григория Николаевича не было красиво, но обаятельно выражением своим. Нередко оно озарялось истинным вдохновением, особенно, когда он рассказывал о виденных им местах в Средней Азии. Ему иногда, недоставало слов, чтобы, живописать их, но многое договаривали его необычно живые, выразительные карие глаза, светившиеся так мягко и сердечно. Да и мимикой лица он тоже помогал немало своему рассказу.
На Черского сильнее всего действовала эта немая часть его повествования: она будоражила его воображение, им он дорисовывал недосказанное Григорием Николаевичем. Оттого услышанное виделось ему особенно ярко.
Впервые в жизни он встретил путешественника да еще по мало известным странам с неописуемо красочной природой. Рассказы Потанина зажгли в нем мечту своими глазами увидеть снежные поднебесные хребты Заилийского Ала-Тау, перевал Алтын-Эмель. Возвращаясь от Григория Николаевича уже в глухую полночь по пустынным улицам города, он неожиданно для себя начал напевать жизнерадостный мотив мазурки. Это впервые с тех пор, как бежал из дворянского института в повстанческий отряд Витковского.
Пел с бессознательным ощущением особой радости, с какой птицы встречают занимающуюся зарю. Перед глазами его возникали никогда не виданные картины. То представлялось ему высокогорное озеро Иссык, наполненное изумрудно-зеленой водой, то водопад в той же долине, летящий вниз сплошной белой завесой. А по берегам дикие яблони, абрикосы. В небо упираются вершины Заилийского Ала-Тау, сверкающие вечными снегами.
Никто из русских не видел еще этого земного рая. Потанину с отрядом казаков под начальством Перемышльского посчастливилось провести в нем почти год, пока зимовали в долине Иссык, а потом строили укрепление Верный на реке Алма-Атинке. Они присоединили к России этот среднеазиатский край, завоевав его мирным путем. В глазах Яна все это было несказанно романтично.
Так же явственно начала ему рисоваться поездка Потанина в китайский город Кульджу. Ему просто виделось, как поднявшись на перевал Алтан-Эмель, Григорий Николаевич оставил позади холодную Сибирь, а спустившись с него, въехал в страну тепла и света. Впереди перед ним маячила гряда гор, за нею — не то бескрайняя даль, не то облака. Путешественнику почудилось, что видит всю Китайскую империю до самого Тихого океана. Теперь то же самое представилось Яну. Как бы он был счастлив, если бы подобное свершилось с ним наяву!..
Назавтра вечером он снова был у Потанина. Само собой так вышло, что начал рассказывать о том, как в заброшенной поповской бане читал книги чуть не целыми ночами, а потом мечтал, думал. Григорий Николаевич весь подался к нему. Его глаза все больше теплели, искрились, а на лице проступало такое выражение, как будто слушал не простую речь, а музыку, взволновавшую его до глубины души.
— Вам надо учиться! — воскликнул он горячо, убежденно, едва Ян умолк.
— Где?..— с отчаянием спросил тот. — Как могу учиться, когда обречен быть вечно штрафным солдатом!
— Все равно — надо учиться! Пока самостоятельно. — С еще большей страстностью продолжал Григорий Николаевич. И принялся уверять, чего только иной раз не бывает в жизни! В доказательство того поведал свою собственную историю.
Детство ему досталось трудное — пяти лет потерял мать. Потом отца, казачьего офицера, разжаловали и посадили в тюрьму. Пришлось мальчонкой жить у дяди, жена которого не терпела приемыша и нещадно наказывала. Через два года умер дядя. Вернулся он, маленький Гриша, в родной Пресновск к отцу. Его в то время взял на работу в огород и строить церковь полковник Эллизен, а Гришу к себе и стал воспитывать вместе со своими детьми. Было вокруг дома полковника множество роскошных цветников. Они поражали своей красотой, разнообразием. С тех пор и пристрастился к растениям. А полковница привила любовь к науке, к литературе.
Едва минуло ему восемь лет — прочел «Робинзона Крузо» и стал страстно мечтать о морских путешествиях. Потом, годы спустя, о сухопутных. Это уже в Омском кадетском корпусе, в котором подружился с даровитым подростком Чоканом Валихановым. Вместе с ним запоем читали описание путешествий Палласа по Сибири и мечтали сами совершить такие. После окончания корпуса надолго расстались с Чоканом.
Он, Григорий Потанин, служил казачьим офицером сначала в Семиречье, потом на Алтае, в станице Чарышской, и с большим увлечением собирал там гербарий растений. После того снова очутился в Омске. Здесь пришлось заниматься скучным делом — проверкой шнуровых книг в войсковом правлении. Опять встретился с Валихановым. Тот страстно мечтал о поступлении в Петербургский университет, чтобы изучать в нем восточные языки (а потом проникнуть в Китай, еще недоступный для европейцев). Хотелось ему и того больше — побывать на чудесном высокогорном озере Кукунор, окруженном высочайшими горами со снежными вершинами. «Это как в сказке!— говорил он прерывающимся от волнения голосом. — Я читал про них в сочинении Гумбольдта». — И так чудно сверкали его глаза.
Слушая его, Григорий тоже начал грезить университетом и Кукунором. Но знал, что для него-то мечты эти несбыточны. Как офицер казачьего войска, он должен был прослужить в нем по закону двадцать пять лет и только в Сибири. Лишь урывками мог здесь собирать растения. Вот в чем было его горе! А мечты о путешествиях в неизведанные страны стали уже заветными — на всю жизнь! Но как им сбыться?..
Тут, в Омске, по просьбе Чокана начал выписки из документов губернского архива и невольно увлекся. В документах этих (а сохранились они с половины семнадцатого века) было много интересного о связях русских с князьями Джунгарского ханства, с главами казахских родов, о торговле с Туркестаном. Но еще больше в то время увлекали его книги по естественной истории, одна из них запомнилась особо — Семашко «Фауна России».
Однажды, когда сидел в архиве, открылась дверь, и в сопровождении Валиханова вошел сам президент Всероссийского Географического общества Петр Петрович Семенов — тоже как в сказке! Ему, безвестному казачьему офицеру, нанес визит такой ученый! Он тогда возвращался из экспедиции по Тянь-Шаню. Чокан рассказал ему о выписках Потанина, о его гербарии и о том, что, получая мизерное жалованье, Григорий выписывает дорогой журнал Всероссийского Географического общества. Все это заинтересовало прославленного ученого. Поговорив с Потаниным, пригласил его к себе и познакомил со своим путевыми заметками. А в следующие встречи, как вспоминал годы спустя, старался в нем развить любовь к естествознанию и к самой природе. Григорий Потанин был тронут этим до глубины души. И взволновался без меры, когда Петр Петрович начал советовать ему поступать в столичный университет, он обещал через своего родственника, важного сановника, устроить это, не преступая закона.
Так, с его нежданной-негаданной помощью и очутился он, казачий офицер, в Петербургском университете. Перебивался в нем кое-как. Обедал в складчину с друзьями: Ядринцевым, Наумовым, Куклиным. Покупали ситного хлеба, вареного картофеля с маслом, тертого зеленого сыра и одну бутылку кваса. А на завтра и ужин был один чай с сухарями, которые брали в долг. Спать приходилось на голых досках, покрытых простынями. Но много и увлеченно читали, посещали музеи, выставки. Весной делали экскурсии вокруг города. На лето с Куклиным уехали в деревню под Калугу, чтобы изучать растения. Перед тем долго копили деньги, экономя их на еде, чтобы купить себе руководство «Русская флора» Ледебура. Его рекомендовал им Семенов. Заплатили за эту книгу двадцать четыре рубля. Григорий Николаевич, мечтая о будущих путешествиях, готовился к ним как ботаник.
Так миновало два года и наступил третий. Тут в университете разразились студенческие волнения. Григорий Потанин одним из первых бросился в их водоворот. Когда они были подавлены и университет закрыт, он очутился в Петропавловской крепости.
Потом, освободившись из нее, решил с друзьями своими — Ядринцевым и Наумовым — возвратиться в родную Сибирь. Все вместе мечтали устраивать в ней публичные библиотеки, читать лекции, писать в местные газеты, совершать научные экскурсии и собирать коллекции для музеев, одним словом, заниматься просветительством.
Перед отъездом он зашел к Петру Петровичу Семенову и попросил его написать генерал-губернатору Западной Сибири о том, что в управляемом им крае будет жить преданный науке просвещенный человек. Семенов такого письма не дал, а определил просителя в экспедицию астронома Струве. Она ежегодно выезжала в местности, от горного Алтая до Джунгарского Ала-Тау для определения широты и долготы различных пунктов. О таком счастье Григорию Николаевичу и во сне не снилось.
Два года он путешествовал со Струве. Побывал у подножья Калбинского хребта на Алтае, на среднеазиатском озере Марка-куль, не однажды — на Зайсане, на хребте Тарбагатай, с которого привез богатую коллекцию растений. А в придачу незабываемых впечатлений на всю жизнь. Вот о них-то он с истинно поэтическим вдохновением и рассказывал Яну Черскому. А еще — о своей будущей мечте. Он горячо верил, что она сбудется, хотя пока не представлял, каким чудом. Он уповал на счастливый случай. Мечта эта завладела им неотступно еще в университете, когда прочел книгу Александра Гумбольдта «Центральная Азия». В ней было описано озеро Кукунор (Синее) и окружавшие его величественные горы со снежными пиками. Местные жители называли их патриархами. Ни один европеец не бывал еще на берегах этого озера. Григорию Потанину нестерпимо захотелось увидеть его своими глазами. Еще в той книге упоминалась примечательная гора на Тянь-Шане — действующий вулкан. Но сам Гумбольдт не видел. Посмотреть, в самом ли деле это не потухший вулкан, было для Потанина мечтой.
А пока он служил при генерал-губернаторе и в свободные часы запоем читал книги по естественной истории. В последнее время — труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Он с таким восторгом отзывался о нем, что Яну тоже захотелось познакомиться с этой книгой. Григорий Николаевич пообещал дать ее, как только закончит чтение.
В тот вечер, возвращаясь от него, Ян долго бродил по пустынному Омску. В казарму идти не хотелось, чтобы не потушить того светлого, что зажглось в душе его после рассказов Григория Николаевича. Он тоже размечтался о путешествиях в далекие страны, где можно увидеть и открыть никому еще не известное.
Потом само собой подумалось, что для того надо многое знать. Он принялся упорно размышлять о совете Потанина учиться. Не просто читать, что попадет под руку, но изучать науки, как в университете. Только где же достать программы и учебники?..
Назавтра он отправился к своему доброму покровителю Квятковскому, искушенному во всех науках. Тот дал несколько учебных пособий для самообразования и посоветовал изучать их от первого листа до последнего. Но прежде чем взяться за них, Ян с восторгом прочел труд Дарвина. Автор его показался ему просто божеством, все видящим, во все проникающим.
Глава 3
Однажды у Потанина Ян Черский познакомился с инженером Марчевским. Он был высок, сухощав и с целой гривой темных волос на массивной голове. Часто прищуривал большие карие глаза, отчего взгляд их становился особо проницательным, но нередко в нем светилась и добродушная усмешка. Любил он приговаривать: «С вашего позволения». Григорий Николаевич называл его паном Марчевским и, как позже узнал Черский, все окружающие — тоже.
— С вашего позволения, я закурю? — обратился Марчевский к Яну. Тот даже смутился. Уже отвык от светского обращения, ежедневно слыша грубые окрики, понукания и неприличную брань.
Марчевский достал трубку с тонким чубуком, на котором красовалась... голова льва, изваянная с тончайшим мастерством. В нее он начал набивать табак. Ян с изумлением заметил поразительное сходство в выражении глаз этой головы и хозяина трубки — они так же усмехнулись в характерном прищуре. Пан Марчевский не без удовольствия наблюдал, какое впечатление произвел своим творением на нового знакомого. Дал ему получше разглядеть его.
— Изваял я эту голову, когда мне стало совсем не по себе. Это был единственный способ увековечить свою особу здесь, — проговорил он, опять прищуриваясь и усмехаясь. — Тогда же вырезал и трость свою.
Григорий Николаевич быстро встал, взял ее из угла и с восхищением начал показывать Яну. Деревянная извитая, она ни дать, ни взять — змея. Голова ее с большими человечьими глазами покоилась на набалдашнике и смотрела умно, спокойно.
— На востоке у некоторых народов змея была олицетворение мудрости, — начал Марчевский тоном учителя. Но сразу изменил его на добродушно-иронический, проговорив: — Видите, каков я!? Сила льва в моей трубке, мудрость змеи в трости! — Он засмеялся таким подкупающим смехом, ответить на который было невозможно. Ян с радостным удивлением наблюдал, как из этого великолепного пана все больше выступает детски-простодушный человек. С этого дня началась его сердечная привязанность к инженеру Марчевскому.
Новый знакомый с первой же встречи принял в нем самое искреннее участие, когда узнал, что Черский намеревается заняться самообразованием.
— Пан Янек, учитесь! — говорил он на прощание, крепко сжимая его руку. — Учитесь и еще раз — учитесь! В этом спасение ваше. Иначе погибнете здесь!..
В следующую встречу он вручил ему учебник химии и некоторую сумму со словами:
— На это возьмете нужные вам учебные пособия.
Ян-смутился и решительно начал отказываться от денег. Но Марчевский таким тоном сказал: «Берите!», что у Яна не хватило духа отказываться дальше. Марчевский тотчас изменил тон и проникновенно заговорил, что он очень рад за него и желает ему самых больших удач.
Прямота, честность и простодушие Марчевского все больше покоряли Яна. Потом он заметил в нем еще одну привлекательную черту, — он часто напевал без слов веселые мотивы полек, мазурок, когда шагал со своей тростью по улицам города. Напевал их негромко и смотрел себе под ноги.
— Пан Марчевский, вам всегда так весело, что вы поете? — спросил его однажды Ян.
— Нет! Мне не весело, — с грустью ответил тот.— Когда я напеваю, то меньше замечаю мерзости вокруг.
Ян был ошеломлен таким признанием. Чем больше он узнавал Марчевского, тем крепче привязывался к нему. Сильные натуры имели над ним неодолимую власть. Более всего на свете он хотел быть похожим на них, избавиться от излишней чувствительности, которой наградила его природа и воспитание в семье.
Григория Николаевича он уже давно полюбил всей душой. Тот стал для него другом-наставником. Однажды рассказал ему, как на этапе встретился с Чекановским, потом искал для него раковину. Григорий Николаевич слушал с особенным вниманием и неожиданно воскликнул:
— А, знаете, я здесь за городом давно еще находил какие-то раковины моллюсков, конечно, ископаемых. Они были в толщах наносов. Возьмитесь-ка исследовать окрестности Омска в геологическом отношении. — Он говорил это как с человеком, который ничем иным не занимался, а только изучал ископаемых.
Яна этот совет поверг в крайнее смущение, но и обрадовал не меньше. Да было ли для него что-нибудь более увлекательное, чем искать? Он уже испытал это счастье на Ишиме. В тот же день он помчался за город, едва кончилась постылая служба. Раковин там не нашел, но обнаружил — породы в обрывах берега Оми были осадочные. Уж одно это его страшно обрадовало: появилась надежда встретить в них ископаемые останки. Да и Григории Николаевич уже находил раковины, правда, в другом месте.
Прошло немало времени, пока Яну они тоже попали на глаза. Возвращался с ними столь же окрыленным, как с той ракушечкой-талисманом, и сразу — к Потанину. Но даже он не смог определить, какого они вида, рода, пресноводные или морские. А Яну не терпелось узнать это.
С того дня Григорий Николаевич тоже пустился на поиски необходимых литературных пособий для начинающего исследователя. Целыми днями он был занят по службе и в архиве и только вечерами мог уделять этому время. Пересматривал все старые номера научного журнала Всероссийского Географического общества, который выписывал уже много лет. Нашел, правда, немного, но на первый случай и это могло пригодиться Черскому. Посоветовал ему прочесть те лучшие руководства по геологии, с которыми был знаком сам. А прежде всего, подсказал, где и как лучше всего начинать поиски ископаемых.
С этого времени началась у Яна Черского новая полоса жизни, определившая всю его дальнейшую судьбу. Окрестности Омска полюбились ему особенно тем, что дарили все новые и новые находки, которые приносили несказанную радость.
Минуло более года. Ян Черский неистовствовал в своих занятиях науками, как бы закрывая глаза на всю окружающую его, по-прежнему сумеречную, жизнь. Он составил себе обширнейшую программу, в которую включил все предметы по естественной истории от астрономии до антропологии (науке о человеке). Старался постичь их не только в теории, но и на практике. В сарае, рядом с казармой, оборудовал себе химическую лабораторию и проводил в ней всевозможные опыты. В той заброшенной бане, где прежде читал книги, теперь с увлечением готовил анатомические препараты.
Он так набил руку в этом деле, что со временем стал первоклассным препаратором.
Теперь в учебе он был уже не одинок: создался целый кружок из его молодых товарищей солдат, тоже занявшихся самообразованием. В том были «повинны» Марчевский и Потанин. Григория Николаевича в это время уже не было здесь, оп уехал в Томск с намерением заняться публицистикой. Вместе со своими товарищами Ядринцевым и Наумовым он собирался там осуществить давнюю мечту о просветительстве.
Для Яна и в эту пору, как прежде, самым увлекательным были поиски в природе. В осадочных породах он нередко находил ископаемые остатки. Чаще это были раковины моллюсков, которых скопилась целая коллекция. Она была настоящим сокровищем, но Ян еще не знал ей цены. Поначалу просто собирал раковины, не догадываясь даже, в какие времена жили обитатели их, были они морскими или пресноводными, к каким видам принадлежали — искал вслепую. Но даже тогда испытывал непередаваемую радость: лихорадка следопытства начала овладевать им.
Со временем она захватывала все больше по мере того, как он прозревал, пользуясь добытыми руководствами, которые советовал ему Потанин. Они стали для него тем же, чем была «Флора России» Ледебура для самого Григория Николаевича — настоящими путеводителями. У Яна начало закрадываться сомнение: в самом ли деле здешние осадочные породы являются морскими, как утверждали все ученые?.. Когда при случае рассказывал о своих думах, поисках и находках пану Марчевскому, тот приходил в восторг. Он доставал необыкновенную трубку и -говорил:
— С вашего позволения, я закурю?
Глаза его при этом сияли гордым торжеством, конечно, за него, за Черского. Это радовало Яна лучше всяких словесных похвал.
И вот настал день, когда он, безмерно волнуясь, начал писать свою первую научную работу. Мог ли тогда подумать, что его находки ископаемых в окрестностях Омска послужат со временем доказательством того, что неверна теория самого Гумбольдта — научного светила, тоже подобного божеству в глазах Яна. В те дни он не имел еще понятия ни о теории Гумбольдта, ни о том, какую ценность отыскал для науки. Лишь годы спустя, когда его коллекция попала в руки академика Миддендорфа, а затем была обработана немецким профессором Мартенсом, то стало ясным, что взгляд Гумбольдта был не верен. Этот ученый считал — в далеком прошлом Северный ледовитый океан соединялся даже с Аральским морем и заливал Западно-Сибирскую низменность. Но отложения тех времен почти в центре этой низменности, вокруг Омска, оказались пресноводными. Доказательством тому была коллекция Черского.
Так, Ян с первого своего шага в науке совершенно самостоятельно сделал нешуточную находку. Без научных поисков ему теперь и жизнь была не в жизнь. С еще большим увлечением и упорством продолжал набираться знаний из книг, мечтая в будущем посвятить себя науке без остатка. Своими сокровенными чаяниями делился иногда с Марчевским, с Потаниным.
В первый год своего пребывания в Томске Григорий Николаевич писал ему, сердечно радуясь его успехам, иногда советовал, порой подбадривал. Потом вдруг сообщил, что его арестовали, и на том переписка их оборвалась. Ян пытался разузнать, где находится дорогой ему человек, но все старания были напрасны.
Прошло три года. Ян с товарищами все нетерпеливее ожидал дня, когда получит какой-нибудь чин и после того сможет вернуться на родину. Эту веру в них усиленно поддерживал Марчевский. Он, как прежде, напевал, проходя по улицам. Но иногда стал насвистывать мотивы из маршей и шагал притом, как на параде. Своей тростью он сердито постукивал о землю. Ян уже знал, что инженер чем-то выведен из себя, но такое бывало в случаях исключительных.
Как-то под вечер он встретил его. Не ответив на приветствие, что было уж совсем невероятно для него, Марчевский сердито сказал:
— Приходите завтра рано утром к берегу Оми, у входа на базарную площадь и увидите нечто диковинное! — Возможное только в этой варварской стране! — Глаза его пылали гневом, голос слегка дрожал, а лицо покрылось непривычной бледностью.
Не успел Ян и слова сказать, как Марчевский двинулся дальше, продолжая стучать тростью, и похоже старался всадить ее в землю. Ничего не понимая, ошеломленный Ян долго смотрел ему вслед.
Назавтра спозаранку он отправился в указанное Марчевским место. Там уже собрался народ. Слышался говор вполголоса. До Яна доносились непонятные фразы: «Гражданская казнь», «Предание гражданской смерти». В толпе он заметил Марчевского. Глаза у него полыхали гневом, лицо было мрачно. Ян уже начал пробираться к нему, когда вокруг раздались возбужденные голоса: «Везут!.. Везут!». Люди, как по команде , обернулись в одну сторону, вместе с ними и Ян.
Он увидел, как не спеша к площади подвигалась высокая темная колесница. На ней сидел небольшой человек в арестантской одежде, на груди его висела свежеструганная доска с какой-то черной надписью. Когда колесница приблизилась настолько, что можно было разглядеть изможденное, измученное лицо человека, сидевшего на ней, с Яном случилось то же, что бывало с ним не раз во сне. Привидится жуткое — хочется крикнуть во всю мочь, позвать на помощь, а голоса нет. Так и теперь. «Григорий Николаевич!» — собрался он закричать, что было силы, разглядев горящие темные глаза человека, но только простонал. На колеснице сидел... Потанин.
Сквозь завесу слез Ян видел, как Григория Николаевича ввели на эшафот, палач начал привязывать его руки к столбу. Ян задрожал, зажмурился. Прошло несколько минут жуткого безмолвия. Когда Ян раскрыл, замирая от страха, глаза, то увидел: Григорий Николаевич по-прежнему стоит привязанный к столбу. Неподалеку на возвышение взбирается чиновник. Вот он начал читать приговор суда. Как во сне из всего услышанного Ян уловил — Потанину вначале было определено пятнадцать лет каторги. Теперь — пять. Отправят его отсюда в Финляндию, в крепость Свеаборг.
С места гражданской казни он возвращался с Марчевским. Они долго шли молча. Первым заговорил Марчевский.
— Вчера... поздно вечером я узнал — казнить будут Потанина. Еще о том, что в Омске в тюрьме он просидел три года, лишенный свиданий, переписки. Оттого мы не знали ничего о нем... Рассказали мне, что Григорий Николаевич в Томске был не только просветителем. Он руководил там филиалом тайной русской организации «Земля и воля»... В этой варварской стране готовы четвертовать всякого, кто борется за волю ее! В ней возможен этот дикий фарс гражданской казни!.. — Он с маху всадил свою трость в землю и до самого дома не промолвил уже ни слова.
Ян целую неделю ходил, как потерянный. Но мысль не была парализована, она работала с невероятным усилием. За эти дни он будто переродился и отвердел душой. Нет! Он ни за что не останется в этой варварской стране, где так жестоко преследуют лучших ее людей! Сделает все, чтобы вернуться на родину. Дослужится до какого-нибудь чина, и тогда ему позволят уехать. О. том не однажды слышал от своих молодых соотечественников. Но прежде будет продолжать учиться. Потом отдаст всецело себя науке.
Прошел еще год. Ян Черский дослужился до чина фельдфебеля. Теперь он уже не был во власти того хама, который так долго донимал его своим гнусавым «Пади ты какой нежный!». Сам он обращался с подчиненными человечно, и они платили ему сердечной признательностью. На службе стало легче. Но неодолимы были препятствия на пути в науку. Ему никак нс удавалось закончить свою научную работу — недоставало теоретических знаний, нужных печатных трудов и широкого университетского образования. Он все чаще и нетерпеливее мечтал с товарищами о том, когда позволят им вернуться на родину.
Наступил июль 1869 года. Бывает иногда в тайге — на чистом небе в знойный день появится темно-сизое облако. На него внезапно полетят к земле молнии, раздастся трескучий оглушительный гром, и там, куда «ударят» молнии, валятся деревья, объятые пламенем. Так и в этот день 2 июля. Подобно тому облаку появился приказ по Омскому линейному стрелковому батальону. Согласно ему, всех ссыльных поляков исключили из списков военнослужащих, лишили их полученных званий и зачислили навечно в ссыльнополитических под надзор полиции, запретив навсегда выезд даже в Европейскую Россию. Иные не выдержали удара такой «громовой стрелы» и кончили самоубийством. Ян Черский выстоял, но заболел тяжелым нервным расстройством.
Едва он опомнился от него, как пришлось заботиться о хлебе насущном. Начал давать частные уроки французского языка, танцев, игры на фортепиано. Потом устроился по вольному найму в Омской контрольной палате. Лишь урывками мог теперь продолжать самообразование и поиски в природе. Но впереди не было уже никакого просвета.
Просвет появился снова, когда Ян начал лелеять мечту о поступлении в Казанский университет. Едва он выносил ее, как принялся писать прошение жандармскому начальству, под надзором которого находился теперь. Влил в него всю глубину горячих стремлений своих к свету знаний, всю страстную жажду их. Но вот пламенное излияние было закончено. Он понес его к жандармскому полковнику. Тот, уже немолодой, тучный, пока читал, разволновался до слез. И стал уверять — ничего в прошении менять не надо: оно написано так, что не тронет только каменное сердце. А русского человека обвинять в недостатке сердечности нельзя. Потому он уверен — прощение это будет принято. Со своей стороны с готовностью приложит к нему свидетельство, что проситель поведения отменного и предан науке.
Возвратившись от него, Ян чуть не обезумел от радости. Только сознание того, что должен завершить здесь исследования свои, заставили его вновь взяться за них. Вскоре он закончил описание того, что было найдено им в окрестностях Омска. Потом расхрабрился и послал свою работу в столичное общество естествоиспытателей природы. Подписался в ней — политический ссыльный Ян Черский.
Ожидание для него было непереносимо. Он то надеялся на успех, то переходил к отчаянию, не получая, ответа. Высчитывал, сколько времени рукопись могла идти до столицы, когда должен был получить ответ. Но ответа нет и нет!..
Вернулось прошение. На нем резолюция в одно слово «Нельзя». Ян прочел ее и окаменел. Сквозь влажную завесу, разом застлавшую ему глаза, он тупо смотрел на это «Нельзя». Оно все больше мутнело, расплывалось и скрылось совсем. Вместе с ним и надежда поступать в университет.
Не успел он прийти в себя от этого удара, последовал второй. Ему вернули его научную работу, даже не объяснив, почему? Тогда он не смог понять, что виной были слова в его подписи «политический ссыльный». Потому ее не стали даже просматривать.
Снова он начал как бы скользить на дно пропасти, из которой так долго и с таким упорством карабкался наверх. В это время дошло до него известие, что первый его учитель Александр Лаврентьевич Чекановский жив, здоров и работает в Сибирском отделе Всероссийского Императорского Географического общества в г. Иркутске. Опять перед Яном зажегся маяк и начал без удержу манить на восток. Однажды Ян снова расхрабрился и послал свою научную работу в Сибирский отдел Географического общества. Потом написал прошение на имя губернатора. Восточной Сибири.
Опять началось ожидание. От того, что ответят ему из Иркутска, зависела вся дальнейшая судьба его. Он нервничал, плохо спал. У него начались головные боли. Превозмогая их, заставлял себя по-прежнему заниматься самообразованием.
В это время в Иркутске не спеша разбиралось его прошение по инстанциям. Наступил апрель 1871 года. Генерал-губернатор получил отношение губернатора, в котором тот писал: «Проживающий в г. Омске политический ссыльный, исключенный из военного ведомства, Иван Черский обратился ко мне с просьбой о дозволении ему переехать на жительство в г. Иркутск, ввиду сотрудничества в Сибирском отделе Императорского Русского Географического общества. Не встречая со своей стороны препятствий к удовлетворению настоящего ходатайства Черского, я имею честь сообщить оное на усмотрение Вашего Высокопревосходительства и присовокупить, что проситель поведения хорошего и в настоящее время занимается по вольному найму в Омской контрольной палате».
Прошел месяц. Управляющий первым отделением Главного управления Восточной Сибири Сивере сделал запрос в Сибирский отдел Всероссийского Географического общества. «В какой степени может быть полезен Черский отделу, при разрешении ему жительства в г. Иркутске».
В конце мая Сиверсу ответил правитель дел Сибирского отдела Географического общества Усольцев. Он писал, что Черский представил отделу краткое сообщение о своих экскурсиях в окрестностях Омска. «Но в какой степени труд этот полезен и заслуживает внимания — определить еще невозможно. Равным образом нельзя заранее определить, насколько и чем именно Черский может быть полезен отделу.
А потому распорядительный комитет полагает, что Черский мог бы приехать в Иркутск беспрепятственно, не рассчитывая, впрочем, на положительное получение пособия от отдела к его существованию; труды же его, если будут уважительны, всегда примутся отделом при известном вознаграждении».
С этих слов Усольцева, председательствующий в Совете главного управления Восточной Сибири генерал-лейтенант Шелашников 4 июля того же года и ответил Черскому. Ян обрадовался его письму несказанно. Но ему еще долго пришлось ждать официального разрешения.
Была уже в разгаре сибирская зима с сорокаградусными морозами, когда Ян получил разрешение на выезд в Иркутск. Ему было невмочь ждать наступления весны. Продал все, без чего можно обойтись, чтобы собрать немного денег хотя бы на первый случай. Оставил себе пимы, шапку, приобрел тулуп и двинулся в путь. Только ему известно, как преодолел несколько тысяч верст, пешком, то с попутчиками, лишь изредка нанимая подводу; как непереносимо страдал от холода и голода. Словно редкую драгоценность он бережно нес с собой коллекцию раковин, собранных около Омска.
В Иркутске его по-братски приветил Александр Чекановский. Он вызвал из Култука своего друга. Бенедикта Дыбовского, тоже политического ссыльного, занятого исследованием Байкала. Тот приехал незамедлительно. Устроил Яна на первое время в комнате у Генриха Воля, сотрудника отдела Географического общества, в котором ютился сам, когда бывал в городе. Потом, не мешкая, отправился к своим знакомым ссыльным соотечественникам, чтобы собрать среди них для Черского хотя бы немного денег. Когда он, очень довольный успехом этого дела, вернулся и предложил помощь Яну, тот страшно разволновался и наотрез отказался от нее. Бенедикт Иванович был озадачен.
— Но как вы покажетесь в отделе Географического общества в такой ветхой одежде? — воскликнул он, — Вам прежде всего необходимо справить белье, приличный костюм.
Этим доводом Ян был сражен и принял не только деньги, но также баранью шубу, которую Дыбовскнй подарил ему со своего плеча.
Вечером того дня Бенедикт Иванович долго беседовал с ним. Он был просто покорен беззаветной любовью Черского к познаниям, к научным поискам и его героическим походам ради них из Омска в Иркутск. Он хорошо понимал его умом и сердцем: сам был по натуре таким же истовым следопытом. С этого первого знакомства началась их редкая дружба навсегда, хотя разница в возрастах была не малая Дыбовскому было уже под сорок, а Черскому весной того года исполнилось двадцать пять.
Вскоре Ян устроился в пригороде за Ангарой в семье крестьянина, который предоставил ему угол и стол за то, чтобы он обучал его детей грамоте. Новосел был сыт, в тепле и мог предаваться тому, ради чего очутился в Иркутске. Настал для него день, когда с душевным трепетом, как в храм, входил он следом за Александром Лаврентьевичем Чекановским в просторный зал музея отдела Географического общества на втором этаже. В глаза ему ударили два встреченных потока света. Они лились из больших окон на двух противоположных стенах — западной и восточной. Александр Лаврентьевич принялся показывать ему сокровища, хранившиеся здесь: в шкафах — меховые одежды всех северных народностей Азии, богатейшие минералогические коллекции, которые он приводил в порядок.
Ян зачарованно рассматривал великолепные друзы хрусталя, розоватые просвечивающие кристаллы аметиста, синие куски ляпис-лазури, темно-зеленые полупрозрачные плитки нефрита, глыбы мрамора, голубоватого, снежно-белого, темно-розового с оранжевым оттенком. Все это, по словам Чекановского, было с побережий Байкала. Но темные, невзрачные образцы кристаллических пород, на которые Ян вначале не обратил внимания, потрясли его воображение, когда услышал, что им не меньше миллиарда лет и что они тоже с берегов Байкала.
Потом Александр Лаврентьевич показал в кладовой сваленные в беспорядке кости. Яна поразила величина их.
— Кости допотопных животных, — сказал Чекановский.
— Каких? — само собой нетерпеливо вырвалось у Яна. Он уже знал из книг о мамонтах, носорогах и других гигантских вымерших млекопитающих.
— Неизвестно. Это груда так и значится в музее — кости допотопных. Ее необходимо разобрать, определить, какому животному принадлежала каждая кость, описать их научно. Но взяться за это некому. И лежит она без всякой пользы для науки.
Ян слушал и разглядывал огромные кости «допотопных», как загипнотизированный. Воображение уносило его прочь отсюда и рисовало то, о чем когда-то читал. Ему уже виделись целые стада исчезнувших е лица земли гигантов. Их нет, но остались кости. Эта — несомненно, бивень мамонта. Глядя на него, Ян совершенно явственно представил себе обладателя этого бивня. Он восторженно разулыбался, как будто на его глазах свершилось чудо. Александр Лаврентьевич сбоку наблюдал за ним и тоже чему-то радовался.
В тот же день Ян принес ему свою коллекцию раковин — для отдела Географического общества. Александр Лаврентьевич загоревшимися глазами рассматривал ее, расспрашивал, где каждая из раковин найдена, каковы были те осадочные породы, в которых они встретились. Ян обстоятельно рассказал, а потом несмело высказал и свои предположения. Александр Лаврентьевич с нескрываемым удивлением произнес:
— Вы считаете, что наносы пресноводные!?
— Мне так показалось, — смутившись, ответил Ян.
— И мне тоже, — улыбнулся Александр Лаврентьевич. — Но известно ли вам, что весь ученый мир с благословления Гумбольдта уверен — в тех местах они морские. Сам Гумбольдт... — Тут он растолковал своему собеседнику суть теории прославленного ученого. Ян простосердечно признался, что узнал о ней впервые и смутился вконец.
— Надо вашу коллекцию показать знатоку, кому-нибудь в Академии наук.
Тут необходимо забежать вперед и рассказать, что было дальше. Прошло немало времени. Увлеченный новыми поисками, Ян Черский уже почти не вспоминал о своих омских находках. Однажды он получил бандероль и письмо из столицы от академика Миддендорфа и немало подивился тому. А когда начал читать письмо... Известный исследователь Сибири писал ему, что, ознакомившись с его коллекцией раковин, отослал их в Берлин... «для очистки совести узнать еще мнение профессора из Берлина. Твердо убежден, что ничего нового он не внесет! А тем временем как свидетельство Признания и моей особой признательности прошу принять посылку новых книг на разных языках, которую высылаю одновременно на Ваш адрес. И не сомневаюсь, что в будущем еще большая слава озарит Ваше имя». Несколько дней сряду Ян Черский жил в каком-то радужном тумане и был счастлив, как еще ни разу в жизни. Его предположения оправдались — осадочные породы вокруг Омска оказались пресноводными. Это подтвердил академик Миддендорф и, вероятно, подтвердит профессор Мартенс из Берлина.
Теперь надо вернуться к тому времени, когда Черский, приехав в Иркутск, стал постоянно бывать в отделе Географического общества. Он много читал там, сидя в библиотеке, помогал Чекановскому. Тот поручал ему несложную работу — вначале готовить этикетки. Сам он был занят обработкой образцов пород, собранных им на побережье Байкала, в долине Иркута и в Восточном Саяне.
Яна интересовало все: от названия пород до их состава и условий образования. Он то и дело донимал своего учителя расспросами. Александр Лаврентьевич, ответив на них, часто пускался с увлечением рисовать картины далекого прошлого тех мест, которые успел изучить здесь, в горной южной части Иркутской губернии. После таких бесед Ян нередко созерцал какой-нибудь невзрачный с виду камень, как будто смотрел в волшебное, зеркало, в котором виделось ему дух захватывающее.
Ну что особенного с виду в шершавом кирпично-красном образце «балаганской юры»?.. Так окрестил эту породу Чекановский. Он первым нашел ее. А Черскому с его неуемным воображением виделось уже юрское море, бушевавшее много миллионов лет назад в тех местах, где Чекановский недавно нашел эти образцы. В открытой части моря, на дне его, копились красные осадки, а через миллионы лет из них получилась эта «балаганская юра», найденная около Балаганска. В прибрежье юрского моря, неподалеку от того места, где теперь Иркутск, рождались угленосные песчаники серого, буроватого или желтого цвета.
Из книг Ян давно знал, что юрский период сравнительно еще не древний в истории земли. Куда более старшего возраста — девонский. А силурийский — это уже один из древнейших. В сборах Чекановского были красные силурийские песчаники, найденные им в долинах Иркута, Олхи, Малай, Манзурки, в хребте Онотском на Байкале. До реки Олхи от Иркутска несколько десятков верст, Иркут совсем рядом.
А сотни миллионов лет назад в этих местах... В воображении Ян сделал скачок в эту головокружительную даль времен, и привиделось ему древнейшее силурийское море, на дне которого рождались эти красочные песчаники. Так изо дня в день умом и воображением он постигал тайны жизни далекого прошлого земли, пользуясь то книгами, то живым источником знаний — увлекающим его рассказами Александра Чекановского об открытиях, сделанных им здесь — на юге Иркутской губернии.
Они успели неприметно сблизиться, подружиться, и Александр Лаврентьевич вел беседы с Яном Черским, как с равным. Он не переставал изумляться его памяти, совершенно неутолимой любознательности, редкой способности подхватывать любую мысль собеседника на лету и безудержному трудолюбию.
Прошло не так уж много времени. Однажды Александр Лаврентьевич вручил Яну рекомендательное письмо к правителю дел Сибирского отдела Географического общества подполковнику Усольцеву. Не успел Ян прийти в себя от безмерного волнения, с которым нес письмо, вручал его и вел недолгий разговор с самим правителем дел, как вскоре же был избран на должность консерватора музея отдела, а также библиотекаря. Правда, жалованье было назначено мизерное, но как-нибудь прожить можно было и на него.
Ян переговорил со сторожем музея, занимавшим в нижнем этаже две небольших комнаты, и тот уступил ему одну. Теперь можно было перебраться сюда. Непередаваемо счастливый Ян дал себе клятвенное обещание: с этого времени будет работать по шестнадцать часов в сутки, а лишь семь уделять сну и только час на еду и отдых. Вскоре у него выработалась привычка к такому распорядку жизни, и сохранилась ока на многие годы.
Хозяин новой квартиры, благообразный старик с пышной белой бородкой, спросил, как звать-величать его.
— Ян Доминикович, — ответил Черский.
Старик как бы ненароком потрогал на груди все солдатские медали и кресты, с которыми никогда не расставался, и, подумав, с важным видом произнес:
— Об отчество твое, барин, язык обломаешь. Мы уж по-простому, по-русски будем тебя звать: Иван Дементьевич.
Черский обрадовался столь простому выходу из положения. Уже давно заметил, что отчество его трудно сибирякам для произношения. С этого дня он всех просил называть его «по-русски».
Поселившись у сторожа, он с самого раннего утра до позднего вечера просиживал в музее. Неутомимо приводил в порядок его коллекции, изучал минералогические под руководством Чекановского. Пока неразобранными были кости «допотопных животных». Однажды Александр Лаврентьевич посоветовал ему заняться научной обработкой их. Столь лестным предложением он — самоучка был обрадован без меры, но и смущен не меньше, справится ли с такой работой?.. Но Александр Лаврентьевич обещал помочь, снабдить нужными пособиями.
Настал день, так памятный ему, когда Иван Дементьевич взялся обрабатывать кости неизвестных ископаемых животных. Он вновь испытывал то особое, непередаваемое волнение, знакомое лишь исследователям. Работа захватила его, понесла, как стремительный горный поток. Тут сами собой возникали темы научных статей. К весне он уже написал одну из них. И в то же время принялся изучать зубную систему современных млекопитающих, чтобы сравнить с ней древнюю и проследить, как шло изменение ее в разных группах.
С наступлением весны его неудержимо потянуло в природу. Захотелось самому поискать остатки вымерших. По слухам, они встречались в окрестностях Иркутска. Вооружившись лопатой, он подолгу пропадал на берегах Иркута, Ангары и Ушаковки. Надежды не обманули его. Одна за другой находки шли ему в руки. Он радовался им, как ребенок.
Как-то услышал в Знаменском предместье, что за Ушаковкой начали закладывать фундамент под военный госпиталь и нашли кости неизвестных животных. Он помчался туда, разыскал Бельцова, со слов которого стало известно о находке. Тот показал место, где обнаружили кости. Надолго оно приковало к себе Ивана Дементьевича. Поначалу он искал ископаемые остатки в траншеях, которые готовились под фундамент. Потом его осенило: рыть подобные неподалеку, но глубже обнажать нижележащие слои и в них вести поиск. Не ведая о том, он первым применил этот метод обнажений при раскопках. До изнеможения орудовал то лопатой, то киркой, поражая работавших рядом землекопов своей неутомимостью.
Немало дивились они и тому, с какой радостью показывал он извлеченные пожелтевшие кости, нередко обожженные или уже полуистлевшие. Невольно трогало их, как он умолял не испортить ископаемые остатки, если встретятся им во время работы. Мало-помалу они тоже заражались его азартом и начинали с. любопытством приглядываться в траншеях ко всему, что напоминало эти самые «остатки», как называл их молодой ученый.
Сам он уже начинал догадываться, что раскапывает не «кладбище» вымерших животных, а стоянку первобытных людей. Они питались мясом тех животных, кости которых попадали ему здесь, потому последние нередко обожжены. В это время судьба послала ему преданного помощника Николая Ивановича Витковского, бывшего его начальника в повстанческом отряде.
Впервые встретился с ним в Иркутске однажды весной на набережной и сразу не узнал его. Витковский очень изменился, постарел. Но его очень приметный «утиный» нос и простодушная улыбка заставила Яна замедлить шаг.
— Посторонись, барин! — весело крикнул Витковский. Услышав его зычный; сочный голос, Ян узнал своего бывшего боевого начальника и бросился к нему. То-то была встреча!.. Николай Иванович рассказал, как отбыл несколько лет каторги, а теперь... развозит воду по городу, работая поденщиком на чужой лошади, и тем поддерживал свое существование. А еще о том, что самоучкой постигал науки и особенно увлекся палеонтологией. С того раза они часто стали видеться. Так, вновь сошлись их пути.
Теперь он с увлечением помогал Черскому раскапывать стоянку в Знаменском предместье. До самой осени они вели поиски. А всю зиму Николай Иванович наведывался в Сибирский отдел Географического общества и помогал Ивану Дементьевичу разбирать груду костей «допотопных животных». За этим занятием застала их весна. Едва оттаяла почва, они вновь принялись за раскопки в Знаменском предместье.
Иван Дементьевич был вне себя от радости, когда однажды попали ему на изрядной глубине небольшие каменные ножи, а рядом с ними костяные фигурки животных и браслеты из бивня мамонта очень тонкой работы. Вернувшись домой, сколько он не искал в библиотеке музея в книгах и журналах хотя бы краткого сообщения о чем-либо подобном, но не находил. Неужели он первым в России сделал такое открытие? Верилось и не верилось. Помчался домой к Витковскому. Показал ему находки. Тот пришел в восторг от них.
Безмерно счастлив был Иван Дементьевич своим открытием. Но вскоре радость его была отравлена общим недоверием даже в среде ученых. А в светском обществе города к его находкам отнеслись с откровенным пренебрежением, кое-кто потешался даже. И никто не верил, что художественные изделия из мамонтовой кости могли быть сделаны первобытными людьми, да еще столь примитивными орудиями, как найденные тут же каменные ножи.
От всех этих толков Иван Дементьевич начал уже приходить в отчаяние. Как убедить людей в том, во что сам верила Словами было невозможно! Он мучительно искал выхода и нашел. Запасся тем же адским терпением, каким обладал первобытный мастер, вооружился его ножом, взял кусок бивня мамонта и принялся вырезать из него браслет. Этому занятию он предавался по вечерам, поражая друзей своей нечеловеческой настойчивостью. Прошло довольно много времени. Иван Дементьевич добился своего — изготовил браслет, который невозможно было отличить от ископаемых из Знаменского предместья. Теперь уж поневоле все поверили ему.
А восемьдесят пять лет спустя о его находках в Знаменском предместье палеонтолог И. В. Арембовский написал такие строки: «Это был первый по времени открытия... археологический памятник палеолитического периода на территории нашей страны... Приходится только удивляться, как при материальных недостатках и отсутствии литературы, с одной стороны, и непонимании власть имущих, с другой, Черский так много мог сделать в столь неблагоприятной обстановке, казалось бы, совсем не располагающей к научно-исследовательской работе.
Невольно преисполняешься глубокого уважения к ясному, мощному уму и великому мужеству человека, который на заре развития русской археологии и притом в крайне неблагоприятной обстановке мог проводить такие исследования».
Едва Иван Дементьевич закончил свои поиски в Знаменском предместье, как забрезжила надежда отправиться в путешествие на юг Иркутской губернии, в гористые живописнейшие места ее. О них он уже давно мечтал, слушая рассказы Александра Лаврентьевича. В это время сам Чекановский готовился к дальней экспедиции на Крайний Север и все чаще поговаривал, что незаконченные свои исследования в Восточном Саяне поручит ему, Черскому. В наступившем 1873 году он начал готовить его к ним, познакомив со своими отчетами, черновыми заметками и дневниками. К этому времени Иван Дементьевич стал известен как серьезный исследователь, автор нескольких напечатанных научных работ.
Глава 4
Начиналась весна 1873 года. Черский вместе с Гартунтом, с тем самым, с которым он десять лет назад встретился на этапе, отправился в свою первую научную экспедицию. На вьючных лошадях добрались до Тункинской долины. Отсюда двинулись в разные стороны. Гартунг должен был собирать растения, насекомых и минералы. Ян Черский намеревался исследовать восточную часть южного склона Тункинского хребта.
Иван Дементьевич приехал в село Тунку перед закатом. Красота ее величественных гористых окрестностей поразила его — ничего подобного он не видывал. Насладившись вволю созерцанием ее, он отправился по следу искать ночлег и проводников. Удалось нанять коренных таежников Кобелевых, Луку и сына его Фрола. Они неторопливы, скупы на слова, но добродушно приветливы.
Чтобы не терять времени, назавтра же Иван Дементьевич начал с проводниками готовиться к неизвестному ему пути. Первым препятствием на нем оказалась река Тунка. Она разбушевалась после ливневых дождей так, что и думать было нечего брести через нее. Но вода быстро пошла на убыль, и через несколько дней вьючный караван на девяти лошадей вступил в ее крутившиеся валы. Когда он очутился на противоположном берегу. Лука Кобелев снял картуз, истово перекрестился, обратившись к Черскому, сказал:
— Нет, барин, не мы перебродили, а бог уж нас перенес!
В тот день Иван Дементьевич записал в дневнике: «Ужасный брод, хотя вода сбыла при нас на 1½ метра, тем не менее вода замочила вьюки, наполнила сапоги и хлестала на седла. Камни на дне составляли главную опасность».
Дальше ехали друг за другом по узкой тропе. Иных дорог здесь не было. Тропинка то взбегала на горные кручи, нередко по краю обрыва над рекой, то спускалась вниз с головокружительной высоты. Погода опять испортилась, начались проливные дожди, и все горные реки «вздулись». Они неслись бешеными потоками в узких ущелистых долинах, иногда стиснутых отвесными утесами, которые проводники называли щеками.
Через несколько дней Иван Дементьевич записал в дневнике: «(июня 25-го) В 5 ч. остановились ночевать, опасаясь предстоящего брода. Прошедший был самый опасный. Моя лошадь упала и только благодаря выступающему камню противилась быстроте течения». День спустя снова: «Брод был самый глубокий. Я падал, но удержался».
Они переходили из одной долины в другую, по которым вела их тропа. Путь преградила река Китой. Уж и не чаяли, как перебраться через нее, столь стремительную. Когда перебрели, проводник Лука обнажил голову, перекрестился, поклонился реке и сказал с каким-то суеверным почтением:
— Ну, батюшка Китой, спасибо тебе! — Потом обернулся к Черскому и с добродушно ласковой улыбкой проговорил: — А ты, батюшка, как твой конь-то оступился, шибко, шибко побледнел.
— Как не побледнеть — беда ведь! — отвечал Иван Дементьевич, уже придя в себя от пережитого. Он чуть не слетел с коня на самой стремнине.
Начали переваливать через Китайский хребет по реке Китойкину. Крутизна подъемов и спусков здесь нередко была неописуемой. Лошади с трудом передвигались то по грязи, то по голому щебню, то по каменистым россыпям. Они без конца спотыкались, иногда падали. Прошла неделя с того дня, как был преодолен брод, на котором Иван Дементьевич еле удержался в седле. Теперь поднимались над обрывом около речки, несущейся по ущелью. Лошадей вели в поводу. Неожиданно две из них упали и слетели на десяток метров вниз. Следом сорвалась третья, трижды кувыркнулась через голову, ее ноги промелькнули в воздухе. Она скатилась и застряла около сухой сваленной лиственницы, пропоров себе плечи и живот. Всю облитую кровью, ее едва ввели обратно на гору. На атом переходе весь груз пришлось путешественникам переносить на себе.
Но самой неодолимой бедой на всем пути было нескончаемое ненастье. Дождь лил целыми ночами или сутками. Так и в эту ночь, проведенную на горе третьего июля. Иван Дементьевич пометил в дневнике: «От беспрестанного дождя все начало гнить, начиная с упряжки, вонь пошла от всех кожаных вещей, тулупов, и прочего. В дорогу 11 ч. 10 м. Подъем опять. Остановка».
Подошли к реке Оспе-страшной, по словам проводников. Она; стремглав, неслась между отвесными скалами. Неподалеку от того места, где остановился караван, виднелась небольшая коса (карга). К ней с берега круто сбегала тропинка. Здесь был переход через реку. Но сразу за ним начинался крутой поворот в утесах. Вода прибывала. «Бродить немыслимо. Стали ночевать и осматривать место. Вода теснится к правому утесу, пенится и шумит ужасно», — наскоро записывал Иван Дементьевич.
Назавтра начали ломать головы, как же перебраться на тот берег. Местные жители никогда не рисковали переходить эту реку в ущелистых местах летом. В них переправлялись только осенью, когда спадала вода. Теперь после дождей она поднялась метра на два. Первым нашелся Фрол: он предложил перебросить бечеву на противоположный берег, прикрепить к ней плот и на таком пароме перевезти вещи и людей.
Сделали плот, закрепили на косе, привязали к нему один конец бечевы, другой к лошади. Фрол взял ее повод, сам уселся на другую, крикнул «Благословляйте!» и ринулся в бушующий поток. Он рассчитывал проплыть у подножия утеса, где, казалось, течение намного тише, сразу за ним выбраться на берег и не угодить на ту головокружительную быстрину, что начиналась ниже, между отвесных каменных стен.
Оставшиеся на берегу замерли, не спуская глаз с лошадей и всадника. Отец Фрола не мог сдержать слез и вытирал их крепко сжатым кулаком. Под утесом кони вдруг встали на дыбы и исчезли в темной пучине вместе с всадником. Прошла жуткая минута. Все на берегу вздохнули так, будто сами вынырнули со дна, когда над пенящимися волнами показалась голова Фрола, а затем и лошадей. Свободной лошади удалось выкарабкаться на противоположный берег. Фрол на своем коне вынужден был повернуть назад. Но едва выбрался на сушу, как решил перебраться на плоту. На самом быстром месте тот застрял на выступавшем камне. Снова пришлось вернуться обратно.
Тут сообща порешили, что назавтра он вместе с Иваном Дементьевичем отправится вниз по реке искать пешего брода, чтобы перейти на другой берег и освободить запутавшуюся там в бечеве лошадь. Пошли они с восходом солнца. Перебрели три безымянных речки-протоки Оспы, в самых их устьях. Первые две мчались в ущельях между отвесных утесов страшной высоты. Третья низвергалась водопадом с обрыва метров в шестнадцать. Первобытно дикие, но сказочно красивые места!.. Несмотря на спешку, Иван Дементьевич, как на всем предыдущем пути, беспрестанно примечал, из каких пород сложены стены ущелий, собирал образцы пород.
Наконец-то нашли они место, где можно было перебрести Оспу. Перебравшись, не удержались — немного спустились вниз по реке по противоположному берегу, чтобы получше рассмотреть, как она снова вступает в щеки. В них обрывалась с высоты метров в двадцать и затем изливалась в узкую щель между утесами шириной всего метров шесть. Налюбовавшись на бесподобное зрелище, они повернули обратно. Шли по узкой долине. В вершине ее поднимались гольцы с острыми пиками.
За одним из поворотов увидели на противоположном берегу свой караван. Лука и рабочие радостно замахали руками, кричали что-то, но голоса их заглушались ревом реки. Фрол быстро распутал лошадь, Иван Дементьевич закрепил конец бечевы за ствол дерева. Он решил вплавь добраться до косы на том берегу, держась за бечеву. Все обошлось благополучно. За ним- переплыл и Фрол. Тогда остальные начали с берега перебираться тоже на эту косу, отделенную от него небольшой шиверой, Фрол перенес на нее все вьюки с девяти лошадей. Лука с рабочими отремонтировал плот и подогнал к косе. Иван Дементьевич вместе со всеми принялся нагружать его, потом погнал к противоположному берегу.
Работа пошла азартная. Проводники нагружали плот на косе, рабочие разгружали его на противоположном берегу, а Иван Дементьевич самоотверженно гонял плот туда и обратно. Он торопился поскорее перебросить весь экспедиционный груз. Сапоги были наполнены холодной водой, ноги совершенно занемели. Лука предложил ему передохнуть, когда погрузили последние вещи, но Иван Дементьевич отмахнулся н двинулся с плотом по реке. Глядя ему вслед, старик многозначительно толкнул сына в бок и с почтительным восхищением сказал:
— Гляди-ко! Наш Иван Дементьевич-то! В двадцать пятый раз пошел!..
— Вроде и не барин! — в тон ему произнес Фрол, Он уже был покорен тем бесстрашием, выдержкой Черского, которым обладал сам и готов был теперь лезть за ним хоть в чертово пекло ради «камешков».
Всю дорогу Иван Дементьевич без устали собирал их. Иногда вечерами у костра с увлечением рассказывал спутникам, что они «обозначают». «Гляди-ко! — изумленно восклицал Фрол. Мы тут век живем, топчем их, на горы смотрим, а вроде слепые». Молодой ученый казался ему выходцем из иного мира. Вместе с отцом он в душе был без меры благодарен ему за то, что не брезговал ими, простыми людьми — ел из одного котелка, спал вместе, укрывшись одним тулупом. Разговаривал тоже запросто, как с ровней, и душевно.
В этот вечер Иван Дементьевич, как о самом обычном, записал: «Я таскал плот, а те нагружали и вытаскивали вещи. Плот переправляли до 25 раз». После ужина он был особенно оживлен, говорлив. Много шутил. Остальным было и того веселей, отвечали ему заливистым простодушным смехом. Наконец усталость взяла свое. Едва улеглись — разом всех сморил непробудный сон.
Назавтра, как всегда, поднялись, чуть забрезжил рассвет. Наскоро позавтракали» заседлали лошадей, навьючили их и двинулись к верховью Оспы. Иван Дементьевич пристально разглядывал ее ущелистую долину, как все прежние, подобные ей. Такие долины притягивали магнитом. Именно в них ему больше всего открывалось то, что одержимо искал здесь. Стремительные водные потоки миллионы лет разрезали, как ножом, те породы, из которых слагались Китойский и Тункинский хребты. В обрывах ущелий, будто в разъятом слоеном пироге, четко выступали пласты пород. Хорошо прослеживалось, куда они наклонены. Лежат ли спокойно друг на друге или смяты в складки. Кое-где эти складки были разорваны, и одна половина их приподнята, а другая опущена.
Изучая их, он как бы читал увлекательнейшую древнюю летопись. Но в ней нередко обнаруживал пропавшие листы или даже целые пачки их. Вот одну из них он с беспримерным упорством отыскал теперь. Подъем к вершине Оспы оказался труднейшим. Но достигли ее и вполне благополучно. Остановились у подножия Оспинского гольца. День был тихий, ясный. На голец Иван Дементьевич начал всходить с одним Фролом.
Когда наконец-то добрались до его вершины, Черский был ослеплен и потрясен открывшимся перед ним великолепием картины. Он как бы вознесся над миром, первозданно прекрасным и могучим. Этот мир обступал со всех сторон, сверкая белоснежными макушкам гольцов. Любуясь им, Иван Дементьевич в то же время размышлял о том, что вершины гольцов покрыты, видимо, вечными снегами, но вряд ли под ними скрыты ледники. Куда только не доставал глаз его, были горы, блестевшие между ними чаши голубых озер, темные глубокие долины рек п небосвод, как бы струившийся изумительной нежной синевой. И солнце на нем не сияло спокойно, а трепетно горело ослепительным гигантским алмазом. Впервые Восточный Саян предстал перед бесстрашным путешественником во всем великолепии своем.
Но вот взглядом исследователя уловил в нем такое, что и синева неба, и блеск вершин, даже само солнце начали как бы тускнеть и постепенно исчезать из поля зрения. Внимание Ивана Дементьевича приковали вершины соседних, более низких гольцов. На них он все явственнее различал темные шапки, надвинутые на их макушки. Уже мелькнула догадка, что это могло быть. Он достал анероид, измерил высоту Оспинского гольца — она оказалась намного выше той, которую указывали в своих трудах сибирские ученые. А еще раньше в Тункинском хребте установил, что высота его вершин тоже больше на целую треть против известной. Поэтому он начал поскорее спускаться вниз, чтобы побывать на соседних гольцах, не мешкая. По пути опять подбирал обломки пород, заинтересовавшие его.
Из ущелистых долин, как из паровых котлов, начали подниматься клубы плотного тумана. Они ползли вверх и заволакивали понемногу все вокруг белой мглой. Исчезли, как по волшебству, синее небо, сверкающие; гольцы. Быстро похолодало. Потом заморосил дождь и следом пошел мелкий снег. Совсем недавно река Оспа подарила путешественнику такое, что его начало лихорадить. А тут замаячило перед исследователем новое открытие.
На Оспе Иван Дементьевич встретил выходы породы, которую называют конгломератом. Образуется она только на дне водоемов, в их прибрежьях. А здесь покоилась в поднебесье. За этой породой он и намеревался пуститься в погоню через Китойский хребет. И надо было поскорее выбираться к жилью сойотов — кончались продукты.
Но он уже не мог покинуть здешних мест, не разгадав тайны темных шапок на гольцах. На следующий голец взбирались с Фролом еще с большим, трудом — ноги скользили по влажному склону от моросящей слякоти. Удалось ему обследовать еще несколько вершин. Сомнений уже не было: темные шапки на них были из давным-давно застывшей лавы. Солнце теперь то выглядывало из-за облаков, то вновь пряталось за ними. Но Ивану Дементьевичу уже удалось рааглядеть, что основания лавовых шапок лежали на одном уровне у всех гольцов. Тут мысль его и воображение лихорадочно заработали.
Вскоре караван двинулся дальше, вторично переваливая через Китойский хребет. Лошади шли медленно, поднимаясь по крутой тропе. Крапал дождь. Молодой ученый, сидя в седле, так был погружен в думы, что не замечал, как ехавший впереди Фрол не однажды оглядывался на него с почтительным удивлением. В воображении Ивана Дементьевича одновременно вставали две картины тех мест, которые он увидел с Оспинского гольца. Одна — что была перед глазами, другая — древняя, исчезнувшая навсегда с лица земли. Он мысленно как бы отрезал виденное на уровне подножия лавовых шапок, и тогда рисовался ему древний ландшафт — высокое плоскогорье, залитое потоками лавы. Остатки ее покоились теперь на вершинах гольцов. А сами они вознеслись могучими подземными силами. Но едва начали действовать эти силы, как вступили противоположные им — ветер, текущие воды, солнце. Они разрыхляли породы, потоки воды сносили продукты разрушения вниз, протачивая в горах все эти ущелья, устилая их глыбами, галькой, песком и глиной. Весь нынешний ландшафт рожден ими. «Могучая это была сила и велики ее разрушения!» — мысленно говорил себе Иван Дементьевич.
Караван по реке Саган-Хару начал спускаться к Китою. Едва вступили в долину первой реки, как встретили пласты того же конгломерата, что на Оспе, но еще более мощные. Они были наклонены на юг, на Оспе падали на север. Теперь молодой следопыт совсем потерял покой, почуяв, что стоит в преддверии захватывающего открытия. Как писал потом в отчете, эти падения пластов конгломерата в противоположные стороны на Китойском хребте заставили его обратить особое внимание «на синклинальную линию» обоих хребтов: Китойского и Тункинского в надежде отыскать несогласное напластование. То самое, когда пласты разорваны и одна их часть лежит выше другой. А синклиналь — это гигантская складка, вдавленная своим «горбом» у земли и с высоко поднятыми краями. (Крыльями).
Линия здешней синклинали «намекала» ему, что «горб» ее — это Тункинская долина, а Китойский и Тункинскнй хребты — высоко вздернутые кверху крыльями.
Чтобы отыскать несогласное напластование, необходимо было вновь вернуться на Тункинский хребет. Спустились к Китою. Здесь, в долине его, Иван Дементьевич оставил уставший обоз и с одним Фролом пустился на вершины Тункинских альп. Изучив то, что интересовало его, вновь посетил Тункинскую долину. В ней исследовал потоки лав, замеченные еще по пут из Иркутска.
В этой долине встретился с Николаем Гартунгом и вместе с ним вернулся к оставленному каравану. Теперь все вместе двинулись на перевал через Китойский хребет — это уже в третий раз и все в разных местах. Потом опять вернулись на Тункинский и пересекли его.
За время путешествия Иван Дементьевич не однажды вносил исправления на карту: то река текла не в ту сторону, как Архут, то название одной было присвоено другой, или впадали они не в то место, что указывалось на карте.
Но то, ради чего он столько упорно, не щадя себя и спутников, разыскивал в Тункинском и Китойских хребтах, в руки не давалось. А нашел-таки! На реке Хонгодоле, в Тункинских горах. Здесь целый мыс слюдяного сланца с северным падением вдавался в известняк южного склона Китойского хребта. Тот покрывал его несогласно и сопровождался конгломератом с обломками тункинских пород. Вот когда заработали мысль и воображение ученого! Он снова «читал» древнюю летопись этих мест.
Вернувшись в Иркутск, он первым делом взялся писать краткий отчет о своей экспедиции и составлять геологическую карту. Весь пройденный путь вставал перед ого глазами, «...наконец, крутизна подъемов и спусков, доходящая иногда до невероятия и заставлявшая нас два раза переносить вьюки девяти лошадей на своих плечах, — все это чрезвычайно замедляло наше передвижение... Но главным бедствием было ненастье, преследовавшее нас все время поездки с незначительными антрактами». Это ненастье и бесчисленные переправы через горные холодные реки оставили в ней роковой след навсегда. Он заболел жесточайшим ревматизмом. Нестерпимо мозжило ноги, руки, сердце. Еле превозмогая боль, он писал свой отчет.
Упомянув о находке несогласного залегания пластов пород, заключил; «Факт этот нельзя не считать лучшим из геологических результатов поездки, так как он позволяет заключить самым положительнейшим образом об относительной древности обоих поднятий, доказывая неоспоримо, что отложения пород, приподнявших ныне Китойский хребет, совершилось гораздо позже поднятия Тункинских гольцов».
Описывая дальше, он как бы видел то, что происходило в глубине геологических времен. Туикинский хребет был тогда прибрежной цепью гор, вероятнее всего мысом или даже островом того водоема, в котором отлагались китойские конгломераты как продукт разрушения береговых утесов. Потом, миллионы лег спустя, начало подниматься дно водоема, и на его месте параллельно Тункинскому возник Китойский хребет.
Но в каком геологическом периоде это произошло? Иван Дементьевич уже немало раздумывал о том, сопоставляя со своими все прежние находки геологов, правда, совсем малочисленными и, в основном-то, Чекановского. Китойские конгломераты по строению напоминали иркутские песчаники юрского периода. Последние были найдены Чекановским и неподалеку от Оспы — в долине реки Белой и ее притоков. Как будто сам напрашивался вывод: китойские конгломераты образовались одновременно с иркутскими песчаниками в юрское время, а тункинские — более древние, в девонском периоде. Пока ему, молодому исследователю, недоставало опыта, чтобы решить столь трудный вопрос. Лишь годы спустя, когда накопился в его руках огромный материал наблюдений на Байкале и за ним на Востоке, он отнес эти породы к древнейшим докембрийским.
Продолжая писать отчет, Иван Дементьевич особо выделил: «Открытое ныне несогласное напластование пород обличает присутствие материка среди покрывавшего губернию юрского моря, рождает потребность восстановить прежние его границы».
Но легко сказать — восстановить! Он-то понимал, каких усилий это будет стоить. На своей геологической карте собирался обозначить уже часть северной береговой линии, как он считал, юрского моря, которую ему удалось установить. Но, чтобы проследить, куда она идет на восток, надо было основательно изучить, как располагаются иркутские песчаники по отношению к известнякам западного Приангарья. Для определения южной границы необходимо было дополнительно исследовать Тункинский и Китойский хребты. Наконец, для определения западной границы этого моря предстояло исследовать отношение Восточного Саяна к загадочной горной цепи Тувы Ергик-Таргак-Тайга, соединенной с Алтаем. Вот так раздвинулись для него рамки исследований на будущее.
Заканчивая отчет, упомянул, что в долинах всех встреченных рек нашел разнообразные наносы. Древность их в долине Иркута смог определить по остаткам вымерших животных, о которых собирался сообщить в подробном отчете и коснуться в нем вопроса оледенения исследованных мест. Он пришел к выводу, что в Восточном Саяне оледенение не было сплошным, а встречалось лишь в отдельных местах его. Пока писал отчет, как бы вновь пережил свое незабываемое первое путешествие.
Вскоре он принялся с наслаждением изучать привезенные образцы пород и составлять геологическую карту Восточного Саяна. Работал, как прежде, по шестнадцать часов в сутки. Ни к кому не ходил в гости и не принимал у себя. Даже в библиотеке, где ежеминутно был занят за своим рабочим столом, никто не решался оторвать его от работы, затеяв посторонний разговор. Он вел жизнь подвижника, обходясь грошовым жалованьем.
Глава 5
К зиме вернулся Александр Лаврентьевич. Из его окладистой бороды, бакенбардов и пышных волос на голове выступало, как из рамы, обветренное лицо. Вместо бывших стрельчатых усов теперь красовались широкие, но тоже с подкрученными концами. Он казался бы старше своих сорока лет, если бы не был так оживлен и по-молодому подвижен. Глаза его то искрились смехом, то горели вдохновенной мыслью. Он тоже был переполнен впечатлениями минувшего лета. И при первой же встрече «залпом» рассказал, что на Тунгуске ему посчастливилось открыть месторождение угля, и немалые, найти залежи графита, отыскать богатые остатки ископаемой фауны, как он считал, древнего силурийского периода, а еще огромные поля застывшей лавы, имевшей своеобразный вид. Эту породу назвал траппами.
Иван Дементьевич внимал его рассказам с почтительным восхищением.. Потом у самого хлынули неудержимым потоком воспоминания о лете, проведенном в Восточном Саяне. Александр Лаврентьевич, слушая, бурно радовался. Эти беседы остались в памяти Черского навсегда. Они особенно сблизили друзей.
Но вскоре Александр Лаврентьевич стал собираться в новую экспедицию, в этот раз на Крайний Север, в бассейны рек Оленека и Лены. Он не стал дожидаться тепла и уехал еще по зимнему пути.
Иван Дементьевич, просиживая дни в музее, все с большим нетерпением ожидал весны. В этом году он опять намеревался побывать в Саянах, изучить горную группу Елохинского отрога, чтобы разгадать происхождение Тункинской и Торской долин, которые разделял этот отрог. Очень хотелось ему исследовать и лавы в этом районе. Теперь знал, что встреченные им прежде на Китойском хребте относились к сравнительно недавнему геологическому времени — четвертичному.
Все лето он опять провел в Восточном Саяне, исследуя Елохинский отрог. Только путешествовать теперь для него иной раз было мучительно — донимали приступы ревматизма. Но когда они утихали, вновь испытывал взрывы поисковой лихорадки. И все яснее становилось ему, что Тункинская и Торская долины обязаны своим происхождением не провалами в земной коре, а медленному размыву водами. И что глинистые осадки в них явно озерно-речные. Залегали они в углублениях, частью в слоистом песчаном наносе, частью в толще галек и валунов. Все это, на его взгляд, было явным доказательством того, что наносы эти самые молодые, а появились, когда «значительная часть Тункинского края занималась отдельными озерами», — как писал потом в отчете.
Следующим летом он вел поиски в краевой зоне Восточного Саяна и западнее его, в Канско-Черемховской депрессии. Она — гигантский прогиб, в котором в древности разливалось море, а на дне его копились те самые красные осадочные породы, которые Чекановский впервые нашел подле Балаганска. Иван Дементьевич искал западную границу этого моря — юрского, как он считал. На следующее лето ему удалось дойти уже до реки Бирюсы, но тут маршрут его резко изменился.
Не однажды в этом пути Иван Дементьевич слышал, что по реке Уде в тайге есть большие пещеры, а в них кости допотопных животных. Прежняя страсть к изучению этих костей вспыхнула в нем с новой силой. С Бирюсы он повернул обратно к Нижнеудинску и начал подниматься по Уде вверх, пустившись на розыски пещер. Он неудержимо пробирался по глухой тайте с перевала на перевал. К вечеру вместе с проводником замертво валился на охапку веток, ночуя у костра.
Однажды на северном склоне горы увидел зияющий темный вход в нее. Пещера!.. Она оказалась настоящим кладом для него, для науки. Температура в ней была постоянная — минусовая. В этом природном холодильнике пролежали тысячелетия не только кости, но целые туши животных, на которых сохранились кожа, шерсть. Полтора месяца, счастливейших для него, не выходил из подземелья Иван Дементьевич. Вместе с рабочими он без устали отыскивал все новые находки, обрабатывал их, упаковывал, вел записи в дневнике. Только сон и еда прерывали эти занятия. Хотя в беспрестанном холоде почти не оставлял в покое ревматизм, да он уже притерпелся к нему.
Об этих его исследованиях восемьдесят пять лет спустя археолог И. В. Арембовский отозвался так: «В результате изумительных по точности и тщательности производившихся в очень тяжелых условиях раскопок была собрана обширная и разнообразная по видовому составу коллекция». В те же годы виднейший ученый А. А. Борисяк писал, что фауна вымерших млекопитающих четвертичного периода в нашей стране... «подробнейшему описанию обязана неутомимому путешественнику и невольному исследователю Сибири И. Д. Черскому».
Вот за это описание и принялся Иван Дементьевич, вернувшись из Нижнеудинской пещеры. Он чувствовал себя Крезом. В его руках был теперь огромный материал вместе с тем, что нашел прежде в окрестностях Иркутска, в Знаменском предместье и с обработанной им «грудой», хранившейся в музее Сибирского отдела Географического общества. Скопилось у него немало и костей современных млекопитающих собственных сборов и присланных Дыбовским с Дальнего Востока, особенно черепов. На изучение всех этих сокровищ нужно было несколько лет.
Осенью того года он пережил еще один взрыв радости. С прибрежья Тихого океана в Иркутск вернулись Дыбовский с Годлевским. Пока Бенедикт Иванович остался в городе, ожидая разрешения самого генерал-губернатора на выезд в Култук, они запоем проговорили с ним однажды почти всю ночь напролет. Бенедикт Иванович, как прежде, горел нетерпением разгадать тайну происхождения удивительного животного мира Байкала. Нет, не удалось ему раскрыть ее на Дальнем Востоке. И потому пришел к выводу: необходимо снова изучать здесь и прежде — происхождение самой котловины Байкала, исследовать озеро Орон в системе Витима. В нем могут быть предки байкальских животных. Если они окажутся там, то можно думать — они переселились из северных морей. Из глубоких фиордов их в далеком прошлом могли перекочевывать по озеро-речной системе и достигнуть Байкала. А некоторые по пути осели в больших озерах, как в Ороне.
Иван Дементьевич слушал речь пламенного, неуемного следопыта и сам загорался желанием исследовать геологическое строение побережья Байкала, чтобы разгадать великую тайну «Священного моря». По словам Дыбовского, именно геологу и, возможно, ему, Яну Черскому, выпадет эта честь. Сам он как зоолог сделал все, что было в его силах, чтобы разрешить ее, но пока не смог. На прощание Бенедикт Иванович сказал, что собирается подать мысль руководству Сибирского отдела Географического общества о необходимости геологического изучения Байкала в ближайшие годы. После той ночи Ивана Дементьевича не оставляла мечта исследовать побережье Байкала.
Но прежде необходимо было закончить обработку, сборов из Нижнеудинской пещеры. Тут встало на пути непреодолимое препятствие. В конце декабря того года Иван Дементьевич получил письмо от академика Шмидта и сразу же начал отвечать ему.
Он кратко упомянул, что в будущем окончательно будет вынесен приговор о возрасте отложений вокруг Омска. Благодарил человечного ученого за внимание. Письмо получилось небольшим. Поколебавшись немало, он принялся за приписку к нему и рассказал о наболевшем. Невозможно ему изучить до конца богатейшие коллекции из Нижнеудинской пещеры за неимением нужной литературы. Хотя среди его находок нет костей мамонта и носорога — типичных представителей четвертичного периода, но он надеялся доказать, что относятся они к тому же времени. А в Иркутске это невозможно. В столицу же поехать не может, находясь под надзором полиции.
Потому и обращался к Шмидту с «всепокорнейше просьбою» поговорить с кем-нибудь в Географическом обществе, чтобы с него, с Черского, а также с Дыбовского и Годлевского был снят надзор полиции. Пока освобожден от него только Чекановский, да и то по ходатайству не Сибирского отдела, а Всероссийского Географического общества. В крайнем случае он просил о дозволении временной отлучки в столицу для обработки собранных костей, «...что касается меня лично, то я во всяком случае не намерен уезжать из Сибири навсегда, так как страна эта меня заинтересовала во многих отношениях и потому я, вероятно, никогда ее не покину».
Прошло месяца полтора. Иван Дементьевич не выдержал и вновь обратился к Шмидту. Он писал, что остатки вымерших животных из Нижнеудинской пещеры убеждают в их древности, в которой поначалу сомневался. «Я всецело отдался бы исследованию сибирских пещер, так как вопрос этот меня интересует в высшей степени — но вот беда, о которой я Вам хочу сообщить и которая меня крайне огорчает». Дальше он писал, что глава Сибирского отдела Географического общества выразил мнение, будто раскопки пещер не соответствуют высоким целям общества: «При таком положении дела я боюсь им предлагать раскопки пещер, хотя от этих исследований следовало бы ожидать многого, и мне кажется (между прочим), что относительно бывшего в Сибири ледникового периода ископаемая фауна даст более осязательные данные, нежели до сих пор успела дать зоология».
Иван Дементьевич просил академика помочь ему, прислать письмо, в котором указать на важность исследования сибирских пещер. «Надеюсь, что после Вашего письма и Балаганская пещера (тоже мерзлая) и прибайкальские будут со временем раскопаны. (Интересно было бы знать, не найдутся ли в прибайкальских пещерах кости Фока (нерпы — А. Г.) и не докажут ли они на время, в котором животное это прибыло к нам в Байкал?»
Фридрих Богданович не остался равнодушен к мольбам его, и следующим летом Иван Дементьевич увлеченно исследовал Балаганскую пещеру, уже по поручению Академии наук. Во второй половине лета он успел побывать еще на Иркуте, где эта река ниже Торской впадины входит в ущелье и несется в его теснине на протяжении ста сорока верст. Он первым промчался по ее порогам, не однажды рискуя жизнью. В Иркутск вернулся опять наполненный до краев яркими впечатлениями, интереснейшими наблюдениями и нагруженный новыми находками. Впереди его ждала тоже захватывающая увлекательная работа — изучение найденного. Если бы не усилившиеся опять ревматические боли, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком.
В это время Александр Чекановский тоже был занят обработкой материалов, собранных им в трехлетней экспедиции на Крайнем Севере. Жил он теперь в Петербурге, работал в Академии наук. В последнем письме с радостью сообщал, что побывал в Швеции, ознакомился там с ископаемыми остатками триасового периода, найденными на Шпицбергене. Иван Дементьевич был рад за него сердечно. С нетерпением ждал от него, новых вестей. Но вместо них в двадцатых числах октября пришла телеграмма: Чекановский покончил е собой. Иван Дементьевич был ошеломлен и потрясен. Подобное пережил в Омске, когда несколько товарищей по ссылке ушли из жизни, не выдержав удара — приказа о вечной ссылке. Но что заставило уйти Александра?.. Он стоял перед глазами, как живой, каким остался в памяти с последних встреч. Тогда только вернулся с низовья Оленека, необычайно жизнерадостный, полный счастливых надежд на будущее и вдруг... погиб!.. Это словно молотом било по сознанию и не давало думать о чем-либо ином. Иван Дементьевич из всех сил старался заставить себя работать, но утром вставал с мыслью «погиб» и ложился с нею.
Однажды узнал — Александр в Петербурге успел составить только карту Нижней Тунгуски и Лены от Якутска до Булуна. Он едва начал обрабатывать свои богатейшие сборы ископаемой фауны. А ведь их надо изучить, издать его труды и дневники!.. Сознание того, что это обязан сделать он — друг покойного, заставило в полную силу заняться собственным исследованием. Прежде надо покончить с ним, чтобы потом завершить то, что не успел сделать Александр. Вспоминая об Александре Лаврентьевиче, повторял себе: «Должен!» Завершить его неоконченное дело, должен во что бы то ни стало. Работал часто с яростным упорством, но чувствовал себя страшно одиноким, как в пустоте. Казалось, уже никто не сможет заполнить ее.
Как-то в глухую полночь он долго не мог уснуть. Тоска по Александру Чекановскому не давала забыться. Вспоминалась первая встреча с ним на Ишиме. Потом, без всякой связи с ней, — с Дыбовским в Иркутске. Подумал с обидой, что забыл о нем теперь Бенедикт Иванович, не отвечает даже на письмо. При одной мысли о том одиночестве в беспросветной темени ночи показалось удушающим. Он рывком поднялся, торопливо зажег свечу, закурил, походил по комнате и принялся писать Дыбовскому. Излил душу, немного успокоился и снова лег в постель.
Не прошло недели, как из Култука пришло ему письмо. «Дорогой пан Янек!» — писал Дыбовский. Едва Иван Дементьевич прочел эти слова, как глаза ему застлало, в груди защемило. «Янек!» — Как давно никто не называл его этим ласкательным именем. Он тотчас вспомнил голос матери. С какой нежностью произносила она «Янек», когда он был совсем маленьким. «Янек!» — нетерпеливо и весело звала его сестра. Потом... когда ушел к повстанцам, они отвернулись от него, обрекли на нищенство.
Иван Дементьевич поспешно достал носовой платок, протер им глаза, очки и продолжал читать не в силах унять волнения. «Вы обижаетесь на нас, что мы забыли о существовании друзей из Иркутского музея. Каюсь, моя вина! Могу, только сказать в свою защиту, что до поздней ночи находимся на скованной льдом поверхности «Священного моря» и не тратим даром ни минуты, хотя мороз и вихри искажают наши лица. Это меня немного оправдывает, однако вины не снимает. Постараюсь в будущем исправиться. И прошу, мне верить, что скорей распадутся огромные горы, чем, Ясенко, о тебе забуду».
Прочтя последние слова, Иван Дементьевич невольно сомкнул веки, будто в глаза ему ударил слепящий свет. Он сидел, держа письмо в руке и не различая в нем слов.
Глава 6
Пошел тысяча восемьсот семьдесят седьмой год, столь памятный Ивану Дементьевичу. В начале его стало известно, что Сибирский отдел Географического общества утвердил экспедицию для исследования берегов Байкала. Она рассчитывалась на четыре года и поручалась ему, Черскому. Он ликовал, предчувствуя захватывающие научные поиски. В эту же пору узнал еще об одной вести: по ходатайству Всероссийского Географического общества освободили от полицейского надзора Дыбовского с Годлевским. Он душевно рад был за них. Хотя мысль, что сам-то оставался под этим надзором и неизвестно, когда будет избавлен от него, минутами приводила в отчаяние. Но тоску по свободе заглушали мечты о предстоящих исследованиях на Байкале.
Они вспыхнули с небывалой силой, когда в Иркутске проездом появился Дыбовский. Опять проговорили с ним чуть не ночь напролет. Бенедикт Иванович был освобожден от полицейского надзора и возвращался на родину. Но в Сибирском отделе Географического общества он начал хлопоты об организации «грандиозной» экспедиции на Камчатку. Там он надеялся раскрыть тайну переселения из моря предков байкальских животных. Приглашал с собой Черского, чтобы провести обширные геологические исследования — они были так необходимы. Он опять увлек своими мечтами, планами, и Иван Дементьевич дал слово, что поедет с ним в эту экспедицию. Хотя Сибирский отдел Географического общества отказал в помощи, но Бенедикт Иванович надеялся добиться ее в Петербурге, обратившись в Академию наук и во Всероссийское Географическое общество. А теперь он несказанно радовался тому, что Иван Дементьевич уже предстоящим летом начнет изучение геологического строения берегов Байкала. Годы спустя он вспоминал: мы надеялись, что Черский раскроет тайну происхождения Байкала.
После его отъезда Иван Дементьевич остро почувствовал одиночество. Из друзей в городе остался один Николай Иванович Витковский. Хотя виделись с ним в отделе Географического общества почти ежедневно, он с увлечением обрабатывал здесь свои палеонтологические сборы, да не мог он заменить ему Дыбовского. В половине мая 1877 года Иван Дементьевич выехал в Култук, нанял там пароконною повозку, двух помощников: бурята и бродягу Максимку из красноярских казаков. В тот же день он вновь как бы начал читать увлекательную древнюю летопись земли. Уже первая страница ее захватила его. Едва отъехал от Култука восемь верст, как на девятой — на крутом подъеме обнаружил большие глыбы желтого иркутского песчаника. Он миллионы лет назад образовался в прибрежьях Юрского моря. Тут геолог с азартом пустился на розыски его. На десятой и одиннадцатой версте нашел опять.
А на тринадцатой — новая находка. Здесь рабочие ремонтировали почтовую дорогу, засыпая ее мелким щебнем необычного вида. Расспросил их, откуда его берут? «Да тут, из Тулинской сопочки. В сторону от этой дороги верст десять-двенадцать будет», — отвечали они и рассказали, как проехать к ней. Добрался он до этой «сопочки» и увидел низкую столовую гору, срезанную с двух сторон выработками. В них-то рассмотрел, что порода, из которой сложена вся гора, состоит из разновеликих шаров, эллипсоидов, столбиков и глыб, внутри последних тоже заключено по два шара — один в другом. Все они покрыты тончайшей скорлупой. А все вместе образуют причудливый рисунок. Оттого разрез горы казался расписанным узором. Распавшаяся скорлупа образовала скопления мелкой дресвы. Ее-то рабочие выгребали лопатами и увозили на дорогу.
Впервые Иван Дементьевич встретил такую породу. Собрал образцы ее, рассмотрел в лупу. Это, несомненно, лава. Но не такая, что отыскал в Китойском хребте, в долине Иркута и в Тункинской долине. Та излилась сравнительно недавно — в четвертичном периоде. Много позже, когда достаточно изучил ее, он пришел к выводу, что она древнее лавы, излившейся в Прибайкалье, в окрестностях Култука, в Китайских альпах, в долине Иркута, и может быть, относится к той громадной области вулканических излияний, с которой Чекановский встретился на Нижней Тунгуске. Назвал он эту породу тоже траппом.
Изо дня в день, продвигаясь по почтовой дороге вдоль побережья Байкала, он неутомимо вел исследование его. Ничто не ускользало от его цепкого взгляда. Он беспрестанно останавливал повозку, сходил с нее и осматривал крутые склоны гор, нередко скалистые, собирал образцы пород. Тут же делал краткие пометки в дневнике. Часто наскоро зарисовывал детали обнажения пород, особенности их залегания, сбросы; складки, особые приметы рельефа. Мысль его работала неустанно — пищи для нее было в изобилии на каждом шагу.
Он часто совершал небольшие экскурсии в сторону от почтовой дороги, чтобы получше разобраться с тем, что заинтересовало. Ночевали обычно там, где заставала ночь, иногда на почтовых станциях, но чаще у костра в лесу. Поднимались с зарей, чтобы побольше успеть сделать за день, а времени никак не хватало. Черский с нарастающим азартом пускался на разведки и не замечал, как солнце, свершив свой путь по небосклону, катилось к горизонту. Только спустившиеся сумерки поневоле обрывали поиски.
Вечерами, пока готовили ужин, Иван Дементьевич нередко рассказывал своим помощникам о том, что удалось ему найти, открыть. Толковал он об этом так просто, понятно, а главное, увлеченно, что они слушали с неменьшим интересом, чем всякую небывальщину. Называл он их вежливо по имени-отчеству, чем; трогал без меры. В тот день, когда нанимал бродягу, спросил прежде, как зовут и величают его. Тот смутился и ответил «Максимкой, а величать-то меня... сроду не слыхивал. Батьку, кажись, Иваном звали. Вы по-простому — Максимкой. Что я за барин такой, чтобы навеличивать!» Но когда Иван Дементьевич назвал его Максимом Ивановичем, как равного, в заскорузлом лице бродяги что-то дрогнуло, и посмотрел он на своего начальника глазами бездомной собаки, которую впервые приласкал человек.
При первой встрече с бурятом, которого нанимал ямщиком, тоже спросил об его имени-отчестве. Тот ответил: «Тугулка». «Но эта, кажется, уменьшительное имя? — спросил Иван Дементьевич. — Вы человек немолодой, как полное имя ваше? Как зовут по отцу?»
«Меня — Тугул, отца — Банай, однако», — с удовольствием отвечал он, явно польщенный. Его никто из русских, да и из своих тоже, еще не называл полным именем. Он не любил и побаивался русских начальников. Но этот был совсем другой — ученый. Чем больше присматривался к нему Тугул, тем сильнее привязывался. Он любил петь о том, что волновало, радовало, как бы рассказывая речитативом о том. Вот и теперь, погоняя лошадей во время поездки, он на своем наречии иногда распевал: «Ей-ей! — Шибко хороший человек мой начальник, шибко ученый! Ей-ей! Со мной поговорит, с камнями разговаривать может. Камень немой, а ему про себя все рассказывает. Ей-ей! — Шибко большой ученый мой начальник!» Певцу явно не хватало слов, чтобы выразить свое преклонение, и потому несколько раз сряду он повторял: «Шибко большой ученый мой начальник! Шибко хороший человек!» А Иван Дементьевич с лихорадочным нетерпением «прочитывал» одну «страницу» за другой из загадочной летописи здешних мест. Некоторые из них приводили его прямо-таки в душевный трепет. Это не ускользало от Тугула, наделенного природным умом, наблюдательностью, и он продолжал воспевать своего начальника.
Передвигались не спеша, часто совершая пешие экскурсии в стороны. Забрались в долину реки Переемной. Она особенно интересовала Ивана Дементьевича. В ней давно еще исследователь Меглицкий нашел угленосные пласты. Они-то и послужили ученому Эрману неким доказательством его теории, что Байкал — щель в каменноугольных пластах. Много позже Чекановский установил — пласты эти образовались куда в более позднее, юрское время. Теперь Ивану Дементьевичу не раз приходилось встречать такое, что опрокидывало прежний взгляд ученых на происхождение Байкала. Он искал все новых и новых доказательств тому, не зная покоя от темна и до темна каждодневно. Хотя ревматизм, обострившийся от байкальских холодных ветров и сырости, порой мучил его непереносимо, особенно по ночам.
Как-то вечером, когда он задержался на реке Тугул, готовя ужин, сказал Максиму:
— Наш Иван Дементьевич, как охотничий собака. След нашел, бежит туда-сюда. Нынче опять след камня чует.
Максим, изломанный жизнью, всегда молчаливый, угрюмый, взглянул на него загоревшимися глазами. Свое восхищение тем, что ученый «след камня чует», он выразил не словами, а любимым междометием. «Тсс-тсс!» — произнес он сквозь сжатые зубы и с раздвинутыми в полуулыбке губами.
Вскоре показался Иван Дементьевич. Он напевал. В голосе его слышались ликующие радостные нотки. Мотив его спутникам знакомый — народной песни, а слова непонятные, ученые. Он пел о том, что нашел здесь следы фауны и флоры третичного периода. Значит, не в Карбоне и в Юре образовались здешние угленосные пласты, но много-много позже — в третичное время. Без всяких слов он с торжествующим видом показал своим помощникам небольшую плитку. На ней четко выступал отпечаток листьев.
— Ой-ей! — изумленно воскликнул Тугул. — Этот камень тоже немой, а тебе шибко много рассказал. Оттого радуешься так — поешь! Утром жаловался: ноги ломит, сердце болит.
— И теперь болят,— отмахнувшись, сказал Иван Дементьевич. — Вы посмотрите, листья-то какие? — Двусемядольных! Таких не было ни в Карбоне, ни в Юре! Они появились только в третичное время. И угленосные пласты, в которых я нашел этот отпечаток, образовались тогда же. И эти раковины моллюсков.
Максим с ребячьим удивлением вертел, рассматривал невиданную диковинку-плитку с отпечатком давным-давно вымершего растения. Свое удивление он выразил кратко:
— Рисунчатый камень! Тсс-тсс!..
— Завтра, Максим Иванович, мы с вами пойдем искать такие камни и раковины, как эти. Сегодня я не смог подняться на высокий уступ — помешала одышка и резкие боли в коленях. Вы поможете мне.
— Ладно, ладно! — С готовностью ответил Максим и посмотрел на него глазами преданной собаки, готовой бежать за хозяином куда угодно.
Назавтра чуть свет они отправились к верховью реки. Часа через два начал моросить дождь. Навстречу, как из трубы, подул резкий ветер. Вскоре Иван Дементьевич почувствовал, как промоченные ноги начало нестерпимо ломить. Он подыскал толстую палку и опираясь на нее, продолжал шагать следом за Максимом. Тот, оборачиваясь, сокрушенно качал головой и произносил свое «Тсс-тсс!» с таким сердечным участием, что Иван Дементьевич в ответ только улыбался благодарно, ободряюще. Иногда приговаривал: «Ничего, ничего! Видите, я же не отстаю от вас». Но подняться на высокий уступ — цель его экскурсии — он уже не смог. На него с ловкостью кошки начал взбираться Максим. Он был вооружен киркой, молотком. По указанию Ивана Дементьевича отбивал куски пород в определенных местах. Неожиданно сверху донесся его хрипловатый ликующий смех. Он с победным видом поднял руку, крикнул:
— Рисунчатые камни!
Иван Дементьевич не выдержал и полез на уступ тоже, но едва смог взобраться метров на десять, Максим спустился к нему. Усевшись рядом, они принялись рассматривать отпечатки растений.
— Опять двусемядольный! — с радостью воскликнул исследователь. Он устремил взгляд на видневшийся далеко внизу синеющий Байкал. Максим сбоку поглядывал на него. Чудным казались ему и взгляд, и лицо ученого. Тот, повернувшись к нему, сказал:
— Видите, где теперь плещется «Священное море»? А если бы мы с вами сидели на этом месте миллионов пятнадцать-двадцать лет назад, его прибрежные волны били бы у наших ног.
Максим, пораженный услышанным, пристально посмотрел в глаза говорившему, потом вниз, изумленно покачал головой. Его природное воображение, давно парализованное невзгодами жизни, как бы разом очнулось. Перед глазами, будто во сне, замаячил древний — еще более огромный Байкал, который хлестал волнами об это самое место.
А Иван Дементьевич опять устремил взгляд на синевшую внизу водную гладь. Его мысленному взору все яснее представлялась картина далекого прошлого этих мест, он уже почти не сомневался в истинности ее. В следующие дни, охваченный страстным нетерпением разгадать эту тайну до конца, он вновь и вновь устремлялся в долины следующих рек. И в них находил отпечатки растений, раковины моллюсков, живших в том же третичном периоде. По ним стремился установить границы бывшего — третичного, Байкала. Максим был неотлучно при нем и стал незаменимым помощником.
Чем дальше исследователь продвигался по почтовой дороге на восток по побережью озера, тем глубже заглядывал в даль минувших геологических эпох. Все породы, из которых были сложены утесы Хамар-Дабана, оказались самыми древними — лаврентьевского периода. Но точно такие же он встречал и в горах Восточного Саяна. Тогда по неопытности отнес их к юрскому времени. Сейчас и Хамар-Дабан и Восточный Саян представлялись ему невообразимо древними участками суши, не заливаемые морскими водами тоже с древнейших эпох. За все времена они подвергались только размыву текучими водами, действию ветров и солнца.
По пути он не однажды и здесь встречал застывшие потоки лавы. У Байсинского ключа они одевали склон Хамар-Дабана почти от его подножия до самых высоких вершин. Видел такие потоки и в долинах Тибельтинской, Ильичинской, Култучной. В далеком прошлом эти долины были залиты лавой до изрядных высот, но со временем размыты. Что он искал повсюду и находил — так это следы работы текучих вод. Размыв! — Он был главным создателем всего окружающего рельефа. Ему обязаны своим происхождением все здешние речные долины, в которых скопилось столько гальки, песка, валунов — продуктов разрушения горных пород. Размыв, а не трещины повинны в происхождении речных долин, иначе необъяснимо, почему, так спокойно лежат друг на друге пласты пород. Со стороны Байкала они как бы обрезаны повсюду — тоже результат размыва, но уже озерными водами. А бутовидные расширения низовьев рек Култучной, Талой, Слюдянки и других разве не доказательство того, что их долины подвергались продолжительное время тому же размыву озерными водами. Наконец, открытая им высокая терраса в долине Култучной не приводит ли окончательно к выводу, что воды озера в прошлом стояли почти на триста метров выше, чем теперь. Прибой байкальских вод создал эту террасу. На ней впервые посчастливилось ему найти слоистые озерные песчаники, встреченные потом еще не однажды на высоких уступах в долинах других рек. По ним-то и определил, что столь высокого уровня воды Байкала достигали совсем в недавнее геологическое время — в четвертичном периоде. И тогда должны были заливать и Тункинскую долину.
В начале июня Иван Дементьевич со своими спутниками добрался до реки Селенги. В ее долине его ждало еще одно волнующее открытие. Давно известный Чаячий утес оказался местом, через которое изливались воды древнего Байкала в юрском периоде. Теперь подобные «ископаемые» истоки озера не шли из головы Ивана Дементьевича.
Едва он приехал в Кабанск, как назавтра же принялся писать академику Шмидту. Накануне вечером уже не было сил — сразу после ужина свалился в постель от безмерной усталости. К тому же донимали боли во всех суставах. Но они не давали уснуть. Тут раздумья нашли. Он мысленно долго беседовал с академиком Шмидтом. Тот был единственным теперь человеком, с которым мог поделиться самым заветным.
Утром он поднялся чуть свет, зажег свечу и не без волнения начал: «Многоуважаемый Фридрих Богданович. Пишу Вам из Кабанска (около Селенги), куда я приехал вчера, т. е. 8-го июня, уехав из Иркутска 15-го мая. За это время исследовал береговую полосу Байкала на протяжении от Култука до Селенги, убедившись, что именно эту часть следует считать весьма важною по отношению к свету, который она проливает на происхождение озера. Не входя в подробности, скажу Вам, что пройденное пространство убедило меня самым положительным образом, что эта часть береговой полосы озера обязана своим происхождением не каким-либо провалам или интенсивным оседаниям почвы, как предполагали, а размыву, действовавшему с весьма отдаленных геологических периодов и оставившему очень ясные, нередко даже образцовые доказательства такому образцу происхождения».
Он исписал уже целую страницу и в самом конце ее сделал примечание: «Следы эти указывают на прямую генетическую связь Тункинской долины с долиною нынешнего Байкала». «Поэтому я убежден, — продолжал он, — что дальнейшее исследование озера должно открыть несколько древних истоков вод Байкала (ныне . прегражденных и уничтоженных позднейшими поднятиями), истоков, через которые уносились когда-то продукты этого размыва... К тому же истоки эти должны принадлежать различным геологическим периодам.
Кстати, я должен сказать, что известные со времен Меглицкого угленосные пласты на р. Переемной, послужившие затем как бы некоторым подтверждением мнению Эрмана, что «Байкал есть щель в каменноугольных (ныне юрских образованиях. — Чекановский. — А. Г.) оказались, к моему крайнему удивлению, третичным и не юрским и более молодыми. Я нашел в них кроме раковин хорошие отпечатки листьев двусемядольных растений и целым рядом экскурсий в сторону от Байкала я определил границы этой части вод еще третичного Байкала. Формация эта залегает на головах приподнятых досилурийских кристаллических сланцев и упирается в подножие берегового хребта озера, состоящего из неразмытых частей тех же досилурийских сланцев».
Он продолжал с увлечением писать, а перед глазами вставало все, что осталось позади. Упомянул о Чаячьем утесе как месте истока байкальских вод в юрском периоде. Кратко сообщил, что во время экскурсий в хребты левого берега Селенги проследил простирание в них досилурийских кристаллических сланцев, но нигде не встретил пород юрских. Написал, что завтра собирается исследовать конгломераты, встреченные здесь еще Эрманом, и отношение их к только что изученным сланцам досилурийских времен. Затем намеревается перейти на правый берег реки и пересечь там хребет.
Наконец, он перешел к самому волнующему, собираясь рассказать о лаве, встреченной в нескольких местах восточного побережья Байкала: «Лава излилась уже в послетретичный период и заняла, следовательно, место в давно готовой уже долине, поэтому роль вулканизма в образовании долины Байкала равняется нулю, а в позднейших затем преобразованиях сравнительно весьма незначительная». А в ученом мире устоялся взгляд — именно вулканизм породил котловину Байкала, поскольку она «щель в угленосных пластах». Иван Дементьевич спешил поделиться своим открытием, опрокидывающим неверную теорию.
«Оканчивая мое сообщение, покорнейше прошу Вас уведомить меня, какой формации оказались принадлежащим раковины, собранные Гартунгом на Гусином озере. Условия конфигурации местности позволяют допустить, что третичные воды Байкала распространялись и на Забайкалье и потому вопрос этот меня крайне интересует, а ныне я не буду в состоянии посетить это озеро.
Примите, милостивый государь, уверение в глубоком моем почтении и преданности.
И. Черский
Кабанск, июня 9 дня, 1877.»
Закончив письмо, он разбудил своих спутников, чтобы поскорее позавтракать и отправиться в путь. У хозяйки на кухне уже шумел самовар, а сама она хлопотала у топящейся печи. В ожидании завтрака Иван Дементьевич вышел во двор. Брезжил рассвет. В клубах тумана чуть угадывались окружающие окрестности. Перед глазами исследователя встало иное — высокая терраса в долине Култучной, озерные слоистые песчаники на больших высотах, отпечатки третичных растений и раковины. Воображение разом раздвинуло рамки виденного, и перед мысленным взором Ивана Дементьевича возник гигантский третичный водоем — предок современного Байкала. Он разливался далеко на восток, затопив и Тункинскую долину, и ту, где теперь плещется Гусиное озеро. Восточные Саяны, Хамар-Дабан выглядели на нем гористыми островами.
Едва показалось солнце, как Черский снова двинулся в путь. До самых вечерних сумерек он был занят поисками конгломератов, изучением их простирания по отношению к кристаллическим досилурийским сланцам, которые обнаружили накануне. Конгломераты. Они рождены в прибрежьях водоема. Но какого?.. Судя по их отношению к досилурийским сланцам — древнейшего. А был ли это далекий «прародитель» Байкала? Не море ли?.. Но разрешить эту загадку станет возможным, когда удастся изучить все побережье «Священного моря».
Назавтра новая находка взволновала исследователя, как ни одна из всех прежних. На вершине хребта он наткнулся на клочок глинистого сланца. Эта порода, несомненно, тоже образовалась на такой высоте. Не в море ли она родилась? Быть может, в силурийском? Или еще в более раннем? Мысль о том неведомом, исчезнувшем море заполнила ум Ивана Дементьевича совершенно. С этих дней она надолго стала его «путеводной звездой» в поисках на Байкале.
День за днем, не давая себе роздыха, он спешил обследовать как можно больше мест, продвигаясь вдоль побережья озера. От времени до времени совершал экскурсии по долинам рек, часто опять опираясь на палку. Болели ноги, сердце, иногда одолевала одышка. Но, превозмогая боли, он все с большим упорством стремился вперед. Тут, в пути, нежданно-негаданно получил весть из столицы. Она разом встряхнула, взбодрила его. Не мешкая, принялся отвечать на нее Всероссийскому Географическому обществу: «Считаю долгом выразить многоуважаемому обществу глубокую благодарность за лестное для меня присуждение медали.
С своей стороны могу заявить лишь о моей готовности служить посильно целям исследования впредь до истощения здоровья и сил.
И. Черский»
Отправив письмо из Горячинска, весь этот день, двадцать седьмого июля, он чувствовал себя таким именинником, как еще ни разу за свою жизнь. Откуда только силы брались! — Прошел вдвое больше, чем обычно, и вроде бы не так уж донимали боли в ногах и в сердце. Малую серебряную медаль ему присудили за исследования Нижнеудинской пещеры.
Теперь он уже совсем не щадил себя. В конце лета достиг долины реки Баргузин. Долина ее особенно заинтересовала его. В ней нашел наносы желтоватого песка, они образовали и новейший вал, и ряд старых холмов, опоясывающих долину, некоторые достигали четырехметровой высоты. Они перерезались древними руслами реки, одно из них обнаружил в целой версте от юго-западных гор. Он повсюду находил признаки того, что в прошлом долина эта подвергалась тоже размыву. Влияние его явно угадывалось и в расширении места, занятого ныне дельтой Баргузина. Дотошно изучив и эту долину, он пришел к выводу: в прошлом она была заливом Байкала. А возникновением своим обязана тоже длительному размыву, как все долины рек, встреченные им до сих пор. Но таковы ли они в северной части восточного побережья и всего западного? Это покажут будущие его исследования. Лето уже кончилось, пора возвращаться в Иркутск. Там в течение зимы будет писать предварительный отчет и заниматься обработкой собранных за лето пород, ископаемых остатков. Это занятие всегда доставляло ему тоже истинное наслаждение.
Глава 7
Едва он появился в Иркутске, как в Сибирском отделе Географического общества ему вручили письмо от академика Шмидта, Фридрих Богданович извещал, что Академия наук организует экспедицию на Новосибирские острова и приглашает его, Черского. Поначалу Иван Дементьевич обрадовался. Но потом, поразмыслив, написал такой ответ:
«Милостивый государь Фридрих Богданович.
Спешу с ответом на письмо Ваше от 2 июня, которое я получил лишь третьего дня, т. е. 28 августа, именно относительно предполагаемой экспедиции на Новосибирские острова. Еще находясь на Байкале, с крайним прискорбием я почувствовал значительную перемену в состоянии моего здоровья против прежнего и в то время, когда в июле месяце ревматизм в груди до того стал мешать дыханью, что в течение целой недели я задыхался и должен был садиться после каждых пройденных 50 саженей, и совершать в это время экскурсии лишь при помощи палки»... — Он остановился, припоминая. Разговоры об организуемой сейчас экспедиции были и прежде, потом прошел слух — она не состоится. Тогда он, наверное, и поехал бы, но сейчас...
«...а собрать материал и расстроить здоровье до невозможности наслаждения его разработкою я не хотел бы, в особенности теперь, когда, ознакомившись более чем с 1/4-ю частью прибрежной полосы Байкала, у меня родилось так много весьма интересных для меня вопросов, разрешения которых выжидаю лишь через год, через два, а некоторых и через четыре года, причем местность эта не столь рискованная для здоровья, нежели Новая Сибирь.
Вот почему, к крайнему моему огорчению, я должен отказаться от столь лестного для меня предложения, чувствуя себя в возможности и даже в необходимости ограничиваться в исследованиях лишь местности, не представляющей столь видимого риска для подорванного уже отчасти моего здоровья».
Зимой его подлечили врачи-соотечественники. Он отсиделся в тепле отдела Географического общества, где писал отчет, составлял геологическую карту изученной части побережья Байкала, изучал собранные минувшим летом породы. К весне почувствовал себя вновь бодрым и почти здоровым. Всей, душой он опять стремился на «Священное море».
В этот раз отправился в путешествие по нему в лодке, ее купил на свои скудные сбережения — в отделе Географического общества на это денег не нашлось. Плавание начал от Баргузина в сопровождении преданного Максима и молоденькой жены своей Мавры Павловны, дочери бывшей его хозяйки. Из девочки, которую он когда-то обучал грамоте, она благодаря его стараниям быстро превратилась в любознательную девушку. Теперь она становилась незаменимой, преданной помощницей. Наделенная незаурядным умом и наблюдательностью, она уже сейчас поражала его иногда зоркостью глаза и умением делать собственные выводы. Он всячески старался развить в ней эти способности, в чем преуспел вполне уже в первое лето их совместных исследований.
Если бы Машенька оказалась для него только любимой женой, так для него то было бы счастье еще невеликое, хотя стосковался по семейному углу, по женской ласке, устал от одиночества. А теперь он имел в жене близкого, понимающего друга, помощницу и сподвижницу в трудах своих. Да был ли кто в то лето счастливее его!? К тому же исследовал живописнейшую часть Байкала. Ни один сказочный принц не отправлялся в свое свадебное путешествие в такие изумительные места, потрясающие воображение первозданной дикой красотой и грандиозностью горных сооружений.
С небывалым воодушевлением вел Иван Дементьевич свои поиски то с лодки, когда утесы обрывались прямо в воду, то пешком вдоль берега, если склоны гор отступали от уреза воды. Маша не отставала от него, поминутно расспрашивая о том, что привлекало ее внимание.
Северо-восточное побережье озера оказалось довольно однообразным. Высочайшие горы, часто поднимавшиеся почти от самой воды, утесы, уходящие под нее, узкие глины с крутым подъемом к их вершинам. И здесь Иван Дементьевич повсюду находил подтверждение тому, что ложе Байкала появилось не в результате провалов, а размыва за длительные геологические времена.
Иногда вечерами у костра пускался он рисовать картины далекого прошлого этих мест. Жена слушала его, как загипнотизированная. Ей часто виделось то, о чем он говорил. В ее глазах муж представал человеком, совершенно необыкновенным. В душе она преклонялась перед ним и жаждала хотя бы чуточку быть похожей на него. В ней все больше просыпалась прирожденная незаурядная натуралистка. Любил Иван Дементьевич на привалах присесть у самого уреза воды. Бывало, обхватит руками колени, иногда положит голову на них и надолго застынет в этой позе.
Как-то в полдень, когда готовили обед у подножия огромной каменной стены, он опять уселся подле воды в любимой позе и долго оставался недвижим.
— Байкал слушает, — догадался Максим.
— Не-ет! — как-то мечтательно, вполголоса отозвалась Маша. Он думает. — И завороженными глазами долго смотрела на мужа, пытаясь разгадать, о чем он размышляет? Незадолго до привала попал ей камень не совсем обычного вида, как большинство, тоже темный мелкозернистый, но с большими округлыми белыми пятнами. Когда показала его мужу, он обрадованно сказал: «Очковый гнейс» — так назвал его Александр Чекановский, когда первым нашел эту породу. Об Александре Лаврентьевиче он вспоминал всегда взволнованно и признательно. Она догадывалась — сейчас погружен в воспоминание о нем.
Но Иван Дементьевич обернулся к ней и необычно торжественно начал:
— А знаешь, Машенька, где мы сейчас находимся!?
— На берегу,— простодушно ответила она, не понимая еще, к чему он клонит.
— Нет! — На дне первичного океана, вознесенного когда-то за облака!.. Максим покачал головой, произнес свое «Тсс-тсс!», дивясь тому, что услышал, но еще более виду говорившего. Такого чудного лица он еще не видывал у него.
— Да, на этом месте, — продолжал Иван Дементьевич, все больше вдохновляясь, — миллиард лет назад, а может два, было дно горячего первичного океана, перенасыщенного солями. На нем осаждались эти породы, что окружают нас здесь. Конечно, за такие фантастические долгие периоды они подверглись многим изменениям. Но это первично рожденные породы земли! Можешь ты представить это?..
— Да, — совсем тихо отвечала она. — Я это понимаю. — Она почти неслышно подошла к нему, присела рядом и повторила: — Да, понимаю. — Ее открытые серые глаза все ярче разгорались от напряженной работы мысли и почти детского удивления и восторга. Иван Дементьевич не мог отвести восхищенного взгляда от них.
В это время с охапками хвороста подошли двое гребцов, Печкиных, нанятых в Баргузине. Оба молчаливые, сосредоточенные, как будто всегда были погружены в какую-то вечную невеселую думу. Они тоже начали прислушиваться к тому, о чем продолжал говорить Иван Дементьевич.
Он рассказывал, как дно первичного океана в более поздние времена начало вспучиваться, коробиться и сминаться в складки, они поднимались гигантскими горбами на лике земли. А как только начали возвышаться, так их принялись понемногу, но беспрерывно точить ветер; атмосферные осадки и текучие воды. Все, что осталось от них за сотни миллионов лет, — это хребты, окружающие Байкал, и горы Восточного Саяна за ним.
На всю жизнь остались в памяти Маши эти беседы. Теперь она с особенным старанием собирала и упаковывала образцы «первородных» камней земли. Для каждого готовила «записочку», как называла этикетки, в которой указывала, в каком месте и когда порода найдена. Чаще всего на всем северо-восточном побережье они были древнейше-лаврентьевской формации, как называл их муж. По его словам, из них-то и сложены в основном все здешние утесы, хребты, а также те, что он изучал прошлым летом от Култука до Баргузина. Они сплошь опоясывали все побережье Байкала. Хотя он находил и более молодые, но главными-то были эти кристаллические «первородные».
На всем пути Ивана Дементьевича беспрестанно занимали эти породы и потому, что из них состояли самые древние докембрийские складки. Он уже открыл полдесятка их. Все они простирались параллельно друг другу в северо-восточном направлении.
Совершив ряд экскурсий в долины рек Фролихи, Биреи и других, Иван Дементьевич со своим маленьким отрядом вышел к северной оконечности Байкала. Погода все чаще портилась — приближалась осень. Когда бушевало озеро, лодку вытаскивали далеко на берег, а Иван Дементьевич с женой и Максимом отправлялись верст за десять-пятнадцать по долинам ближних рек. За все время путешествия по побережью Байкала он не встречал еще таких живописнейших горных цепей, охватывающих озеро подковой с трех сторон. Самые могучие с островерхими и куполовидными вершинами вздымались на востоке. На северо-востоке они были пониже, среди них два каменных столба, как исполинские персты воткнулись в небо, а в верховье Кичеры одиноко высилась громадная пирамида удивительно правильных очертаний. Первозданно мощная и сказочно красивая природа этих мест околдовала путешественников. Но любоваться ею могли в краткие минуты отдыха.
Огромная озеровидная долина, которую в своем нижнем течении пересекали стремительная Кичера и разбитая на несколько рукавов Верхняя Ангара, увлекла Ивана Дементьевича до самозабвения. Его охватил азарт охотника, напавшего на след крупного зверя. В горах, окружавших ее, он явно угадывал еще одну складку докембрийских пород, притом самую большую из всех встреченных прежде — шириной около шестидесяти верст. Позже назвал ее Богучанско-Дагарской.
Но пока шел по «следу камня», изучая простирание этой складки, сделал еще одно, куда более взволновавшее его открытие. Камень был наидревнейший — лаврентьевской формации. Вдруг он исчез на целых шести верстах, потом снова появился. Вот на этом перерыве его Черский начал лихорадочно искать, почуяв долгожданное открытие. Наконец-то обнаружил несколько островков потерянного камня. Он с восторгом разглядывал их, щупал, рассматривал кусочки его в лупу. Сомнений не было!.. Его радостная лихорадка начала передаваться жене. Она тоже пыталась понять, что же это такое!?
— Машенька! Нашел! — дрогнувшим голосом ликующе проговорил Иван Дементьевич.
— Нашел! — повторил он еще с большим ликованием. — Догадываешься, что?..
— Пока... нет. Это, должно быть, проход в лаврентьевских породах. В нем они уничтожены какой-то силой. Сохранились только их остатки, эти островки.
— Верно! — в восторге воскликнул он. — Уничтожены! Снесены! Водою! — Это древний исток байкальских вод! Озеро занимало тогда и всю эту долину. Еще прошлым летом я писал академику Шмидту, что надеюсь открыть истоки древних байкальских вод. Искал их на всем пути. И вот — нашел первый! Машенька! — Он обнял жену, закружил ее, пританцовывая.
Максим, укладывавший собранные ими камни в мешок, приподнял голову, поглядел во все глаза на своего начальника и вполголоса произнес: «Ох, ты!» Он порадовался за них, догадываясь, что нашли что-то невиданное.
Иван Дементьевич уже. давно догадывался, что исток должен быть не один. Найденный назвал тут же Кичерским. Остальные надо искать на западном побережье, поскольку не встретил их на восточном. Судя по направлению открытых им складок, пород, он теперь предполагал: на месте нынешнего Байкала в древности было три озера. Одно разливалось здесь, в этой озеровидной долине, по которой текут теперь Кичера и Ангара. Где же были истоки еще двух?.. Как не терпелось ему пуститься на поиски их сейчас же. Но лето кончилось, наступила осень. Пора было возвращаться в Иркутск.
Всю зиму с женой он был занят совместным делом: изучали привезенные породы на глаз и под лупой, проводили их химические анализы. Он, кроме того, составлял геологическую карту и предварительный отчет, она переписывала последний набело, вновь изумляя мужа меткостью иных замечаний.
Отчет писал он не только как итог проведенных собственных исследований для Сибирского отдела Географического общества. Ему хотелось, чтобы он мог служить для будущих исследователей путеводителем по Байкалу. А потому сопровождал его многочисленными рисунками, надеясь, что по ним геологи смогут судить, как менялись детали береговой линии. Как, например, узкая и зазубренная коса превратилась в широкую, округлую или исчезла совсем. Или из бухты с полулунным изгибом образовалась простая. Как возле утеса, подножия горы, омываемых водами, появилось наносное прибрежие. На множество других мелких-деталей в строении берегов озера, которые не могли быть помечены на карте из-за своих небольших размеров. Этим делом он занимался вечерами дома.
А днями, как прежде, просиживал в музее Сибирского отдела Географического общества, где больше всего занимался составлением геологической карты изученной части побережья Байкала. На ней как бы рисовал скелет того, что исследовал «во плоти и крови» на берегах Байкала. И потому особенно рельефно вы: ступал перед ним древний остов изученных мест.
На карте обозначил и те засечки, что сделал на отвесных утесах на высоте до двух метров от уровня воды. Они тоже для будущих исследователей. По ним можно будет судить, как станет изменяться уровень озера хотя бы за столетие, а также и в последующие времена. А для него это была тоже нелегкая работа. Стоя в лодке, долбить долотом в неподатливой породе глубокую борозду длиной пятнадцать сантиметров, потом высекать дату. Лодка под ногами ходила ходуном, ее надо было удерживать на одном месте. Однажды, едва начал долбить, подул сильный ветер, Байкал все выше вздымал валы, они хлестали об утес. Но бросать работу неоконченной не хотелось. Он уже заканчивал ее, когда лодку так стукнуло бортом о скалу, что она едва не перевернулась. Да мало ли было подобных случаев на всем длиннейшем многотрудном пути. Они невольно всплывали в памяти, пока работал над картой, ее он намеревался со временем опубликовать.
А для себя готовил еще черновую, которую раскрашивал от руки. Породы докембрийские — лаврентьевской формации в голубовато-зеленый цвет, силурийские — в розовый, девонские — в светло-оранжевые, юрские — в голубой, а послетретичные осадки и долины — в желтоватый. Во время такой работы он любил потихонечку напевать. Это настраивало на особый — поэтический лад. Мотивы приходили сами собой, а слова были о том, чем была занята голова в эти минуты. Карта получалась куда более красноречивой, чем первая — одноцветная. Взглянув на нее, он разом охватывал пройденный путь и все открытое на нем. Мельчайшим, но четким почерком он делал кое-где пометки. Они тоже говорили ему о многом.
За этими делами застала его весна. В самом конце апреля пришла весть, взволновавшая его до глубины души. Всероссийское Географическое общество присудило ему малую золотую медаль за исследования на Байкале. Он ответил таким письмом: «Выражая глубокую благодарность за присужденную мне обществом золотую медаль, покорнейше прошу принять уверение в готовности служить интересам науки до тех пор, до каких позволяют мои силы.
И. Черский»
Он был счастлив вполне! С необычайным воодушевлением начал готовиться к очередному путешествию на Байкал. Решил уйти с должности консерватора музея, переехать в Култук, чтобы уже все силы без остатка отдать изучению западного побережья озера. Радовалась вместе с ним и жена. Она стала самым близким другом, помощницей в делах его. Чего же ему желать еще?.. Вот только когда думал, что со своей несравненной подругой вынужден жить в подвале — на лучшую-то квартиру средств не было — то поневоле приходил в уныние. Если бы он мог! — Поместил бы свою Машеньку в княжеский дворец!.. Но тут ему приходило на память, что лучше всяких дворцов была, для них простая палатка, в которой ютились на берегах «Славного моря». Он принимался мечтать, как снова очутятся с ней там. Нет, не нынешним летом — потом. Теперь она ждала ребенка и должна остаться дома. Он тоже с затаенной радостью страстно ожидал, когда свершится это чудо и в их семье появится маленький Черский — его второе я. Ему очень хотелось, чтобы это был сын. Из него воспитал бы тоже помощника и наследника трудов своих. И как только принимался думать об этом, куда только не заносили его мечты.
После того он с упоением продолжал научные дела свои, стараясь не думать, на что будет жить с семьей, оставив службу. Хотя ему всегда было трудно, но никогда — скучно. Мысль его, воображение работали почти беспрестанно и порой делали такие взлеты, что он испытывал сердечный трепет и высочайшее духовное наслаждение. До скуки ли тут!?
Глава 8
Этим летом он начал исследования опять от Култука, но в противоположном направлении, продвигаясь в сторону истока Ангары вдоль железной дороги. На протяжении почти трехсот верст встречал только древнейшие докембрийские породы лаврентьевской формации (теперь их называют архейскими), часто в отвесных утесах. Нашел прежний исток Байкала в двенадцати верстах от нынешнего. Миновал село Лиственичное, Голоустное.
Он опять шел по «следу камня», того же, что на севере Байкала. Его несказанно охватила поисковая лихорадка, когда этот «камень» исчез — опять начался перерыв, подобный обнаруженному на севере прошлым летом. Он тянулся на целых тридцать три версты. Так же, как в Кичерском, в нем удалось отыскать лишь островки лаврентьевских пород. А еще — древние же, но осадочные и более позднего, силурийского, периода. Они, несомненно, морские. Вот это была находка!.. И первооткрыватель лишился совершенно покоя на много дней, пока не обследовал всю местность.
Постепенно перед ним вырисовывалась захватывающая картина давно минувших геологических времен. Здесь, в этом перерыве, — назвал его Голоустенским — сотни миллионов лет назад был морской пролив глубиной почти в версту. Значит, неподалеку разливалось и само море. Где же границы его?..
Тут поисков предстояло не на день-два. Надо было запастись терпением, продуктами — они были уже на исходе — к тому же хотелось рассказать о своем замечательном открытии другу Машеньке. А притом узнать — скоро ли свершится чудо, и появится маленький Черский. Он не выдержал и отправился на несколько дней в Иркутск — отсюда до него было не так уж далеко.
Подъезжая к городу уже под вечер, заметил над ним темную завесу и подумал, что опять горел лес, который был рядом, за Ушаковкой. Но от первого же встречного узнал, что двадцать второго июня прошла страшная гроза, а перед тем стояла несусветная жара. Во время грозы поднялась дикая буря, загорелось несколько домов от молний, и три дня бушевал никогда еще не виданный пожар. Выгорело несколько улиц дотла.
Едва услышав это, Иван Дементьевич погнал лошадь сломя голову на ту улицу, где жил в подвале. От дома остались одни головешки. Они еще дымились. «Неужели погибла?» — пронзила его догадка. Хотел куда-то бежать, спросить кого-то о том. Но вокруг ни души. Со всех сторон бросались в глаза лишь следы неописуемого несчастья. Ноги отказались служить ему. Он задрожал, закрыл лицо руками и про себя повторял это страшное слово «неужели?»...
Перестал сознавать, где он, что с ним? Сколько так стоял, не помнит. А когда очнулся, помчался к музею, совсем забыв про лошадь. Там тоже было жуткое пепелище. Возле него увидел Николая Ивановича Витковского. Тот бросился навстречу и крикнул:
— Мавра Павловна у сестры в Александровском. Кое-как спаслась. Мать ее едва наняла подводу и увезла. А в дороге,— он неожиданно разулыбался во все лицо и торжественно закончил, — у Мавры Павловны преждевременно родился сын. Поздравляю вас с наследником!
Тут Иван Дементьевич не выдержал, обхватив друга, опять задрожал, но уже от радости. Слезы хлынули из его глаз. Когда стихли они, он скорбным взглядом обвел пепелище и глухо сказал:
— Погибло все!.. Все!
Николай Иванович, стараясь утешить его, поскорее повел к себе, но Иван Дементьевич вспомнил про оставленную лошадь, и они пошли разыскивать ее. Добрались до квартиры Николая Ивановича, он жил в пригороде, не тронутом пожаром, уже в сумерках. Уставшая и голодная, лошадь еле плелась.
После ужина, немного придя в себя после пережитого, Иван Дементьевич с трудом стал припоминать, что уничтожило пламя в музее Сибирского отдела Географического общества. Всю библиотеку его с редчайшими книгами и рукописями. Все коллекции, в том числе минералогические. Погибли находки костей, собранные в окрестностях Иркутска, в Знаменском предместье и в Нижнеудинской пещере, и присланные Дыбовским с Дальнего Востока. Последние еще совсем не изучены, а из Нижнеудинской пещеры только частично. Погибла коллекция пород, собранная летом тысяча восемьсот семьдесят восьмого года в юго-восточной половине западного побережья Байкала — одна из самых интереснейших. Она была определена только на глаз. Пропала часть коллекции, привезенной с восточного побережья в первом году его изучения. И вся коллекция пород из ущелистой части Иркута, собранная на протяжении ста сорока верст. Сгорела путевая карта, на которой он первым нанес низменности побережья от юго-западной оконечности озера до Святого Носа — на одной четверти побережья Байкала. Все это погибло безвозвратно!..
В ту ночь Иван Дементьевич не сомкнул глаз. Слишком велико было потрясение, пережитое минувшим днем. Назавтра на заре он выехал в село Александровское. Там, встретив жену и увидев новорожденного, он с трепетным волнением смотрел на них и не мог наглядеться. Машенька была очень слаба; Он избегал разговоров с ней, чтобы не встревожить. С ее согласия сына назвал в честь своего друга Чекановского Александром. Несколько дней он провел в кругу семьи. По дому помогали мать и сестра жены. Хотя они старательно ухаживали за его Машенькой, с нелегким сердцем он оставил ее и вернулся на Байкал.
Слишком много волнений пережил Черский за последние дни, и сердце его, пораженное ревматизмом, снова сдало. Начал опять задыхаться, ходил с палкой. Но с еще большим упорством продолжал исследование западного побережья. Побывал в очень живописной и интересной для него долине Еланцы, из нее проехал ч более высокую Таржиранскую. В той оказалось одиннадцать горько-соленых озер. Основательно изучив долину, пришел к выводу: прежде она была заливом Байкала, а теперь находилась на высоте сотни метров над его уровнем. Добыл еще одно доказательство того, что в минувшие времена воды озера стояли намного выше.
К осени Черский закончил, как намечал, изучение половины западного побережья, захватив и остров Ольхон. Этот большой остров, как весь Приморский хребет, был тоже сложен древнейшими породами. На северном склоне хребта нашел конгломераты. Состав их убеждал, что относятся они уже к более молодому, силурийскому периоду. Но конгломераты образуются в прибрежьях водоемов. Эти определенно отложились в морском. Тут сам собой вытекал вывод: северный склон площади, занятой породами лаврентьевской системы, представлял собой когда-то берег силурийского северного океана!..
Да и многое другое убеждало в том же. Силурийские осадочные породы прилегали к лаврентьевским там, где последние достигали значительной высоты. На стыке их в незапамятные времена было подножие древнейших гор, о которые бились морские волны. Но куда от этих кряжей распространялся силурийский океан? — Вот вопрос, который заполнил первооткрывателя. Чтобы разрешить его, надо было изучить северную часть западного побережья и пространство на восток от Байкала. Вновь увлеченный поисками, Иван Дементьевич давно уже пришел в себя от пережитых в Иркутске потрясений, взбодрился, поправился.
Закончив намеченные исследования, он вернулся в Иркутск и поселился у знакомого ссыльного соотечественника. Жена с сыном оставались в Александровском. От такой неустроенной опять жизни нервы его начали сдавать. Но работа не ждала. Надо было изучать привезенные породы, наносить на геологическую карту то, что открыл минувшим летом, писать предварительный отчет и начинать общий. Снова он просиживал в отделе Географического общества, тоже в тесном, укромном уголке по двенадцати-шестнадцати часов в сутки. А вечерами всем сердцем рвался к семье в Александровское.
Здоровье его начало резко ухудшаться. Ревматические боли во всем теле порой донимали так, что не мог встать со стула, повернуть головы. Если же подымался, то вынужден был потом присесть на полу и выжидать, когда боли немного стихнут. Но чаще, точно окаменев, надолго застывал неподвижно и не пытался даже вставать с сиденья. Едва проходил мучительный приступ, снова продолжал работу. В ней для него был весь смысл жизни.
Врачи-соотечественники принялись основательно его лечить. К весне он почувствовал себя намного лучше и отправился исследовать последнюю четверть Байкала в северо-западной части его. В ней открыл третий перерыв в поясе лаврентьевских пород около Блохина мыса шириной в двадцать восемь верст. Вся северо-западная сторона побережья оказалась «...представляющей громадный интерес для геолога, так как л ней кроется, так сказать, ключ к раскрытию доисторического прошедшего этой местности, а также и главнейших моментов развития всей Восточной Сибири».
В поисках этого «ключа» он исколесил не только северную часть западного побережья, но совершил множество экскурсий в глубь окружающего нагорья. Побывал в самом истоке Лены, а затем от устья ее притока Чанчура — до якутского тракта, пройдя три сотни верст. Затем изучил часть течения реки Манзурки, Илги и большую половину верхнего течения реки Ванай, горные потоки между Илгой и северо-восточной оконечностью Байкала. Исследовал течение Томпуды, Шириглы и других рек. Только после этого ему стало ясно, как зарождался Байкал.
Вернувшись в Иркутск в половине сентября, он сразу принялся писать президенту Всероссийского Географического общества П. П. Семенову. «Ваше превосходительство! Сообщив истекшей весной резюме моих заключений о Байкале, основанных на изучении трех четвертей окружности озера, считаю долгом после окончания исследования всей береговой полосы этого бассейна передать Вашему превосходительству те дополнения к предлагаемой теории образования озера, которые возникли как результат ознакомления с северной половиной его северо-западного берега.
Оказывается, что северо-восточная половина долины Байкала и в таком же незначительном от него расстоянии до меридиана верховья р. Прямой (карта Шварца, около мыса Покойников), откуда, принял приток, известный под названием Арбун, поворачивает на НВ, В, а затем и СВ, где она уже с большею точностью изображена на карте астронома Шварца».
Отправив это письмо, Иван Дементьевич вдруг ощутил такую усталость, как после штурма высочайшей вершины, на которую взбирался нескончаемо, а на ее макушку уже из последних сил. Походы минувшего лета вымотали их из него совершенно. Теперь уж не чаял, как закончить большую геологическую карту, десять верст в дюйме и написать текст к ней. Только крайним усилием воли заставлял себя довести и это дело до конца, венчавшее все его исследования на Байкале. Карту с текстом к ней отправил во Всероссийское Географическое общество. Впереди огромный труд — составление общего отчета за четыре года работы.
Глава 9
Теперь бы только радоваться одержимому исследователю — закончил завлекательнейшее, бесподобное многолетнее изучение «Священного моря». Но здоровье его подорвалось вконец, и не на что было жить. К довершению всего, к этому времени сменилось руководство в Сибирском отделе Географического общества. Иван Дементьевич сразу почувствовал с его стороны нерасположение к себе. Вечно устремленный в научный поиск, он был младенчески чист душой, чужд всякой обывательской пошлости, и потому она ранила его нестерпимо. Пришедшие к руководству в отделе люди оказались способными интриговать из одной лишь зависти. А ведь он был целиком в их власти. От их воли зависели все дела его.
Оставив должность консерватора музея еще в прошлом году — теперь ее занимал Витковский, — он оказался совершенно без средств. Единственной его поддержкой были гонорары за напечатанные труды в «Известиях Сибирского отдела Всероссийского Географического общества». Но их не спешили публиковать, только обещали, и он догадывался почему. Слишком болезненно чувствовал это отношение к себе, как многое подобное. Поселился с семьей в Александровске, у сестры жены. Ее семья, тоже небогатая, помогала, чем могла. Еле сводили концы с концами, Чтобы как-то существовать дальше, решили по весне взять в аренду участок земли и засеять его пшеницей.
Зимой в кругу близких Иван Дементьевич отдохнул, немного поправился. Его утехой был сынишка. Он рос подвижным, не по возрасту смышленым, очень впечатлительным. Отец все больше угадывал в нем себя, каким был в раннем детстве, и радовался тому. Но порой приходил в отчаяние оттого, что Саша всегда был худеньким, бледным — он тоже недоедал. А помощи ждать было неоткуда. Только преданный друг Николай Иванович Витковский временами уделял маленькую толику из своих скудных средств, чтобы поддержать его с семьей.
В эту зиму им было особенно тяжело. Иван Дементьевич из всех сил спешил с окончанием первой части общего отчета, просиживая над ним все дни и вечера. Его надо было вовремя представить в Сибирский отдел Географического общества. Он получился объемистым — свыше тысячи страниц. Если бы поскорее напечатали его! Тогда семья была бы спасена. Горько, неловко было думать об этом. Отчет был окончен пока вчерне. Его надо было внимательно прочесть, кое-что поправить, дополнить.
«Всех притоков Байкала я насчитал 336, они распределяются так, что на юго-восточном берегу их 202, на северо-западном 126 и на острове Ольхон 8. Главных притоков только три: Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара», — прочитывал, не торопясь, Иван Дементьевич, а перед глазами как бы проплывали все эти реки, речки и горные потоки, ключи. Его изумительная память удерживала решительно все, даже мельком виденное. Многие из этих рек он исследовал в верхнем или в нижнем течении, а иногда от истока до устья. Изучая побережье Байкала, беспрестанно совершал экскурсии в стороны от него. Маршруты по долинам рек составили тоже немалое число верст, хотя учел не все и не принял обратных путей. Не взял в расчет и маршрут по ущелистой части Иркута .в сто сорок верст. А при всем при том оказалось — прошел только по берегам рек тысячу двести верст. Да вокруг Байкала две тысячи. Только сейчас и самому начало ясно представляться, сколь грандиозное путешествие совершил за четыре минувших года.
Едва он просмотрел первые листы отчета, как Мавра Павловна начала переписывать их набело. Чем только могла, она старалась помочь своему необыкновенному спутнику жизни. Днями и вечерами они просиживали вместе за одним и единственным в их комнате столом. Просматривая страницу за страницей, Иван Дементьевич тщательно правил в них отдельные места, кое-что дополнял, вновь просматривая свои дневники и черновые записи. При этом нередко обращался со словами: «Машенька, послушай», и читал ей отдельные места. Ему хотелось знать, как воспримет их она — чуткий его судья.
Как-то незаметно для них ударила весенняя ростепель. Перед окном с крыши повисли ледяные сосульки. Как перелетная птица, почуяв приближение весны в родных краях, всеми силами стремится в них, так Иван Дементьевич рвался теперь всей душой в заветные места, которые сулили ничем не заменимую радость поисков и открытий. Но теперь он мог мечтать лишь о таких, что были доступны ему. О восхождении на горы, на гольцы и думать не смел, хотя манили они неудержимо. У него уже вызрел план двинуться этим летом по реке Селенге, пригласив с собой Витковского. Но утвердит ли Сибирский отдел Географического общества эту поездку? Согласится ли на нее Николай Иванович...
Едва минули первые дни апреля 1881 года, как Иван. Дементьевич написал Витковскому: «Милостивый государь, Николай Иванович!
Пользуясь весьма (сравнительно сносным) застоем в ходе моей болезни, я возымел намерение предложить обществу свои услуги на июнь и июль месяцы для экскурсии за Байкал, в места низменные (долины) и населенные, следовательно, но требующие пеших экскурсий в горы. Первая мысль моя при этом была о Вас именно, не успели бы и Вы двинуться со мною в те благодатные страны, хотя бы только на июнь месяц, в котором именно, если поездка эта утвердится отделом, предполагаются самые интересные и поучительные геологические работы. Поучительные... так как дело идет о разрешении вопроса, как относились воды юрского и третичного периодов Забайкалья к таким же водам Байкала, и вопрос этот составляет главную цель поездки... Вообще, я был бы очень рад, если бы Вам удалось со мной исследовать течение Селенги от станции Ильинской до г. Селенгинска, а затем и Гусиное озеро...»
То самое озеро, побывать на котором он мечтал еще четыре года назад, но тогда занят был исследованиями на Байкале. Потому просил академика Шмидта сообщить, к какому периоду относятся раковины моллюсков, найденные на Гусином Николаем Гартунгом. Теперь он стремился на это озеро еще больше. В письме соблазнял Витковского возможностью сделать ему несколько самостоятельных экскурсий после того, как поработают вместе. А затем заниматься геологическими исследованиями и самостоятельно во время ботанических экскурсий.
«Вообще же, я был бы очень и очень рад, если бы мои помышления оправдались», — писал он. Тут же просил передать прилагаемое письмо руководству отдела Географического общества, самому председателю его Н. Агапитову, в котором предлагал свою поездку на Селенгу.
Потом, не без стеснения, добавил: «Нельзя ли мне получить деньги за март месяц, хотя бы после праздников, если теперь недосуг, причем, однако, уведомляю Вас, что рублей с десять мне весьма сподручно было бы иметь и во время праздников, например, через того же Попова, который везет Вам это письмо и пробудет в городе несколько дней. Расходы у меня увеличились по той причине, что я задумал рискнуть и посеять ныне десять пудов пшеницы: не вырастет — бог с ней, на то рискнул, а вырастет, будет большая польза мне, рабу божьему — во всяком случае риск этот лучше, чем карточная игра.
Если бы Вы приехали на праздники, то мы бы и здесь призанялись маленько геологической практикой.
Так ли, иначе ли, во всяком случае примите уверения в глубоком моем к Вам уважении и искреннем желании видеть Вас в Александровском, так тем паче за Байкалом.
И. Черский»
Целых две недели он с лихорадочным нетерпением ожидал ответа друга. Наконец-то тот пришел. Николай Иванович сообщал, что надеется быть с ним за Байкалом, если поездка утвердится отделом. Отвечая ему, Иван Дементьевич благодарил за деньги, присланные до праздников, и писал, что будет с нетерпением ждать решения отдела.
Не удержался — пожаловался: «Здравие мое не к лучшему, да оно, очевидно, может быть к лучшему при этой болезни, — я пользуюсь ныне только перемирием, данным мне, пораженному и не думающему уже о победе; такого рода перемирия бывают в случаях, напр., если соответственно увеличившееся в объеме и массе сердце успевает до поры до времени преодолевать данное препятствие в кровообращении и т. п., а постоянный насморк, приливы к голове, а изредка чувствование, что вдруг сапоги сделаются несколько теснее, нежели были полчаса раньше, доказывает уже, между прочим, существование препятствия. (Под словами же «между прочим» следует понимать биение сердца, усиленного до ненормального числа ударов в данное время, одышку, стеснение в груди такого рода, что будучи в одной рубахе, вдруг кажется, будто грудь сдавливает туго застегнутой жилеткой, чувство усталости в ногах и другие мелкие неприятности)».
Вот с таким-то нездоровьем он рвался на Селенгу. В конце апреля Витковский опять выслал ему немного денег и сообщил, что их совместная поездка утверждена отделом Географического общества. Иван Дементьевич разом воспрянул духом. Эти томительные ожидания, полная неизвестность, осуществится ли его мечта, были для него мучительней любой болезни.
«Стало быть, мы действительно отправляемся вместе,— с воодушевлением писал он Витковскому, — к тому же в страну, мысль о которой соединяется во мне с восхищением: дахин, дахин! (туда, туда! — А. Г.). Доброе дело: там действительно цветут в некотором отношении лимоны и потому: дахин, дахин! Местность, обитаемая «православными», вследствие чего за харчами дело не станет...». Тут ему поневоле вспомнилось, как скверно было с этими «харчами» на всем побережье Байкала — питаться там приходилось, в основном, сухарями и рыбой, которую ловили на остановках. Туда — в благословенную страну! — приговаривал он нараспев, представляя, что ждет его впереди. Лишь в природе он царствовал умом и сердцем. В ней чувствовал себя парящим орлом.
Но прежде надо было поскорее закончить ответ. Хотя очень спешил с ним, но, как прежде, читал жене отдельные места из него. Вот и в этот вечер. Когда дошей до того вывода, который был главным стержнем всего отчета, ради которого была затрачена такая уйма многолетних усилий при исследовании побережья Байкала, он загоревшимися глазами посмотрел на жену и чуть дрогнувшим голосом сказал:
— Машенька, послушай!
Она тотчас перестала переписывать и выжидающе посмотрела на него.
Он, заметно волнуясь, начал: «По моим наблюдениям, оказалось, что весь Забайкальский и Приморский хребты, за исключением трех перерывов в последнем (Голоустенскйй, Елохинский и Кичерский), выполнены палеозойскими осадками... образуются пластами лаврентьевской формации, досилурийские складки которых простираются: в юго-западной части долины озера, как равно в Саяне (Хамар-Дабане.— А. Г.) и Тункинских альпах на запад, северо-запад, а в остальной части прибайкальских гор, следовательно, и в Баргузинских альпах на восток, северо-восток, до северо-востока... Кроме того, достаточно обильные обнажения, способствовавшие реставрации лаврентьевских складок, пересеченных долиной озера, и условия сохранения осадков различной древности, сравнительно весьма благоприятный для оценки их друг к другу и к долине озера, позволили мне построить на собранных данных посильную теорию образования Байкала и восстановить с большей или меньшей степенью вероятности некоторые фазисы истории постепенного развития этого бассейна... Начиная с трех синклинальных мульдовидных долин... в истории этой мы видим сначала превращение этих долин в три залива северного силурийского океана, затем в три озера... далее, соединение двух северо-восточных озер с юго-западным, а, наконец, полное объединение Байкала не позже мезозойской эпохи, причем в развитии долины очевидны только следы продолжительного размыва, а не провалов, глубина же озера достигалась сжиманием прежних синклиналей».
Он опять остановился и посмотрел на жену. Она, слушала, как зачарованная. Потом, точно проснувшись, тихо сказала:
— Да, да! — Я это представляю! Будто вижу, как все было. — И следом одарила его тем взглядом поклоняющейся язычницы, который проникал до самых потаенных глубин души его. Лучшего признания он и не желал.
После того они продолжали заниматься каждый своим делом. В раскрытое окно лился сильный аромат цветущей в палисаднике черемухи. Иван Дементьевич не выдержал — оставил чтение, подошел к окну и выглянул в него. Вечер был тихий, все небо в звездах. Он напомнил ему разом все те незабываемые дни, что провел в природе часто вот под таким небом.
Остро щемящее чувство тоски по ним вдруг охватило его. Он почувствовал себя большой птицей, запертой в маленькой клетке. Как бы сию же минуту хотел вырваться из нее и помчаться туда, где темное бездонное небо, большие сверкающие звезды трепещут в струях чистейшего воздуха; где вздымаются древнейшие хребты земли с их белоснежными вершинами, где загадочно шумит прибойной волной «Священное море», где столько еще нераскрытых тайн!.. Скрепя сердце, он заставил себя отойти от окна, но прежде закрыл его створки. Вернулся на свое место и продолжал просматривать отчет.
Едва закончил его, как начал отвечать на письмо своему старому другу Потанину. Григорий Николаевич жил в Петербурге и второй год был занят описанием своего путешествия по Монголии. Ивану Дементьевичу невольно припоминалась встреча с ним здесь, в Иркутске, когда он возвращался из путешествия. Столько лет они не виделись после того, как расстались в Омске. Им не хватило нескольких вечеров сряду, чтобы наговориться вволю. Григорий Николаевич рассказывал, как сидел в тюрьме с 1865 года, после нее отбывал каторгу, потом ссылку в Вологодской губернии. Свободу получил по манифесту только в 1874 году, но без права проживать в столицах. Уехал в Нижний. Новгород.
Там неожиданно узнал, что П. П. Семенов — президент Всероссийского Географического общества хлопочет о его полном помиловании. Как только оно вышло, уехал сразу же в Петербург и явился к Семенову. Тот пообещал — первая же экспедиция в Центральную Азию будет его, Потанина. А пока за небольшую плату предложил заняться составлением дополнения к «Землевладению Азии» Карла Риттера». Принялся за них Григорий Николаевич, штудируя все новейшие научные труды о Монголии. Потом с благословения того же Семенова поехал изучать природу, население, его обычаи в северо-западной Монголии, почти нетронутой исследованием.
Иван Дементьевич рассказал ему о себе, о том, что успел изучить в Восточном Саяне. Тогда-то Григорий Николаевич и попросил записывать для него легенды и сказки в Прибайкалье.
Сейчас Иван Дементьевич прежде написал о том, что, окончив отчет об исследованиях восточного побережья озера, собирается уехать в экскурсию от устья Селенги до Троицко-Савска: «Отчет я кончил только вчера, завтра уезжаю в Иркутск (31 мая), чтобы оттуда отправиться «за море».
В конце отчета я поместил некоторые примечания к титтеровскому описанию Байкала... в примечания эти попало, между прочим, и кое-что собранное собственно для Вас, Григорий Николаевич. Именно некоторое мифы, предания и т. п., относящиеся к Байкалу и Прибайкалью, кое-что и о медведе. Поэтому я не буду уже повторять это в письме, а сошлюсь на отчет, который появится в свет не позднее осени 1881 г.».
Наконец, начал писать о себе. «С моим здоровьем — незавидно: порок сердца, констатированный и доктором. Приливы крови к голове, биение сердца, одышка, головокружение, слабость в ногах, перемежаемость пульса... беспрестанный насморк. Чувствую каждый толчок сердца, не прикладывая руки на грудь, ни к какой-либо артерии...
Зимой было очень плохо, теперь же сносно, вследствие чего я и предпринял маленькое, двухмесячное путешествие по долине Селенги, т. е. самому населенному месту, причем буду иметь помощником консерватора музея Витковского, так как для пеших экскурсий я уже абсолютно не способен, разве по совершенно ровному месту и то прогулочным, городским, вполне комнатным шагом.
Я рад только тому, что за эту зиму мои финансы настолько поправились, что я успел: 1. Засеять полдесятины пшеницы. 2. Засеять большой огород картофелем, капустой и т. п. 3. Купить корову. 4. Заготовить саженей 10 дров на следующую зиму...
Как бы ни было, а верно то, что если бы даже довелось и скоро отправиться ад патрес (к праотцам.— А. Г.), то помираючи могу похвастать, что при моих занятиях, или, вернее, благодаря этим занятием, я ни разу не скучал, — он подчеркнул последние слова и продолжал: — И не знаю, что такое хандра, несмотря на то, что от жизни я требовал постоянно свежих и сильных впечатлений».
Закончив и запечатав письмо, он сидел некоторое время, раздумывая о предстоящем путешествии. Удастся ли оно? Вся надежда на Николая Ивановича Витковского. Если он сможет с достаточной прозорливостью и умением провести самостоятельные экскурсии в стороны от их маршрута, в основном, в предгорья. Потом бережно уложил свой огромный отчет более чем в тысячу страниц в папку. К вечеру все сборы были готовы, рано утром Иван Дементьевич выехал в Иркутск.
Там, в Сибирском отделе Географического общества, ему еще раз определенно обещали отчет напечатать нынешней осенью. Само по себе это было целым событием в его жизни — впервые будет публиковаться его фундаментальный труд. Но непрошено радовала еще одна мысль: получив гонорар, сможет рассчитаться с долгами, да останется в запасе изрядная сумма. Ведь почти все приобретения в своем хозяйстве смог сделать на занятые деньги, надеясь именно на этот гонорар. Вдруг бы он не получился, тогда целая катастрофа!.. А теперь все так славно складывалось. Главное же — впереди целое лето поисков в интереснейших для него местах.
Не мешкая, назавтра же он двинулся в путь с Николаем Ивановичем. Дорогой то напевал, то принимался с азартом толковать своему спутнику о том, что влечет его на Селенгу. Рассказал, как почти пять лет назад в низовье этой реки нашел клочок глинистого сланца на вершине хребта. Теперь почти не сомневался, что этот сланец родился на дне силурийского океана. Если бы на востоке удалось разыскать такие же сланцы, то можно было бы судить, до каких пределов там разливался силурийский океан. По выражению лица Николая Ивановича видел, как тот загорается желанием тоже разгадать эту немаловажную тайну. Но больше всего, не уставая, он посвящал его в секреты геологических исследований, указывая на характерное залегание горных пород, их состав.
А попадали им все древнейшие — лаврентьевской формации из архейской эры.. Однажды на очередной остановке Иван Дементьевич подвел друга к скалистым обрывам и начал увлеченно рассказывать, что встретил яркий пример того, как лаврентьевские породы располагаются в два яруса. В других местах первый из них нередко уничтожен размывом. Здесь он образован пластами доломита или кристаллического известняка вперемежку с полевошпатовыми породами — роговообманковыми, слюдяными. Рассказывая, Иван Дементьевич палкой указывал на них.
— В этой свите пород видны тонкие прослойки кварцитов, а ближе к лежачему боку — типичный байкальский очковый гнейс. Они связывают верхний ярус с нижним, который лишен известковых и доломитовых пластов. В нем господствуют граниты, кое-где переходящие в гнейсы. Среди них опять очковый, здесь он развит сильно, как впрочем, и в иных местах на Байкале.
Николай Иванович жадно рассматривал все, на что нацеливалась палка в руке Ивана Дементьевича. Он старался запомнить все накрепко. Когда возвращались в коляске, сказал со своей неразлучной добродушнейшей усмешкой, но признательно:
— Спасибо, пан Янек! Я опять прослушал у вас целую лекцию. Прохожу, университет на ходу.
— Мне тоже пришлось проходить его так, — отозвался Иван Дементьевич.
Когда коляска покатилась по почтовому тракту, он продолжал свою «лекцию» с большим подъемом. Теперь повел речь о том, что на восточном побережье эти лаврентьевские породы тянутся сплошь широкой полосой, образуя там все горы. На западном ими сложен весь Приморский хребет и все острова на самом Байкале, в том числе самый большой — Ольхон. А на северо-западном берегу полоса эта очень изменчива: то сужается до двух верст, то расширяется до сорока. На западном побережье в ней есть три перерыва. Тут Иван Дементьевич пустился так расписывать бывшие в них заливы силурийского океана, как будто довелось ему видеть, их собственными глазами. Николай Иванович слушал его с тем простодушным восхищением, с каким только дети — сказку. Все это казалось ему удивительным.
Иван Дементьевич продолжал уже другим, более деловым тоном рассказывать о том, что все найденные им на Байкале породы отнес к семи группам. К первой— самые наидревнейшие, архейские — лаврентьевской формации. Ко второй — силурийские. К третьей — девонские. К четвертой — юрские. К пятой — третичные. К шестой — четвертичные, а к седьмой — современные.
— Но лаврентьевские здесь в роли главной составной, части гор, окружающих долину Байкала, — убежденно проговорил он. — Они обладают замечательным сходством в своем строении с такими, же древними в Западной Европе и в Америке. Как вы думаете, почему?
Застигнутый вопросом врасплох, Николай Иванович по стародавней крестьянской привычке собрался было почесать в затылке, но тут же спохватился. В его небольших серых глазах появилась усмешка, она перепорхнула на неразомкнутые губы, отчего его «утиный» нос чуть сморщился. Теперь уже усмехалось все его лицо. Так с ним всегда бывало в минуты неловкости или растерянности.
— Да, пожалуй, потому,— начал он с расстановкой, машинально приглаживая волосы на затылке,— что родились в одно время и, наверно, в одинаковых морях.
— Угадали! — Рассмеялся Иван Дементьевич. — Приходилось ли вам слышать о теории Гюмбеля, Креднера и других ученых о происхождении древних кристаллических пород?
Николай Иванович только отрицательно потряс головой с таким видом, как будто хотел сказать, — где уж нам!..
— Они считали, — продолжал Иван Дементьевич, — что такие породы на земле появились в результате прямого образования их из перенасыщенного раствора в первобытном перегретом океане. Я, между прочим, тоже примыкаю к сторонникам этого взгляда.
Он внезапно умолк, обхватил руками колени и устремил загоревшийся взгляд в какую-то невидимую для его спутника даль. Глаза его темнели и казались синими. Николай. Иванович не решался нарушить его глубокого раздумья, хотя его так и подмывало расспросить о первобытном океане, в котором «варились», все изначальные породы земли. «Великое дело!»— мысленно восклицал он, пытаясь своим умом постичь эту премудрость. Любил он приговаривать это любимое присловье, когда речь заходила о таинствах природы или о том, как ученые пытаются разгадать их.
Он уже давно заметил — пан Янек после таких раздумий, как бы очнувшись, принимался увлеченно рассказывать о чем-нибудь своем — дорогом. Сейчас, по; тому -как он, обернувшись, посмотрел на него и начал, Николай Иванович догадался, что собирается рассказать, может быть, о самом заветном. Он не ошибся. Иван Дементьевич повел речь о юных движениях земной коры, которые занимали его давно и больше всего. Это они создали древнейший лик планеты и здешних мест тоже еще в архейскую эру. Проходили миллионы, сотни миллионов лет, лик этот изнашивался, дряхлел, покрывался глубокими морщинами от действия текучих вод и ветров, но главные черты его здесь сохранились. Их не так уж трудно рассмотреть сквозь густую сеть морщин, избороздивших их поперек, а точнее, диагонально.
Те самые древнейшие кристаллические породы, которые потом сминались в складки, когда земля начала достаточно охлаждаться и сжиматься. Их пласты здесь на берегах Байкала и в Восточном Саяне тоже плавно, волнообразно изгибаются. Тут Иван Дементьевич не без волнения признался другу, что открыл это после того, как со всей возможной тщательностью изучил расположение пластов лаврентьевских пород. Они, как исполинские каменные застывшие волны, следуют друг за другом, а между ними заперты долины. Таких древнейших складок он нашел полдюжины только на Байкале, они пересекают его котловину, а еще прежде обнаружил их в Восточном Саяне.
Он опять умолк, задумался. Потом с жаром начал толковать, что там, на востоке, куда они едут, вероятно, тоже встретят подобные складки. В тех местах двадцать пять лет назад побывал Кропоткин и открыл высокое плоскогорье, а на нем — древнейшие кристаллические породы. Об этом плоскогорье Иван Дементьевич заводил разговор не впервые, и Николай Иванович догадывался, что оно влечет его, пожалуй, больше, чем все иное.
Так они ехали по почтовому тракту берегом Байкала, останавливаясь изредка в тех местах, которые Иван Дементьевич хотел почему-либо показать своему спутнику. Сам он изучил их еще пять лет назад. Поиски у них начались уже в долине Селенги, когда поднялись по ней повыше. Хотя пока добирались до тех мест, успели открыть в пути еще одну складку лаврентьевских пород и назвали ее Половиной.
Долина Селенги становилась теснее, по берегам нередко встречались обнажения пород в скалистых обрывах. Чтобы осмотреть их, опытному исследователю теперь достаточно было и кратковременной остановки. Наметанным глазом он быстро схватывал все характерное в составе пород, в залегании их пластов. Забрав образцы, двигались дальше, и Николай Иванович прослушивал очередную «лекцию».
На чистейшем воздухе, занятый любимейшим делом да в обществе человека, к которому был сердечно привязан, Иван Дементьевич быстро набирался сил. Сердце уже почти не беспокоило его, а ноги хотя и болели, но в них пока особенной нужды не было. По его просьбе, Николай Иванович от времени до времени удалялся в стороны от почтовой дороги. Вернувшись, он с добросовестностью старательного ученика рассказывал о том, что видел, нашел. Сам Иван Дементьевич тоже не терял попусту ни минуты. Вооружившись палкой, неспешным шагом пускался в путь то по тракту, то в долины, не очень заваленные булыжником.
Как-то после переезда через Селенгу Николай Иванович совершил небольшую экскурсию, а потом с радостью рассказал, что нашел плитки песчаника. Они виднелись из-под толщи пород. Но каких? Этого он не знал. Судя по принесенным им кускам песчаника, Иван Дементьевич уже не сомневался, что порода эта древняя, притом осадочная. Но какие залегали над ней? Для него это было очень важно. Если бы он мог своими глазами увидеть их, но путь к ним был ему недоступен. Вот тут-то он впервые испытал муки древнего мифического героя Тантала, умирающего от жажды посреди воды.
Чем дальше продвигались они на восток, тем чаще он испытывал эти муки, стараясь не выказывать их, чтобы не огорчать Николая Ивановича. Тот из всех сил своих старался раздобыть все, о чем бы ни просили его. Но ему нередко недоставало опыта в геологических поисках. Сам Николай Иванович не однажды думал: «К моим бы ногам да в придачу его голову — великое бы дело!»
Однажды неподалеку от Нижнеудинска, на берегу реки Уды, Ивану Дементьевичу посчастливилось самому найти конгломерат, образовавшийся в третичный период. Он пережил взрыв радости, как в прежние годы, когда мог ходить неутомимо и подниматься на гольцы. Конгломерат «поведал» ему, что в третичное время до этих мест доходили воды Байкала. Это была первая из находок, ради которых он стремился в Забайкалье.
А вторая отыскалась много дальше — в системе реки Джиды. Там на горных вершинах Николай Иванович встретил клочки глинистого сланца. Рассматривая принесенные им куски этой породы, Иван Дементьевич ликовал. Сам он встретил такой же сланец впервые пять лет назад в низовье Селенги, а много позже в Голоустенском проливе силурийского океана. Сланец этот был совершенно таким же, как привезенный Чекановским с Нижней Тунгуски. Но Александру удалось там в его пластах отыскать ископаемые, остатки, по которым он совершенно уверенно отнес его к силурийскому периоду. Ивану Дементьевичу не повезло с поисками этих остатков на побережье Байкала, а сколько он затратил усилий на то!.. И здесь разыскать их не удавалось, но сомнений почти не было — этот глинистый сланец образовался на дне силурийского океана. На древность происхождения его указывало то, что покоился теперь или на вершинах гор, или в бывшем проливе силурийского океана, около нынешнего устья реки Голоустной. Сам океан в то время разливался, конечно, и здесь, на окраинном хребте высокого плоскогорья.
Мысль о том будоражила воображение ученого. Перед его глазами посреди окружающих лесов, долин и гор, как бы сквозь них проступало иное — древний бушующий океан. В этом особом состоянии полета мысли и воображения, которое всегда доставляло ему несказанное наслаждение, он как бы поднимался над землей и уносился в головокружительные дали. Николай Иванович чутьем угадывал его особое состояние и бесконечно был рад тому, что вызвал его своей находкой сланца. Да и сам он тоже был взволнован, представляя со слов друга, что она значила. «Великое дело!» — приговаривал он про себя.
Вскоре Иван Дементьевич был захвачен иным. Он давно приметил, судя по расположению пластов лаврентьевских пород, что в этих местах должна простираться еще одна складка их. И вот уже сомнений в том не было. Он решил, что ее можно назвать Китойско-Кяхтинской. Теперь все думы его опять были о древних складках. Проехав по тракту до самой монгольской границы и совершив в стороны от него экскурсии по долинам рек Джиды, Хилка и Китоя, он постепенно приходил к волнующему его выводу. Те складки древнейших пород байкальского и саянского простирания, которые открыл прежде, оказывается, одним своим концом достигали высокого плоскогорья и, продолжаясь в нем, как бы врастали в него. А Кропоткин считал его сплошным поднятием. Высокое плоскогорье... — самый роскошный геологический «лимон», давным-давно манивший к себе Ивана Дементьевича. Только теперь он представлял себе его во всей «красе». Оно вместе со своей северо-западной каймой из хребтов Восточного Саяна и Прибайкалья — древнейший осколок суши, досилурийский материк Восточной Сибири, на северо-восточной окраине которого потом развился Байкал. А воздвигло эту гигантскую глыбу мощное боковое давление земной коры. Когда оно истощилось, она осталась неподвижной навсегда, сохранив замечательную неподатливость к разрушительной силе текучих вод и ветров. За всю ее фантастически долгую жизнь морские волны омывали ее окраины и в юре, и в девоне, и когда до них доходил северный силурийский океан. Но как знать? Может быть, она возвышалась уже посреди первобытного океана?..
А до каких же пределов дальше на восток разливался северный силурийский океан? Это было пока тайной. Она манила к себе неудержимо. Но... была уже в разгаре осень, и пора было возвращаться домой.
Обратно ехали тем же почтовым трактом, нередко мечтая о своих будущих исследованиях водораздела между Селенгой и Витимом, где могли быть следы, оставленные силурийским океаном. Добравшись до устья Селенги, Иван Дементьевич решил с лодки исследовать тут небольшой участок побережья Байкала до реки Кики, который прежде не смог изучить из-за нездоровья. Когда обследовал и этот участок, то уже не осталось на берегах «Священного моря» ни пяди земли, где бы не ступала нога его.
Глава 10
В Иркутск он вернулся бодрым, поздоровевшим, окрыленный новой мечтой об исследовании Селенгинско-Витимского водораздела. Но утвердит ли Сибирский отдел Географического общества его поездку с Николаем. Ивановичем в те места на следующее лето? С этим вопросом он, прежде всего, и направился в Сибирский отдел. Там его встретили без радости и разговор вели неохотно. На его предложение о поездке ничего определенного не ответили. Но вдруг оглушили совершенно неожиданной новостью: его отчет об исследовании восточного побережья Байкала свыше тысячи страниц не только не напечатан, а неизвестно, когда будет опубликован. Это была катастрофа.
В Александровск Иван Дементьевич возвращался не то что с подрезанными, но с обломанными крыльями. На что теперь жить?.. И вряд ли удастся еще раз побывать в Забайкалье?..
Наступила глубокая осень. Иван Дементьевич спешил с отчетом об исследованиях минувшего лета. А положение было безвыходно. Скрепя сердце и подавив чувство стыда, он начал писать Витковскому: «Милостивый государь Николай Иванович. Будьте добры, Николай Иванович, спросите у кого следует (а теперь я сам не знаю, у кого следует спрашивать лично), не нужна ли к следующему номеру «Известий Сибирского отдела Географического общества» статья, — он остановился, подумал, что при нынешнем отношении к нему в отделе, ее, наверное, не примут, а жить-то совершенно не на что. Вся надежда на Николая Ивановича. Он продолжал: — То будьте добры любезно приискать деньги какими-нибудь другими путями и снабдить впредь до получения отдельских, за что «вечно будем молить господа бога за Ваше здоровье... Заработанных-то денег у меня целая куча, но все еще в бумагах; в Петербург я выслал (б) «дополнение к Риттеру» на 150 рублей да для Отдела есть на 120 р. — итого 270 рублев, что же касается наличных рублев, то от ных, покамест, бог миловал.
Теперь еще пишу отчет о нашей с Вами поездке за Байкал, и тут уже написано рублей на 20, — стало быть, капиталист, но без денег. Кстати, с этого месяца начну высылать Вам забайкальскую коллекцию пород». — Он остановился и горько усмехнулся: к самому заветному, что составляло весь смысл жизни его, вынужден примешивать эти злосчастные рубли. А без них никак не обойтись. Надежда только на гонорары. Затея с хозяйством не удалась. Небогатый урожай пшеницы пришлось продать, чтобы рассчитаться . с долгами.
Мучительной выдалась для него эта зима. Нужда-то была еще не так страшна, как моральные пытки. Едва забывался за обработкой собранных минувшим летом образцов или составлением общего отчета об исследованиях на Байкале, как они снова выбивали его из творческой колеи. Ему теперь позарез нужен был целый ряд научных трудов. Некоторые были в библиотеке Сибирского отдела Географического общества, но в присылке их ему постоянно отказывали, доводя порой до отчаяния. Заниматься ему приходилось в условиях «литературного голода», как говорил об этом: не однажды. Надежды на поездку в Забайкалье оставалось все меньше, а к весне она пропала совсем. Жизнь его, одержимого следопыта, зашла в тупик. Здоровье у него все больше сдавало, плохо было с сердцем. Впереди никакого просвета.
Спасение негаданно пришло из столицы. Однажды он получил письмо из Всероссийского Географического общества. В нем сообщали, что решено провести международный полярный год. Потому Географическое общество организует несколько полярных станций, на которых ежедневно должны вестись метеорологические наблюдения. Одна из них будет на Нижней Тунгуске, в селе Преображенском. Ему предлагали поехать на эту станцию. Иван Дементьевич готов был ехать теперь и на край света. Он тотчас ответил согласием.
Едва наступило тепло, он с семьей двинулся по якутскому почтовому тракту до поселка Качуг. Из него на баркасе по Лене плыли до Киренска. Очутившись снова на природе, Иван Дементьевич становился все бодрее. Он уже мечтал, как на Тунгуске займется и геологическими исследованиями. Из Киренска верхом на лошадях с женой и трехлетним Сашей он добирался по таежной глухомани с перевала на перевал до Преображенского. На этом пути с былым азартом собирал образцы пород, примечал повсюду, какие следы оставили разрушительные эрозионные силы. Он то и дело обращался к жене со словами:
— Машенька, посмотри-ка, а ведь это... — и пускался с увлечением толковать ей о том интересном, что увидел.
Она тоже, очнувшись от нескольких лет домашнего заточения, с жадным любопытством присматривалась ко всему вокруг. К Преображенскому они приближались полные светлых надежд на будущее, в нем их ждала исследовательская работа, а что может быть интереснее на свете? Но это убогое, маленькое поселение произвело на них удручающее впечатление.
Приютил их на первый случай в школе местный учитель, уступив крошечную комнатушку. В ней было так тесно, что негде было поставить кровать. Спать пришлось на полу. С питанием тоже было скверно. А несмотря на то, они принялись за метеорологические наблюдения сверхдобросовестно, с большим увлечением. Вместо положенных по инструкции трехкратных в течение дня, они вели их ежечасно. Измеряли атмосферное давление, температуру воздуха, направление ветров. Иван Дементьевич радовался, видя, как жена делает это по всем правилам науки. Но особенно по душе ему была полнейшая независимость в работе. Вот где он мог наконец-то опомниться и отдохнуть от всего того, что испытал в последний год в Иркутске по милости своих недоброжелателей из Сибирского отдела Географического общества.
Вскоре он начал и геологическое изучение окрестностей, вначале самых ближайших, потом стал уходить все дальше, опираясь на палку. Жена заменяла его, самостоятельно проводя метеорологические наблюдения. И при крайних неудобствах, при недостаточном питании он входил в привычную следопытскую колею. Так прошло лето, осень.
Зима загнала его в тесную клетушку и обрекла на самое страшное — на сидячую жизнь и нередко без дела. Нечего было читать, не о чем писать. Все материалы прежних исследований, которые надо было еще обрабатывать, оставлены в Александровском у родственников жены. А метеорологические наблюдения здесь поглощали далеко не все время. Иван Дементьевич все больше чувствовал себя орлом, запертым в такую клетку, в которой невозможно и шевельнуться, не то что взмахнуть крыльями.
Ко всему морозы постоянно стояли сорокаградусные, нередко доходя до пятидесяти и выше. В комнатушке за ночь так выстывало, что к утру вода в деревянной бадье покрывалась ледяной, коркой. Очутившись здесь, он оказался в условиях, страшных для его здоровья. Вынесет ли их? Как он теперь жалел, что не поехал с Дыбовским на Камчатку. Но, может быть, еще не поздно?..
Он не выдержал и написал Витковскому. Вначале — о здоровье, что оно сносно, теперь гораздо лучше, чем в Иркутске, хотя сердцебиения продолжаются. Вечерами он мог сосчитать число ударов сердца, не ощупывая пульса. Явление это для него не понятно, но убеждает в том, что загнездившаяся болезнь, по-видимому, разрастается. А следом — «Да ну его! Что бы там не гнездилось, а пока живется и работается, так будем жить, пить чашу жизни. Пока стучит сердце в груди — прочь тоскливые жалобы...» — он все чаще приговаривал эти слова, подбадривая ими себя. Вот и в письме не удержался.
«Теперь — о Камчатке. Покорнейше, даже всепокорнейше прошу Вас сию же минуту после получения этого письма телеграфируйте в Петербург следующее: «Петербург Академия наук Черский согласен. Условия: высшие точки вулканов не обязательны. Отвечать скорее — когда ехать, каким путем». При том настроении, которое наводит на меня сидячая жизнь, да еще при сознании о существовании некоторых лиц, не вполне дружелюбно посматривающих на мои проекты, можно телеграфировать на каждый случившийся вопрос, что Черский согласен даже на Луну или на Юпитер». Сидение здесь ему было уже совершенно невмоготу и готов был бежать куда угодно, но только не в Иркутск.
А случилось так, что снова очутился в нем. Поездка на Камчатку не состоялась. Летом 1883 года он вернулся с семьей в опостылевший ему Иркутск. С Сибирским отделом Географического общества пришлось ему расстаться навсегда. Работать в нем для него было уже свыше сил. А жить-то не на что. Друзья подыскали для него место приказчика в мелочной лавке, в Рабочей слободке. Хозяином ее был тоже поляк из политических ссыльных. И началась для ученого, уже признанного в столице, новая — невероятная для него жизнь.
То, чем он трепетно и страстно жил здесь более десяти лет, кончилось. Воспоминания о тех годах казались ему прекрасными грезами, они преследовали его на каждом шагу. Отправляясь утром в мерзкую для него лавку, думал о том, как бывало в такую же пору шел в музей. Нет! — Лучше не вспоминать о том. А думалось. против воли. Но больше всего донимали несбывшиеся мечты снова побывать в Забайкалье, исследовать долины рек Онона и Ингоды. Как нестерпимо хотелось ему очутиться вновь в неизведанных местах. Но это уже недоступно и не станет возможным когда-нибудь.
Он все больше чувствовал себя обреченным исследователем. А без научных поисков как же бессмысленна для него жизнь!.. Этой жизни он выдержать больше не мог — началось тяжелейшее нервное заболевание. А вскоре, как следствие этого, потеря зрения — самое страшное для него. Он все больше приходил в отчаяние. А друзья его опасались, как бы не кончилось все это душевным расстройством.
Врачи из ссыльных соотечественников и, прежде всего, доктор Лаговский, известнейший в городе, запретили ему всякую умственную работу на целых полгода. Это было для него уже совсем непереносимо. Тогда они решительно посоветовали ему оставить Иркутск. Но легко сказать — оставить! А на что выехать отсюда? Его большой отчет об исследовании восточного побережья Байкала все еще не собираются печатать в «Известиях Сибирского отдела Географического общества», хотя вполне определенно намеревались это сделать еще три года назад. Больной чувствовал себя в заколдованном круге, из которого не было решительно никакого выхода.
Николай Иванович Витковский начал уже терять голову, не зная, как спасти друга. Но однажды его осенило — написать академику Шмидту, тот должен помочь. И он начал слать письмо за письмом Фридриху Богдановичу, умоляя пристроить Черского на какую-нибудь работу в Академии наук и тем спасти его от гибели. Тот сразу отозвался и принялся за хлопоты, да не так-то просто было устроить Черского в столице.
Настала весна 1885 года. Генерал-губернатор Восточной Сибири получил из комитета правления Императорской Академии наук бумагу. В ней говорилось:
«В соединенном заседании физико-математического и историко-филологического отделений Императорской Академии наук 22 января сего года положено поручить Ивану Дементьевичу Черскому. произвести летом текущего года геологическое исследование местности по сибирскому тракту.
Вследствие сего Комитет Правления Императорской Академии наук имеет честь покорнейше просить Ваше сиятельство, для обеспечения г. Черскому средств к успешному исполнению порученных ему ученых исследований, выдать на его имя открытый лист и отослать оный в Сибирский отдел. Императорского Русского Географического Общества для передачи по принадлежности».
Когда Иван Дементьевич узнал об этом, для него словно заря начала заниматься. Но она тут же потухла. Что он мог сделать с одним этим открытым листом? Им приписывалось местным властям оказывать ему посильное содействие, в основном-то в предоставлении транспорта. А на что вести исследования и ехать в столицу? Он получил приглашение на работу в Академию наук. Но денег на дорогу она не обещала! Незадолго до того он по манифесту получил, наконец-то, свободу. Был избавлен навсегда от полицейского надзора. Кончилась его двадцатилетняя ссылка. Теперь мог ехать, куда захочет. А на что? Проклятые деньги! Где их взять?.. Он снова впадал в отчаяние и не видел выхода из своего заколдованного круга.
Тут ему на помощь опять пришли друзья-соотечественники. Они отыскали среди своих ссыльнополитических довольно состоятельного человека И. Завишу. Убедили его уделить Черскому денег, необходимых для выезда из города и тем бы спасти выдающегося ученого. Тот охотно согласился.
Наступил июнь 1885 года. Главное управление Восточной Сибири получило прошение Сибирского отдела Географического общества. В нем покорнейше просили о выдаче «...подорожной Ивану Дементьевичу Черскому, командированному Императорской Академией наук для геологических исследований по сибирскому тракту от Иркутска до Екатеринбурга с поворотом на Енисейск и Минусинск».
Получив эту подорожную и деньги от Завиши, Иван Дементьевич покинул с семьей Иркутск, не медля и лишнего часа. Ни одна певчая птица не вылетает с таким ликованием по весне из клетки, с каким ученый оставлял город. Первое время в пути он чувствовал себя подобно смертельно больному, впервые поднявшемуся с постели, когда несказанно радует все, что прежде совсем и не замечалось.
По сибирскому тракту за Иркутском ехали по тем местам, которые он исследовал десять лет назад. Тогда ему казалось — в большом прогибе земной коры в юрское время разливалось море. Теперь он все больше склонялся к мысли, что в том периоде вместо него уже было гигантское, вероятно, соленое озеро. Очутившись в родной стихии научных поисков, Иван Дементьевич как-то разом очнулся от кошмара городского своего бытия последнего года. Он с азартом вел наблюдения в местах остановок на самом тракте, но уходить в стороны от него, даже опираясь на палку, еще не мог. Тогда заменяла его жена. Она неутомимо совершала небольшие экскурсии в места, особо интересные для него, и приносила образцы пород, добросовестно рассказывала обо всем увиденном. С ее слов он записывал в дневник, а также все то, что примечал сам.
Как-то Мавра Павловна принесла куски красноватого песчаного сланца.
— Балаганская юра! — обрадовано воскликнул Иван Дементьевич. Сколько взметнула она в памяти его! И то, как впервые увидел ее в руках Александра Чекановского, как находил потом сам, и то счастливейшее время, когда мог совершать пешие переходы на десятки верст, взбираться на гольцы. Сейчас эти куски сланца казались ему таким же талисманом, как та раковинка, которую нашел на Ишиме двадцать два года назад. Он бережно упрятал их в отдельную коробку, чтобы, не дай бог, не потерять.
Семилетний Саша с очень серьезным лицом не сводил с него глаз. На следующих остановках он стал куда-то отлучаться. Иногда увязывался за матерью, когда она отправлялась в очередную экскурсию. А в пути что-то упорно высматривал. Если она спрашивала его о том, молчал. Только загадочная улыбка появлялась на его лице. Как-то вернувшись из такой экскурсии, он с торжествующим видом протянул отцу осколочек красноцветной породы.
— Папочка! Это — тебе! Балаганская юра? Да? Я запомнил ее! Иван Дементьевич, немало подивившись, подтвердил догадку сына и, повернувшись к жене, с ликующими нотками произнес:
—Слышишь, Машенька? Он запомнил! Какой глазок!.. Наш сын будет натуралистом!
С того случая он старался всячески развивать прирожденную наблюдательность сына и радовался, когда выказывалась она.
Понемногу добрались они до реки Бирюсы. Тут, на остановке, Иван Дементьевич с воодушевлением пустился толковать жене, что миновали огромный по протяженности уступ, который начинался от прибайкальских гор. Его удалось ему открыть еще в тот год, когда изучал почтовый тракт от Иркутска до этих мест. Потом он убежденно сказал, что теперь надо ожидать — впереди встретится еще такой же и, возможно, не один. Мавра Павловна не однажды поражалась его прозорливости. И в этот раз еще убедилась в том же. Пока они ехали до Западно-Сибирской низменности и в самом деле открыли еще два уступа, но более низких. Один из них был между Бирюсой и Чулымом, а второй тянулся от Чулыма до Оби. На этих уступах, судя по найденным породам, в юрский период разливалось три огромных озера: Томское, Енисейское, Иркутское. Последнее соединялось с Байкалом. Названия этим озерам дали тут же в пути.
Иван Дементьевич уже не вспоминал о скверном своем иркутском житье последних двух лет. Он снова жил полно, увлеченно и заметно поправился. Вместе с женой иногда отправлялся в недалекие экскурсий. А вечерами у костра подолгу беседовал с ней о геологическом строении тех мест, по которым продвигались, но чаще и более увлеченно — о гигантском древнем море. Только теперь он понял, судя по тем осадочным породам, которые нашли в этом пути, не в юрском периоде оно затопляло здешние места, как считал Чекановский, да и сам он в прежние годы. Девонским было то море и разливалось здесь в палеозойскую эру, а не в среднюю. Осадочные породы, отложившиеся на его дне, ему довелось встречать и раньше в долинах рек на северо-запад от Байкала, у подножия высокого плоскогорья. То море затопляло всю Южную Сибирь. А высокое плоскогорье с его отрогами Саянских альп и прибайкальских хребтов возвышалось над ним. Когда это море исчезало, Южная Сибирь больше не затоплялась морскими водами. Мавра Павловна слушала с тем же выражением на лице, как когда-то о дне первобытного океана, вознесенного за облака.
На Урале Ивана Дементьевича поразил старческий, изношенный рельеф его. От прежних мощных хребтов остались лишь жалкие остатки. При виде их думалось ему: велики же силы текучих вод, ветров и солнца! Незаметные на первый взгляд, они за миллионы лет способны смыть, развеять даже самые высокие складки на лике земли. Невольно вспомнилось, как впервые был поражен их работой в Саянских альпах, взойдя на голец. Тогда воскликнул: «Могучая была сила, и велики, ее разрушения!» Теперь он готов был повторять это вновь и вновь. На всем пути от Иркутска он всюду видел следы ее действия. Немало дивился тому, что ученые, кроме П. А. Кропоткина, почему-то упускали ее из вида. А между тем именно она — главная сила в развитии эрозионного рельефа земли с древнейших времен. Об этом он тоже не раз толковал с женой, незаменимой своей слушательницей.
Глава 11
В Петербург они приехали, переполненные новыми, яркими впечатлениями. Иван Дементьевич был оживлен, весел и чувствовал себя почти здоровым. В Академии наук его встретили как долгожданного, желанного гостя. Все называли его лучшим геологом и палеонтологом Сибири. От похвал «в глаза» он страшно смущался. А тут прямо-таки благодатным дождем начали низвергаться на него почести: одно общество ученых за другим избирало его своим членом, начиная с Императорского Географического. В Академии наук предложили работать в богатейшем зоологическом музее России. Ему наперебой предлагали выступать с докладом и рассказать о своих исследованиях. Но он и в Иркутске-то стеснялся делать их на заседаниях Сибирского отдела Географического общества, соглашаясь на то лишь изредка после усиленных просьб. Это в прежние годы. А в последние-то был окружен просто крещенским холодом. Здесь же повеяло на него благодатным душевным теплом. Он вскоре же принялся за работу. Опять просиживал в музее от зари до зари.
А вечерами дома он по поручению Всероссийского Географического общества продолжал готовить дополнения к капитальному труду Карла Риттера «Землеведение Азии», которые начал еще в Иркутске. В основу их положил собственные исследования. Только теперь он смог описать все, что открыл на западном побережье Байкала и в Восточном Саяне. Не однажды просиживал до глубокой ночи, размышляя вновь о происхождении Байкала. Ему представлялось: когда дно мирового океана начало вспучиваться, силурийский стал отступать к северу и оставил после себя три озера на месте нынешнего «Священного моря». Вода их постепенно опреснялась за счет речных потоков. Уровень ее со временем так повысился, что образовалось дно озера, куда большее, чем нынешний Байкал. Его воды покрывали и Тункинскую долину, и Селен-гинскую. Ангара с Енисеем были в то время могучими реками. По ним-то и проникли в Байкал тюлени из северных морей, они ведь прекрасные пловцы. И совсем-не надо было предполагать для объяснения того, как они очутились в этом озере, что оно когда-то было фиордом Ледовитого океана. Нет, Гумбольдт и Миддендорф явно ошибались, допуская именно это.
Так, словно беседуя с самим собой, Иван Дементьевич увлеченно писал свои дополнения к «Землеведению Азии» Карла Риттера. Перед глазами его, как наяву, вставали беловершинные гольцы Тункинских альп, Хамар-Дабана, Высокое плоскогорье в Забайкалье. Все вместе они были единым целым — огромным сибирским щитом, порожденным в невообразимой глуби архейских времен. А слагались «...из древнейших пород мира. Все, что лежит вокруг этого щита: Дальний Восток, Сибирь до самого Урала и Китай — это значительно более молодые образования». Теперь он смог сделать такое заключение. В столице удалось, наконец-то, познакомиться с теми научными трудами, к которым не имел доступа в последний год в Иркутске по воле интриганов из Сибирского отдела Географического общества.
Над своими дополнениями он работал несколько лет сряду, описав все изученное им на западном побережье Байкала и в Восточном Саяне. Они едва вместились в два больших тома, изданных уже после его смерти. Готовя их к выходу в свет, П. П. Семенов писал: «Фундаментальный труд Черского имеет тем большую ценность, что он в нем охватил все свои наблюдения, произведенные во время длительного пребывания в Прибайкалье. Эти наблюдения, которые до сих пор нигде не вышли из печати, остались бы необработанными в столе этого талантливого исследователя, если бы мы не пригласили его для сотрудничества».
Да, остались бы и, вероятно, сгнили бы бесследно. Сам-то Иван Дементьевич понимал это лучше, чем кто-либо. Потому отдавался этой работе до истощения сил своих, но с большим наслаждением. Он как бы вновь проходил свой путь исследователя, уносясь умом и сердцем в заветные для него места. Мавра Павловна переписывала набело его дополнения к сочинению Риттера. И, как бывало в Иркутске, сидя за одним столом, он нередко обращался к ней со словами: «Машенька, послушай...» И так-то славно им работалось вдвоем. Нужда их теперь не донимала, нашлись добрые товарищи и друг Н. М. Ядринцев. С ним Иван Дементьевич был знаком еще с Омска через Потанина. Теперь Ядринцев стал частым гостем в их доме. Жизнь пошла ровно, спокойно.
В том году, когда Черский приехал в Петербург, на Новосибирские острова отправилась экспедиция под руководством А. Бунге и Э. Толля. За два года она собрала небывало богатую коллекцию костей ископаемых млекопитающих числом в две с половиной тысячи. Равных этой наука еще не знала. Но что более всего удивляло — в ней оказались кости совсем не северных животных: тигра, дикой лошади, марала и других.
Эту коллекцию Академия наук поручила обрабатывать Ивану Дементьевичу. К тому времени он считался признанным палеонтологом — лучшим знатоком ископаемой фауны четвертичного периода. Вот когда в нем с прежней силой вспыхнула страсть к изучению «допотопных животных». Опять он просиживал за исследованием их костей все дни напролет. Вечерами начал писать обширный сводный труд об ископаемых млекопитающих четвертичного периода. В нем использовал результаты исследования не только находок с Новосибирских островов, но и собственных — окрестностей Иркутска, Знаменского предместья его, Нижнеудинской пещеры. А кроме того, все коллекции, изученные им в разных городах по пути в Петербург и в столичных музеях.
Со временем об этом труде ученые отзывались с величайшей похвалой. Профессор Нейринг назвал его классическим и считал, что он должен быть переведен на все европейские языки. Труд этот вмещал все, что было найдено при раскопках четвертичных отложений в Европейской России и в Сибири. Равного ему еще не было. Бенедикт Дыбовский писал, что если бы Черский оставил после себя лишь этот труд, то все равно заслужил бы благодарную память потомков. Но признание этого труда так же, как двухтомного дополнения к сочинению К. Риттера, пришло уже после смерти Ивана Дементьевича.
А при жизни он снискал себе громкую славу в столице после того, как весной 1886 года сделал доклад в Петербургском обществе естествоиспытателей, так долго ожидаемый ученым. Явно смущаясь, негромко, но с тем страстным увлечением, с каким всегда вел исследования, он начал рассказывать. Древнейшие участки суши — вот предмет, который постоянно занимал его внимание. Он говорил о нем, как довелось ему увидеть многое наяву и в воображении.
Вот Высокое плоскогорье за Байкалом, Саянские альпы, Хамар-Дабан — уцелевший участок земной суши древнейших времен, первобытный материк, возвышавшийся посреди древних морей. От него к западу раскинулось еще одно гигантское плоскогорье, но более низкое. Оно тремя уступами, постепенно понижаясь, простирается до самой Оби. Все это — древнейшие в мире участки суши, возникшие в первобытные времена существования земли. Но они не единственные в Азии. С юго-востока к ним примыкает нижнее плоскогорье Гоби с окраинным хребтом Хинганом и плоская возвышенность в системе реки Сунгари с окраинным хребтом Сихотэ-Алинем.
Увлекаясь все больше, Иван Дементьевич начал рассказывать о тех юных движениях земной коры, что породили основные черты современного лика Азии. Тут он снова вернулся к Высокому плоскогорью. Этот древнейший материк окружен сбросами и глубокими трещинами. Ими он отделился от низшего плоскогорья. При этом образовался уступ, который дал начало Яблоновому и Становому хребтам.
Новая картина вставала перед слушателями; Горные цепи на две с половиной тысячи верст тянутся к западу от Байкала в системе Лены и Ангары. Они тоже простираются параллельно вогнутости северо-западного склона Высокого плоскогорья. Отсюда вывод: они образовались в более поздние времена, чем этот древнейший материк, из пластов пород, которые горообразующие силы прижали к его жесткой плите.
А к юго-западу от него, где расположен Западный Саян, растянувшийся почти на тысячу верст, линия горных складок меняет свое направление. Она еще раз изменяется в алтайских цепях гор. Но во всех трех горных системах один и тот же характерный изгиб, вогнутой стороной они обращены к северу. Первый изгиб он назвал саянским, второй — байкальским, а третий — алтайским.
Этот доклад Черского довелось тогда слышать молодым исследователям В. А. Обручеву и Л. С. Бергу, Он оставил в их памяти неизгладимый след. Став академиком, Берг вспоминал: «Черский дал схему строения Азии, составившую эпоху в изучении этого материка». Знаменитый австрийский геолог Э. Зюосс назвал эту схему изумительной. Многие годы спустя и академик В. А. Обручев писал: «Велико значение большого труда И. Д. Черского, содержащего описание фауны четвертичных млекопитающих и характеристику отложений этого периода. Его наблюдения в Околобайкалье и на Высоком плоскогорье Забайкалья, соображения о тектонике последнего и его северо-западного окаймления положили основу нашим современным знаниям об этой области, из которой исходили все дальнейшие, более подробные исследования новейшего времени». Он считал себя его учеником и преемником в геологическом изучении Сибири.
Разговоров в столице о том докладе Черского было много. И самому Ивану Дементьевичу он тоже запомнился навсегда. Впервые довелось ему выступать перед такими учеными мужами.
Едва он закончил рукопись фундаментального своего труда по ископаемым млекопитающим четвертичного периода, как Академия наук поручила ему новую работу. Он и сам жаждал ее давно — подготовить к печати труд Александра Чекановского об его исследованиях на Нижней Тунгуске. Принявшись за него, Иван Дементьевич с трепетным вниманием просматривал дневники, черновые наброски друга. Начал изучать и образцы пород, ископаемые остатки, найденные им на этой реке. Особенно заинтересовали его раковины моллюсков силурийского периода. Они невольно наводили на раздумья о северном силурийском океане, который разливался и там, где течет теперь Нижняя Тунгуска. До каких же пределов от нее он доходил на северо-востоке? О какие древнейшие участки суши били его волны? Там столько мест, где не ступала еще нога геолога и конечно же — нераскрытых тайн!.. Мечта о путешествии на Крайний Север, в район Яны — Индигирки — Колымы все больше овладевала им. Но о ней до поры не решался говорить даже своему другу Машеньке.
Как раз в это время Академия наук задумала послать экспедицию на север Якутии, в долины Хатанги и Анабара, где, по слухам, были найдены туши двух мамонтов. Потом дошло известие — их растащили уже дикие звери. Иван Дементьевич не выдержал и решил предложить свой план. Послать экспедицию для геологических и палеонтологических исследований в бассейнах рек: Яны, Индигирки, Колымы сроком на три года. А начальником ее отправиться самому.
Но прежде надо было посоветоваться с женой. Не без волнения начал разговор с ней. Опасался, что станет отговаривать — уже немолод, сорок седьмой год пошел, а главное, нездоров. Но едва начал толковать с ней, как вдохновенно повел речь о тех дальних благословенных странах, которые сулят столько неизвестного!
— Едем! — закончил он. — И вместе с тобой, и сыном, а еще прихватим племянника Дугласа.
— Что ж! — произнесла она, подумав, и посмотрела на него загоревшимися глазами. Лучшего благословения, чем этот ее взгляд, он и не желал. В порыве горячей благодарности обнял ее, расцеловал. Потом запел:
— Туда, туда, где нас ждут необыкновенные открытия.
Академия наук утвердила предложенную им экспедицию. Первого февраля 1891 года он с женой, племянником и одиннадцатилетним Сашей тронулся из Петербурга, махнув рукой на грипп, которым заболел перед тем. Но едва выехали за городскую заставу, болезнь разыгралась вовсю. Как он ни боролся с ней, а болезнь свалила его надолго. На остановках он уже не мог выйти сам из кибитки — выносили на руках. Сердце его начало сильно сдавать, и беспрестанно мучил кашель.
Мавра Павловна, опасаясь, что он не выдержит долго так в дороге, однажды осторожно спросила:
— Может... вернуться?..
— Машенька! — с укоризной, слабым голосом воскликнул Иван Дементьевич.— Ты ли это говоришь? — Нет! Едем! — Глаза его горели лихорадочно, неистово.
Ему вспомнился разговор с Ядринцевым. «Когда я был необычайно рад, что еду в эту экспедицию и начал толковать ему о том, он смотрел такими испуганными глазами, будто отправляюсь в свой последний путь. Конечно, он, прежде всего, видел, какой я истощенный, хилый, нервный, а не понимал того, что силен я духом, а не телом!.. Но Машенька? Она-то должна знать о том! Почему же предложила вернуться? Разве я безнадежен?..»
Вернуться? — Нет! В Петербурге все дела окончены, там нечего больше делать. — Ему представился грязный домишко на Васильевском острове, в котором снимали небольшую квартиру пять лет. От него неподалеку кладбище. На этом кладбище спасался в минуты отдыха от городской сутолоки и шума. Там было тихо, зеленели кусты, и то казалось благом. Но каким убогим был этот уголок «природы» в сравнении с тем, что довелось ему видеть в Сибири!.. — Нет! — еще раз решительно сказал он себе. — А придется помереть, так лучше здесь, в пути, чем в городской клетушке. Тут кони мчат вперед и все вперед!»
На первой же остановке на станции он, еле превозмогая нестерпимую боль в руке, писал академику Плеске: «Благо, что о падении духа не при мне писано». Пока кони мчали его несколько тысяч верст, он силой этого духа отчаянно боролся с болезнью почти до самого Иркутска и победил ее.
В Иркутске был уже почти здоров, весел и необычайно оживлен во время встреч со старыми друзьями-соотечественниками, особенно с Николаем Ивановичем Витковским. Здесь его навестил молодой геолог Владимир Афанасьевич Обручев. Он рассказал, что год назад в Олекмо-Витимской горной стране обнаружил следы крупного оледенения, впервые замеченные П. А. Кропоткиным. Ивана Дементьевича это заинтересовало очень. Сам он считал — большого оледенения в Восточной Сибири не должно было быть в прошлом. Лишь следы его ему доводилось встречать в отдельных местах Восточного Саяна и Хамар-Дабана.
— Ну вот, — сказал он своему собеседнику, — теперь я еду на Дальний Север, пересеку Верхоянский хребет на пути к Индигирке и следующий за ним, через который нужно перевалить перед Колымой, и если в Сибири могло быть оледенение — я должен буду увидеть его ясные следы и поверю в него. А пока не верил, разделяя взгляд современника А. И. Воейкова о большой сухости сибирского климата, при котором оледенения большие были невозможны.
Вернувшись в гостиницу, он с увлечением передал жене свой разговор с Обручевым и заключил его словами:
— Еще одна геологическая загадка, Машенька, которую нам надо раскрыть на севере.
— Верю, разгадаем! — со смехом отвечала она, бесконечно радуясь тому, что муж снова здоров. Даже в ее глазах это казалось чудом.
Через несколько дней они отправились дальше по знакомому якутскому тракту, невероятно ухабистому. Когда проехали по нему двести пятьдесят верст, у Ивана Дементьевича разболелось сердце. Понемногу оно начало успокаиваться, когда от Качуга поплыли на карбазе. Это древнее пятиугольное суденышко подвигалось не спеша, управляемое двумя большими веслами: кормовым и носовым. Появилась возможность наблюдать за берегами. Вскоре на них показались обрывы из кирпично-красных пород. Это были песчаные и глинистые палеозойские сланцы, знакомые Ивану Дементьевичу еще с того времени, когда сплывал этим путем в Преображенское.
Через каких-нибудь полчаса показались сравнительно невысокие отвесные скалы из тех же кирпично-красных сланцев. Они спускались к самой воде. Здесь Лена пробила себе путь в этих породах. Верст через пятнадцать перед Верхоленском долина ее раздалась вширь, а за ним снова сузилась. Дальше на сотни верст река была стиснута крутыми горами, одетыми вековечной хмурой тайгой.
За Усть-Кутом на левом берегу показался высокий террасовый уступ из красноватых пород. Здесь на остановке Иван Дементьевич нанял лошадей и отправился с женой за несколько верст по тропе в горы. Подъем был не очень крут. А когда очутились на вершине его, глазам представилась такая ширь, что Иван Дементьевич радостно воскликнул:
— Посмотри-ка, Машенька, какие лесные дали! Глазом не охватишь! Опять плоскогорие — древнейшая земля! Как она сглажена эрозионными силами. А в какой глубокой, долине течет Лена? Сколько же миллионов лет понадобилось ей, чтобы выработать свое ложе в здешних палеозойских породах? Древнейшая река? И какая величаво спокойная. Она возрождает меня. Когда плывем, чувствую — будто убаюкивает меня.
Спускаясь обратно, он все не мог насмотреться на окрестности. Так и хотелось запечатлеть их кистью на полотне. В юности он с большим увлечением и совсем неплохо рисовал красками. Когда поплыли дальше, тоже не сводил глаз с берегов, хотя они были однообразны, но хороши своей первобытной красотой.
Через несколько дней за Киренском места пошли живописнее. Среди сосновых лесов на крутых склонах показывались то скалы, то одинокие останцы из беловатых известняков. Порой с трудом верилось, что такой обелиск — творение природы, а не рук человеческих. Иван Дементьевич с восхищением рассматривая их, то и дело обращался к своим со словами:
— Посмотрите, Маша, Сашенька, на тот останец, что виднеется впереди.
Саша зачарованно рассматривал никогда не виданное даже на картинках. Он почти не выпускал тетради и карандаша из рук, пытаясь наскоро набросать контур увиденных скал, останцев, всех красивых мест, что встречались на пути. Природа наградила его незаурядным талантом художника. Отец, просматривая его наброски, радовался от души.
Они миновали около тысячи верст, когда Лена, круто сбегая вниз, стремительно вошла в узкий проход между громадными утесами. Первыми показались «щеки», тоже кирпично-красные. Они отвесной стеной в треть версты поднимались от самой воды. За ними река круто заворачивала и неслась у подножия беловато-серых древних известняковых утесов, вздымавшихся несколькими уступами. Саша успел очень удачно набросать контуры «щек». Но следом он не меньше взрослых встревожился — проскочит ли карбаз благополучно между «быками» — так гребцы называли утесы. Когда миновали это опасное место, гребцы начали вспоминать, сколько тут разбилось в разное время карбазов и пауков, сплавлявших грузы в Якутию.
Лена снова текла плавно между крутых лесистых гор. Уже недалеко сравнительно было устье Витима, когда на ее правом берегу показались какие-то полуразрушенные стены, как будто из кирпича, и такого же цвета круглые башни поднимались из самой воды. Опять путешественникам не верилось, что все это творение не рук человеческих.
А между Олекмой и Якутском на левом берегу появился сказочно красивый «каменный лес». В нем причудливые нагромождения известняковых столбов, пиков и обелисков тянулись нескончаемо — почти две сотни верст. Лена подарила путешественникам столько ярких, незабываемых впечатлений, так взбодрила Ивана Дементьевича, что в Якутск он прибыл готовым преодолеть все лишения на ожидавшем его труднейшем и неизвестном пути.
В Якутске начальство дало ему в проводники расторопного, смышленого и бывалого казачьего урядника Степана Расторгуева. Он оказался незаменимым помощником уже здесь. Быстро подыскал лошадей, все необходимое снаряжение, и вьючный караван вскоре двинулся в дальние, неизведанные края. День за днем он продвигался по узкой тропе в местах первобытно диких, без следа человеческого жилья. Иван Дементьевич сразу же начал маршрутную съемку проходимых мест. Он без устали, с азартом изучал встречавшиеся обнажения пород, собирал их образцы. Саша почти не отлучался от него, донимая вопросами: а порода эта тоже древняя? Да? А как она называется? А почему... — и так без конца. Отец только радовался его неистощимым «как?» да «почему?».
Сущим наказанием для путешественников были оводы, комары и мелкая мошка-гнус, как называл ее Расторгуев. От них не было спасения ни днем, ни ночью. Позади остались уже сотни верст, впереди было много больше тысячи. Надо было спешить, чтобы до наступления морозов попасть в Верхне-Колымск. А на пути бесконечные подъемы и спуски, броды через реки и ручьи. Иван Дементьевич, несмотря на усталость и недомогания, продолжал маршрутную съемку, вносил исправления на географическую карту, составлял геологическую. Он радовался всякий раз, когда встречались «образцовые» обнажения пород, в которых почти на ходу мог определяться и состав пород и то, как залегают их пласты. Это намного облегчало скорость передвижения.
Однажды на Верхоянском хребте Иван Дементьевич сделал небольшую экскурсию в сторону от тропы. Из речного наноса он с лихорадочной поспешностью поднял желвак необычной формы. Когда очистили его, оказалась большая раковина, закрученная спиралью, похожая на свернутую пружину.
— Что мы с тобой нашли! — взволнованно воскликнул он, обращаясь к сыну, который, как обычно, сопровождал его. — Раковину моллюска, жившего в силурийском периоде! О чем она «говорит»? Нет, ты еще не представляешь этого! Она «рассказывает», что здесь миллионов четыреста лет назад или немного меньше разливался огромный силурийский океан, а в нем в этой раковине жил моллюск.
Саша с очень серьезным лицом, расширенными глазами смотрел на отца не в силах от изумления произнести ни слова.
— Да, да! — продолжал тем же тоном Иван Дементьевич. — Здесь бушевал когда-то океан. А доходил он до тех мест, где ныне Байкал, и вдавался в них тремя заливами. На обратном пути он с тем же воодушевлении рассказывал сыну, как велик был тот древнейший океан и какие животные водились в нем. С того дня Саша до самозабвения увлекся ископаемыми раковинами и стал собирать коллекцию их. Матери он помогал отыскивать растения. Сам Иван Дементьевич просто ликовал, когда вновь удавалось встретить силурийские ископаемые остатки.
Перевалив Верхоянский хребет, попали в долину реки Индигирки. Тут, в ее верховье, нежданно-негаданно открыли неизвестный большой хребет не малой высоты. Поднимаясь на его перевал, не однажды встречали нагромождения окатанных камней, глыб, вперемежку с глиной и песком. Это были, несомненно, конечные моренцы бывших ледников; Всякий раз, встретив их, Иван Дементьевич говорил жене:
— Маша, а ведь это геологическая загадка, о которой мы с тобой толковали в Иркутске.
— Да, пожалуй, — согласилась она.
Перевал оказался в две тысячи метров высотой. Иван Дементьевич начал задыхаться на нем. Поспешили со спуском. А хребет назвали Тас Кыстабыт — Наваленные Камни.
Дальше на их пути встали еще два огромных неизвестных хребта. Обследовали их возможно тщательнее, хотя и спешили, нанесли на карту. Шутка сказать — открыл три горных цепи за один «присест!.. Такое не каждому геологу и во сне-то привидится. Иван Дементьевич ходил именинником. Радовались Мавра Павловна и Саша. Проводник Расторгуев тоже был очень доволен, что завел ученых — знающих людей — вот в какие места!
Ледниковые морены встречались и в этих местах. Иван Дементьевич больше уже не сомневался — было в прошлом на севере Сибири оледенение и к тому же немалое. Посчастливилось ему в этом пути открыть большое месторождение каменного угля на Зырянке. Но больше всего и беспрестанно хотелось ему разобраться в том сложном лабиринте горных сооружений, в который угодил. Есть же какая-то закономерность в его возникновении, а потому и в расположении. Мало-помалу стало для него проясняться, что не как попало стоят цепи гор между Верхоянским хребтом и Колымой. Все они имеют северо-западное или северо-северо-западное направление, образуя гигантскую дугу. Вздымаются же почти поперек долин Индигирки и Колымы. Он обозревал в мыслях и воображении этот обширный край как бы с высоты орлиного полета и был вполне счастлив как первооткрыватель.
Глава 12
Лето кончилось, когда экспедиция вошла в Верхне-Колымск. Это был крошечный, убогий поселок на краю земли, забытый богом и людьми, как говорил здешний священник В. И. Сучковский. Он страшно обрадовался приезду ученого мужа да еще соотечественника, первым нанес визит ему и порассказал о здешнем незавидном житье-бытье. Иван Дементьевич тоже был рад знакомству с ним. Проговорили целый вечер.
Назавтра, когда уже не надо было стремиться вперед, часто напрягая силы и волю до предела, Иван Дементьевич внезапно почувствовал, как устал и нездоров. Опять болело сердце, ломило все кости и кружилась голова. В Верхне-Колымске предстояло зимовать. Для жилья удалось подыскать только якутскую юрту. Едва расположились в ней, неугомонный исследователь первым делом принялся писать в Академию наук. «Около двух тысяч верст по горной местности, никем еще не исследованной, — это заманчиво для каждого естествоиспытателя», — увлеченно писал он. Дальше сообщал, что найдено им на этом огромном пути и открыто.
Здоровье его становилось все хуже. Едва немного отдохнув с дороги, он начал приводить в порядок коллекции всех собранных материалов, чтобы поскорее отправить их в Академию наук. Потом принялся писать отчет для нее. Мавра Павловна помогала переписывать его набело. В немногие часы отдыха Иван Дементьевич обучал Сашу по школьной программе, чтобы он не отстал от сверстников в учебе, пока находится с ним в экспедиции. Так они целыми днями были заняты делом и не заметили, как наступила зима.
А пришла она жестокая, с постоянными сорокаградусными морозами, нередко они «подскакивали» до пятидесяти градусов и выше. Юрту невозможно было натопить. В ней нередко стояла такая стужа, что в верхней одежде было зябко. К тому же и пища скудная, она тоже не согревала. Но Иван Дементьевич не прерывал работы. Он находил силы даже шутить над своим незавидным житьем здесь. Как-то написал в Петербург: «С 22 октября мы довольствуемся одними лишь нравственными наслаждениями без малейшей примеси вещественных. Сахара ничтожное количество, которое хранится только для почетных гостей». Все продукты — они завозили летом на всю зиму — были здесь неприступно дороги.
Но все это были пустяки в его глазах. Главное — здоровье все ухудшалось. А в середине зимы нагрянула беда: он так простудился, что началась тяжелейшая болезнь легких. Она буквально душила его. Он с нетерпением ждал прихода весны, тепла, надеясь, что тогда-то поправится. Но вот пришел апрель, уже приближался конец его — облегчения не было. Больной понял, что обречен. Он сокрушался больше всего о том, что такая экспедиция не будет доведена до конца, а сколько средств на нее затратила Академия наук!.. Исследования надо продолжить хотя бы до Нижне-Колымска — во что бы то ни стало! Если он умрет в пути, пусть жена с сыном продолжат его дело. Надо только, чтобы местное начальство помогло им. Он исподволь спокойно начал готовить к этому Мавру Павловну.
В конце мая не мог уже писать. Тогда решил оставить жене «Открытый лист», подобный тому, что получил сам от генерал-губернатора Восточной Сибири, когда отправлялся изучать почтовый тракт от Иркутска до Екатеринбурга. Таким листом местным властям предписывалось оказывать посильную помощь исследователям.
Опять поговорив с женой о том, какая нелегкая доля ей выпадет скоро, он попросил ее записать под его диктовку. Мавра Павловна, украдкой смахнув слезы, начала выводить слово за словом. «Экспедиция Императорской Академии наук для исследования рек Колымы, Индигирки, и Яны находится уже в полном снаряжении к плаванию до Нижне-Колымска, и необходимые для этого затраты уже сделаны. Между тем серьезная болезнь, постигшая меня перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли даже до назначенного времени отбытия». — Мавра Павловна крепко закусила губы, чтобы не разрыдаться.
«Так как экспедиция кроме геологических задач имеет еще зоологические и ботанические, которыми заведует моя жена, Мавра Павловна Черская, поэтому во избежание полной непроизводительности затраченных уже на лето 1892 г. сумм, я делаю нижеследующее наставление, которое во имя пользы для науки и задач экспедиции должно быть принято во внимание и местными властями.
В случае моей смерти, где бы она меня ни застигла, экспедиция под управлением моей жены Мавры Павловны Черской должна все-таки нынче летом непременно доплыть до Нижне-Колымска. Только после возвращения экспедиции обратно в Средне-Крлымск она должна считаться законченной. Только тогда должна последовать сдача экспедиционной суммы (т. е. ее остатки) и экспедиционного имущества».
Иван Дементьевич попросил лист, расписался в нем и поставил свою именную печать. Потом слабо пожал руку жене и сказал:
— Не отчаивайся! Ты должна сделать то, что завещал.
— Хорошо... сделаю, — отвечала она, стараясь казаться твердой. Но тут же стремительно вышла за дверь и только там, крепко зажимая рот рукой, заплакала навзрыд.
Иван Дементьевич угадывал состояние жены и чутким ухом уловил ее приглушенные рыдания. В последнее время она все чаще стала жаловаться на колотье в сердце, на расстроенные нервы. С болью подумал он — перенесет ли его кончину? Что тогда будет с Сашей?..
В тот же день он послал Расторгуева за священником Сучковским. Когда тот пришел, вручил ему письменное завещание, в котором просил позаботиться о судьбе сына, если он останется один; позаботиться о продолжении экспедиции в том случае, если жена переживет его смерть. Сучковский, прочтя завещание, клятвенно обещал выполнить его, и слезы показались в его добрых, умных глазах. Иван Дементьевич успокоился.
Настало первое июня — день отъезда экспедиции. Расторгуев с Сашей перенесли все снаряжение на карбаз. На нем заранее они соорудили в носовой части маленькую каюту. Перед ней устроили сиденье, с которого можно было наблюдать за проплывающими мимо берегами. Поддерживая под руки, повели Ивана Дементьевича на карбаз. Он с трудом переводя дыхание и поминутно исходясь кашлем, наказывал:
— Я там буду наблюдать, а вы плывите все вперед и вперед. И когда буду отходить, когда настанет мой последний час, — все вперед!..— Его утешало сознание того, что уйдет из жизни здесь, на природе, за своим любимым делом и в движении, а не запертый в городской клетушке.
Слушая его наказ, Саша не давал воли слезам, он будто окаменел. Степан Расторгуев, сильный, мужественный человек, не мог спокойно смотреть в лицо обреченному больному, чувствуя, как у самого сжимается горло. Он будто ненароком отворачивался, часто моргал, делая вид, что в глаза ему что-то попало. Иван Дементьевич тоже старался не показать, что замечает это. А хотелось ему горячо обнять этого чудесного человека, незаменимого их провожатого на таком пути! Теперь вся надежда на него, если жена не выдержит и тоже расстанется с жизнью.
Карбаз тронулся. Полая вода понесла его довольно быстро. Расторгуев с Сашей и двумя нанятыми рабочими встали к двум веслам: на носу и на корме. Мавра Павловна поместилась рядом с мужем. Он, поудобнее устроившись на своем узеньком сиденье, принялся пристально осматривать берега и все интересное заносить в дневник. Мавра Павловна тоже следила за проплывающими окрестностями, иногда справлялась у него, верно ли приметила. В неярких лучах беззакатного солнца наступившего полярного дня ей не всегда все отчетливо виделось, а порой глаза подергивались слезой. Внутренне сжав себя до предела, она заботилась теперь больше всего о том, как лучше выполнить в будущем наказ мужа. Потому по его наблюдениям сверяла собственные.
С каждым днем больному становилось хуже. Он часто исходился кашлем, задыхался. Но упорно продолжал наблюдать и вести дневник. На остановке в Сиентомахе его навестил соотечественник С. М. Шаргородский, отбывавший ссылку в этих местах. Он был поражен видом Черского и особенно тем, о чем и как он говорил. Иван Дементьевич был худой, как щепка, весь желтый, с землистым оттенком лица, руки его дрожали. Но он довольно бодро начал рассказывать о всем интересном, встреченном им по пути сюда на берегах Колымы. После того начал расспрашивать, как живут якуты и ламуты в Сиентомахе. Выслушав, с возмущением воскликнул: здесь они страдают повсюду от кулаков больше, чем от суровых условий своей страны!..
Потом спокойно заговорил о своей близкой смерти и начал сокрушаться, что не сможет завершить экспедицию. Но намерен провести ее как можно дальше.
— Я сделал распоряжение, — продолжал он, — чтобы она не прерывалась до Нижне-Колымска. А своим наказал, чтобы тащили меня все вперед и даже в тот момент, когда настанут мои последние минуты, и даже в тот момент, когда я буду отходить.
Эти его слова потрясли Шаргородского. Чутьем он угадал, как не хотелось умирать говорившему!.. Особенно теперь — в разгар экспедиции. Да ведь не стар он еще, как сказал, недавно ему исполнилось сорок семь.
А Иван Дементьевич. неожиданно с радостью продолжал о том, что успел познакомить жену с целью своих исследований и подготовить настолько, что она сможет и без него закончить их. Когда настала пора прощаться с Шаргородским, он дрогнувшим голосом сказал ему:
— Прощайте!.. Прощайте! — А глаза его так и говорили — «Навсегда!»
Он еще целую неделю вел наблюдения и записи в дневнике. Когда доплыли до Средне-Колымска, пролежал там на берегу в кибитке, не поднимаясь три дня. Не мог почти говорить. Скажет слово и молчит минут пять-десять, пока не прекратятся спазмы в горле. Когда поплыли дальше, наблюдения стала вести Мавра Павловна, он только записывал их. Наконец не в силах стало делать и это — дневник передал Саше. Он уже не мог ни встать, ни лечь. Все дни и ночи напролет проводил сидя.
Минул почти месяц, как экспедиция отплыла из Верхне-Колымска. Последнюю ночь больной провел в страшных мучениях. Утром ему немного стало легче. Он попросил супу, чаю. Потом скорбно сказал:
— Нет, ничего не помогает, видно, сегодня мой час настал.
Время приближалось к полудню, Ивана Дементьевича стало душить. Он лишь одними жестами показал жене, чтобы прикладывали ему к шее холодные компрессы. После них удушье стихло, но следом хлынула кровь из носа. Она застаивалась в горле, свертывалась комками и тоже не давала дышать. Иван Дементьевич попросил пинцет и принялся им вынимать эти комки. Когда настала передышка, он сказал жене:
— Приготовься, Маша, к страшному удару, будь мужественна в несчастье. — Он помолчал, еле справляясь с дыханием, и обратился к сыну. Ему начал наказывать, какое лекарство надо дать матери, если с ней будет дурно. После того он опустил голову на руки и глубоко задумался.
Мавра Павловна еле держалась на ногах. Она тоже принялась делать наказ сыну, как поступить со всеми бумагами, если она не переживет его отца.
Иван Дементьевич поднял голову и внятным голосом сказал:
— Саша, слушай и исполняй. — Это были его последние слова.
В тот день у Мавры Павловны достало сил сделать очередную запись в дневнике. «Пристали в 3 часа, 30 минут тс речке Прорве. Муж умирает.
Он скончался в 10 часов, 10 минут вечера».
На следующий день она снова записала: «Стоим вследствие сильного волнения на реке. Ширина ее здесь 1½ версты. Мужа поклали в пустую лодку, прикрыли его корою.
Дождь, температура воздуха +5 градусов».
Этот дневник был для нее своего рода веревкой, держась за которую пыталась устоять на ногах при том несчастье, что ураганом обрушилось на нее.
«Июня 27.
Стоим из-за волнения. Ночью снег. Температура в 12 часов +2,8».
«Июня 29.
«Стоим из-за приготовления к похоронам мужа».
«Июня 30.
Стоим из-за неготовых похоронных принадлежностей. Жители здесь оседлые юкагиры, они совершенно обрусели, живут по-русски, все православные. По-юкагирски говорят из 19 двое. Постройки их русские. Одеваются по-русски, очень религиозные. Кроме собак, никакого скота не имеют, питаются рыбою, муку они называют провиантом. Народ очень добрый, приветливый; они весьма сочувственно отнеслись к моему несчастью.
На берегу, где скончался муж, поставлен деревянный крест с надписью о часе кончины».— Это подле устья Прорвы. А хоронить Ивана Дементьевича собирались в урочище Омолон, на берегу Колымы, сплыв по ней от Прорвы на тридцать верст ниже. Там ему копали могилу в вечной мерзлоте.
Мавра Павловна все время пыталась чем-нибудь заняться, чтобы не дать сломить себя горю. Дневник был ее главным делом теперь. Саша, глядя на нее, тоже старался не плакать и быть достойным помощником ее, помня наказ отца. Он не отходил от матери ни на шаг, готовый оказать ей помощь в ту же минуту, если ей будет плохо.
В особо трудный день для них она записала в дневнике.
«Июля 1-го.
В 4 часа были похороны мужа, похоронами заведывал прикомандированный казачий урядник Степан Расторгуев. Это незаменимый человек в экспедиции».
Назавтра они отправились дальше вниз по Колыме. А через три дня Мавра Павловна сделала такую запись: «...в 10 часов, 50 минут пристали к правому берегу, к яру, название его Одинаковский; из яра взяты раковины с суглинком и торфом № 250... Взяли образец суглинка № 251, тут же найдены ископаемые кости № 252, 253, 254, 255, 256. Отплыли в 12 часов, 12 минут...»
Экспедиция продолжалась так, будто ею руководил сам Иван Дементьевич. Мавра Павловна целыми днями без передышки вела наблюдения, а в некоторых местах, приставая к берегу, собирала образцы пород, ископаемые остатки, записывала все в дневнике. Из всех сил своих она стремилась выполнить предсмертное завещание мужа, пока хватало сил держаться на ногах. Саша помогал ей во всем.
Наконец они достигли последнего намеченного пункта. Мавра Павловна с облегчением взялась за дневник, едва познакомилась с этим поселением. «Июля 5. В 6 часов, 31 минуту приплыли к левому берегу в Нижне-Колымск; на правом берегу устье р. Анюя. Она впадает двумя рукавами в р. Колыму.
Нижне-Колымск расположен в 30 саженях от берега на низком ровном месте. Кругом его озеро и болота. В нем две церкви, одна из них старая, в которой не служат. Домов здесь около 20; внешний вид этих лачуг ужасный: все они без крыш с почерневшими стенами. На месте стекол зияют налимья кожа, бумага или грязный коленкор. Из постоянных жителей два миссионера, один священник, частный пристав и семейства 2-3 обывателей. Остальные жители каждое лето кочуют, т. е. уезжают на заимки на рыбный промысел. Население состоит из русских, якутов и нескольких ссыльных поселенцев. Якуты нижнеколымские совершенно обруселые, по-якутски не знают ни одного слова».
«Июля 6
Стоим из-за нездоровья моего. Я чувствую себя всю дорогу плохо, а приехав сюда, я еще больше ослабела.
Денег наличных казенных — 2400 рублей.
Жалованье мужа за 1891 г. 1400 рублей.
Отмечаю количество денег, так как здоровье мое сильно расшаталось».
Эту запись она показала сыну и опять, как перед смертью мужа, начала наставлять его, куда следует доставить бумаги и сборы экспедиции, если он останется один с Расторгуевым. Саша вновь закаменел. Он бессознательно стал все больше тянуться к проводнику, сердечному и сильному человеку. Тот, предвидя новую беду, старался по-отечески ободрить его: «Ничего! С божьей помощью дотянем теперь до дому».
Из-за нездоровья Мавры Павловны целых три недели не могли тронуться в обратный путь. Жили в беспрестанной тревоге за нее. Но вот настал день, когда начали собираться к отъезду в Средне-Колымск. Повеселевший Расторгуев говорил Саше: «Будто камень с сердца!» Саша, не по годам повзрослевший за это лето, только улыбался в ответ. По пути к Средне-Колымску, около Дуванного, обнаружили богатую залежь ископаемых костей. Опять с азартом раскапывали их, упаковали. Потом встретилось им еще несколько интересных находок. В Средне-Колымск они прибыли только шестнадцатого августа. Экспедиция вполне успешно была доведена до конца.
Мавра Павловна окрепла уже настолько, что по первому же снегу решила отправляться в Якутск. Но тут новая беда обрушилась на нее. Ее тринадцатилетний сын заболел в пути скарлатиной. В горячке и в бреду его, закутанного в меха, везли на нартах упряжкой собак. На крутых спусках нарты нередко опрокидывались, больной летел в сугробы. Что пережила тогда мать, только ей было известно. Каким чудом выжил Саша, она так и не могла понять. Да и сама-то как выдержала все испытания, тоже было непостижимо. До самого Якутска ехали в лютые морозы.
В этом городе она немного пришла в себя, отдохнула в семье у Расторгуева. Саша поправился. Сколько ее ни уговаривал Степан погодить до весны, она все-таки решила в разгар жестокой зимы при сорока и пятидесятиградусных морозах отправляться дальше — в Иркутск. Это от станка до станка с прогонами между ними самое малое по полсотне верст. Даже он, Степан Расторгуев, прокаленный якутскими морозами, не рискнул бы ехать в эту пору с малолетним сыном три тысячи верст!... Но все его доводы разбивались, как о каменную стену. Она стояла на своем — надо скорее материалы экспедиции доставить на место.
И доставила. В Иркутске ее встретил посланный Академией наук Э. Толль. Ему сдала все дела экспедиции, позже написала отчет о ней. Он был признан академиками лучшим. Но сама она оказалась уже не у дел научных, о чем скорбела до конца дней своих. Прожила она долго, до восьмидесяти лет, и умерла в 1940 году.
Сын ее, Александр, стал тоже бесстрашным путешественником-натуралистом. Но жизнь его оборвалась преждевременно на Камчатке. Там, возвращаясь с Командорских островов, он утонул, едва достигнув сорока четырех лет.
Когда весть о смерти Ивана Дементьевича дошла до Петербурга, она с большой болью отозвалась в сердце его старого друга Н. М. Ядринцева. Он тут же принялся писать некролог. А закончил его словами: «Вечная память тебе, дорогой товарищ, благодарный борец, труженик! Там, где в холодной тундре заносится снегом теперь твоя могила, скромная могила горькой жизни, полной самоотвержения. Добрый, незлобивый, удрученный образ твой встает перед нами, напоминая труженическую жизнь, исполненную глубокой беззаветной преданности науке, далекую от всякого тщеславия и увлечения пошлой мирской суетой...».


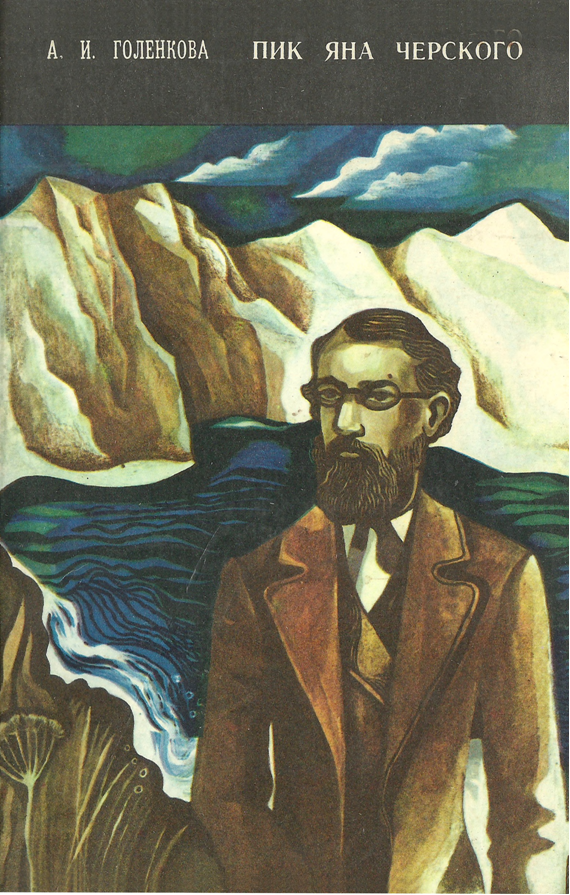











Brak komentarzy:
Prześlij komentarz