Глава XII
УЕДИНЕННЫЙ МИР
Вытянув шеи на
длинных поводьях, плывут за тремя лодками кони экспедиции.
Переправа
трудная. Алдан раздался здесь на десять верст.
На середине
реки слабые кони начинают сдавать, то и дело уходят с головою под воду. Их на
время оставляют на островах, чтоб отдышались.
В глазах
Мышонка мучительный страх. Он повизгивает сквозь оскаленные, крепко стиснутые
зубы. Этот визг кажется Саше плачем. Ему хочется подбодрить лошадку. Мальчик
выбирает на себя ремень, подтягивает Мышонка к лодке. Но на коротком поводу
коню еще труднее плыть, и Саша снова отпускает ремень.
Переправу
закончили только к вечеру. Иван Дементьевич дал лошадям короткий отдых, чтобы
пришли в себя. А после заката приказал вьючить.
Двинулись по правому берегу Алдана. Достигнув
устья Хáндыги, направились вдоль нее на северо-восток, в сторону
предгорий Верхоянского хребта.
Караван
растянулся по руслу реки, пробирается между водой и крутым, высоким берегом.
Русло часто суживается, и глинистые обрывы подступают к самому потоку. Тогда
приходится искать броду, переходить на другую сторону.
По брюхо в
воде, лошади оступаются на скользких подводных камнях, падают.
— Глядите,
Степан Тимофеевич, все вьюки искупались. Не пойти ли поверху? — предлагает
Мавра Павловна.
— Вéрхом пойдем, как не станет пути вдоль воды. Там бадараны замучают.
Бадараны... Все
чаще слышит Саша это слово.
И вот наступает
минута, когда нельзя уже двигаться вдоль реки ни по той, ни по другой стороне.
Степан выбирает пологий подъем и уводит караван прочь от Хандыги.
Там, наверху,
редколесье. Невысокие лиственницы, ели поднимают свои ветви над ярким травяным
ковром. Это куда красивее, чем унылая прибрежная галька.
Саша
оборачивается в седле и предлагает приятелю:
— Поскачем
вперед, Байбал!
Молодой якут
показывает на густую низкую траву:
— Нельзя!..
Бадаран.
Казак
останавливает караван, долго приглядывается, что-то высматривает. Сдерживая
Соколика, медленно трогается вперед. За ним движутся и остальные.
Сначала идут по
твердому грунту. Но скоро под ногами лошадей зачавкало. С каждым шагом они всё
глубже увязают, еле вырывают копыта из топи.
Их движения
становятся судорожными, неуверенными.
В борьбе с
трясиной проходит час, другой.
На пути Мышонка
чуть приподнятый над болотом бугор — клочок сухой земли над корнями невысокой
ели. Лошадь тянется к островку, ставит на него передние ноги. Бугор
приминается, как подушка, ель сильно кренит. Толчок в плечо — и Саша летит с
седла в болото. Падает и Мышонок.
Байбал
поднимает мальчика, ощупывает:
— Больно?.. А
тут?
Саша качает
головой.
— Кости целые,
— решает Байбал, — а мясо поболит и перестанет. Поднимай коня.
Измазанный по
холку, дрожа всем телом, Мышонок бредет дальше. Саша согнулся в седле — плечо
мучительно ноет. Хорошо еще, что отец и мать не видели...
— Тох-то!
Тох-то! — кричат впереди.
Связка лошадей
барахтается в болоте.
— Видишь, одна
упала — всю связку потянула! — показывает Байбал.
* * *
Караван стал на
высоком берегу ручья.
Одежда, вьюки —
все перепачкано. Лошади покрыты корою грязи.
— Сколько
прошли мы, Степан, по болоту, как вы считаете?
— Да верст
пятнадцать.
— Почти что за
целый день... Не шибко!
— Батюшки, а
дела-то сколько: лошадей почистить, самим отмыться, просушить вьюки, да еще обед
сварить! И все — до отдыха... А косточки так и ноют, — шутливо жалуется Мавра
Павловна. — Сашок, ты жив еще?
— Кажется, жив,
мама!
— Степан, когда
рабочие погонят лошадей к ручью, пусть хорошенько обмоют их и осмотрят. На
болоте не одна сбила себе спину. И не забудьте про карболку. А Мавра Павловна
сегодня варит на всех, чтобы не отрывать Уйбана от его коней. Мы с тобой, Саша,
раскинем палатки и будем сушить вьюки... А ты, Геня, принеси воды, а потом — с
топором в лес. Притащи побольше дров.
Все наскоро
помылись и принялись за дело.
Степан разжег
костер, забил таган, поставил на него котел и отправился к лошадям.
Раскидывают
палатки.
Саша помогает
отцу вбивать в землю колышки. Затем развязывают вьюки.
Взяв
прорезиненные ведра, Геня идет к ручью. Минут через десять с наполненными
ведрами к лагерю бредет старый ямщик Буатюр.
Присев на корточки, Иван Дементьевич
раскладывает на солнце бунты подмоченных ремней. Он заметил ямщика с ведрами и
хмурит брови.
Тем временем
Геня возвращается за топором и идет в сторону ближнего ельника. По пути кличет
Байбала. Скоро из леска выходит Байбал с бревном на плече. Следом за ним
налегке, помахивая топориком, шагает Геня.
— Поди-ка сюда,
Генрих!
Саша по тону
отца понимает, как велико его раздражение.
Перед Черским —
пышущий здоровьем Геркулес.
С отъезда из Иркутска
Генрих перестал бриться. Юношеское лицо обросло русой бородкой.
— Принести воды
и раздобыть дров я велел тебе. Зачем ты оторвал от дела двоих рабочих? Ты что
же, не в силах поднять сам вёдра или полено?
Генрих молчит,
только дерзко усмехается.
— Не выношу
лентяев! — гневно продолжает Иван Дементьевич. — Ты крепкий парень и обязан
трудиться наравне со всеми. Я требую этого от тебя!
— Я, дядя, как
вы знаете, состою в экспедиции препаратором. Меня нельзя заставлять делать
черную работу. Для этого у вас имеются рабочие.
Черский
протягивает руку в сторону жены:
— Ну вот! Маша,
ты слышала? Все сказано начистоту. Белоручка! Знатный путешественник!
Впервые Мавра
Павловна пожалела, что настояла на поездке с ними Генриха. Но теперь уже поздно
было думать об этом.
* * *
Небо заволокло
тучами. Громыхает.
После обеда,
завершенного чаепитием, все забрались в палатки, чтобы поспать перед
выступлением.
Предгрозовая духота
не дает Саше уснуть. Или это, может быть, от сильной усталости?
В углу
похрапывает Генрих. Уснула и мать.
Мальчик
ворочается с боку на бок. Рядом с ним отец, он тоже не спит.
— Папа, ты
видел, как на бадаране деревья кланяются? — шепотом спрашивает Саша. — Лошадь
наступает на корень и — готово!
— Что? Тебя
ушибло?
— Н-нет...
Чуть-чуть.
— А я вот
получил от молоденькой, стройной лиственницы нижайший поклон прямо по затылку.
И сейчас еще
трудно голову повернуть. Да и Шалуну досталось. Его, беднягу, ударило толстой
елью.
— Отчего они
кланяются?
— Да потому,
что они еле держатся в почве. Если бы ты зарылся рукой в глубь болота, наверно,
достал бы до слоя земли, твердого, как железо. Это вечная мерзлота, никогда не
оттаивающая. Она-то и не дает корням проникнуть глубже. Из-за нее деревья не
могут закрепиться, особенно в болотной жиже.
— Я, папа,
попробую на какой-нибудь стоянке докопаться до этой мерзлоты, посмотреть, какая
она... Как ты думаешь, мы еще будем в таком месте, где есть мерзлота?
— Вот уж этого
добра здесь сколько угодно! За четыре года нашего путешествия мы не встретим и
клочка земли, под которым не залегала бы вечная мерзлота.
— Это даже
трудно понять! Теперь так жарко, а совсем близко, оказывается, земля замерзшая.
— А все оттого,
что лето здесь хотя и жаркое, но очень короткое. А зимы длинные и самые
холодные, какие только бывают. Здесь зимой гораздо холоднее, чем на Северном
полюсе. Земля и не успевает оттаять.
*
* *
Неужели только
двадцать дней, как выступили из Якутска? Кажется, уже месяцы длится это сиденье
в седле, с высоко поднятыми ногами, согнутой спиной.
Движутся то по
тайге, то по руслу реки. Копыта звонко цокают по гальке, хлюпают и чавкают на
бадаранах.
Сначала Саша
сильно утомлялся на переходах, не мог дождаться, когда отец прикажет
остановиться на отдых. Мать с тревогой глядела на его усталое лицо, на
покрасневшие, воспаленные глаза.
Но он быстро
закалялся. Мускулы перестали ныть. Он привык к этой суровой жизни, почувствовал
ее прелесть, полюбил ее. Каждое новое испытание встречал стойко, как подобает
участнику научной экспедиции.
А испытаний
было немало.
Дззз... —
тоненьким звоном возвещает о себе гнус, лютый мучитель людей и всех живых
тварей в тайге.
Саша хлопает
себя по лбу, затылку, по кистям рук. Мошкары становится все больше.
Вот над
караваном заколыхались целые полчища гнуса — живое серое покрывало, колеблемое
ветром.
Хоть и стоит удушливая жара, приходится
надеть на голову накомарник — густую сетку из конского волоса, кисти рук
обмотать тряпьем, натянуть сапоги.
Но лошади —
беспомощные жертвы кровожадного гнуса. Мошкара облепляет их со всех сторон,
садится на губы, на веки и сосет, сосет.
Лошадь хлещет
себя хвостом, мотает головой, судорожно подергивает всем телом. Доведенная до
изнеможения, она перестает отбиваться и только беспомощно ржет.
Саша
соскакивает с Мышонка, оглаживает ему голову, ноги, охлестывает ладонями по
всему крупу. Руки становятся красными.
Из-за гнуса
приходится укорачивать переходы, по нескольку раз в день разводить дымокуры.
Если дует
ветерок, дым от костров стелется по земле. Люди и кони забираются в самую гущу
клубящегося дыма. Глаза слезятся, першит в горле, трудно дышать... Но это
счастливые минуты отдыха — гнус оставляет свои жертвы в покое.
— Это что! —
говорит Степан, подсев поближе к дымокуру. — Позапрошлое лето — вот то был
гнус! В ту пору я вел купцов по верхоянской дороге. Мошки на конях было —
шерсти не видать. Одного коня гнус насмерть заел. А как его свежевали, ни капли
крови не вытекло. Всю высосали, окаянные!
* * *
Словно гряда
грозовых облаков, от края до края горизонта залегли лиловые горы.
Сдвинув очки на
лоб, Иван Дементьевич рассматривает в сильный бинокль отдаленный горный пейзаж:
— Вот он
наконец долгожданный Верхоянский хребет!
— Уж верно, что
долгожданный — пять месяцев до него добираемся, — улыбается Мавра Павловна.
— Да, Маша, с
равнинными местами покончено. Мы вступаем в огромную горную страну. Верхоянские
горы — это только первая преграда на нашем пути. А за ними предстоит пересечь
еще много высоких горных цепей. Горы и горы — до самой Колымы. И подумай — ведь
в этих горах не побывал еще ни один геолог!
— Да и мы-то
пройдем только узенькой полоской.
— Ты права, это
будет только маршрутное обследование. А все-таки сотни образцов породы попадут
в мой мешок. Они многое расскажут о геологическом строении этих гор.
Цепи
Верхоянских гор расставлены широко. Предстоит четыре раза взобраться на высокие
перевалы и спуститься с них в ущелья и долины.
Последняя
стоянка перед подъемом. Ученый берет книжку для записей, засовывает за пояс
геологический молоток. Горный компас, анероид, рулетка, большая сумка для
образцов породы — всё на своем месте.
— Папа, можно
мне тоже взять молоток? И я бы с тобой...
— Скажите
пожалуйста, новый геолог сыскался! — съязвил Генрих.
— Вот ты какой!
— шутливо негодует Мавра Павловна. — Ты ведь помощник зоолога. Разве забыл?
Саша виновато
смотрит на мать.
— Мне бы очень
хотелось увидеть папину работу в горах, — смущенно оправдывается он.
На помощь
приходит отец:
— Что ж, Маша,
может, уступишь его на время? Саша, пожалуй, и мне поможет немного.
— Приказу
начальника не смею перечить, — смеется Мавра Павловна. — А ты, неверный
помощник, и про еду забыл. Доедай-ка свой сухарь!
*
* *
Вступили в
горы.
Тайга начала
менять свой облик. Среди лиственницы все реже встречались мохнатые ели, совсем
не стало сосен с золотистой корой.
Иван
Дементьевич установил новый порядок движения. Он и Саша едут теперь позади,
часто отстают от каравана.
Обычно идут
пешком. Тогда Саша ведет коней на поводу.
Отец поднимает
камни, раскалывает молотком, чтобы рассмотреть их излом. Он то и дело отходит в
сторону, выбирая точку, откуда можно лучше разглядеть строение горной породы.
Иногда расчищает площадку на поверхности выступающего пласта и ставит на него
горный компас. Все время делает пометки в записной книжке.
— Возьми-ка
рулетку, Саша, подымись на тот выступ. Спустишь ленту. Мы измерим толщину
пласта вот этого темного известняка.
Саша взбирается
наверх, быстро вытягивает ленту рулетки. Медное колечко, поблескивая на солнце,
тянет холщовую змейку.
— Стоп! Довольно.
— Иван Дементьевич прижимает конец ленты к нижнему краю пласта. — Сколько у
тебя?
Саша ложится на
выступ и заглядывает вниз, чтобы лучше видеть отметку:
— Одиннадцать
футов восемь дюймов.
— Ого, какой
мощный! Теперь определим его падение и простирание.
Мальчик
внимательно следит за тем, как отец манипулирует горным компасом:
— Я хотел бы
попробовать это сделать. Ты ведь по отвесу определяешь наклон, правда?
— Да,
приблизительно так, — улыбается Иван Дементьевич. — Посмотрим, что у тебя
получится.
Саша тщательно
расчищает площадку на кровле пласта, ставит компас на ребро. Отвес движется по
шкале.
— Наклон десять
градусов.
— Верно. Но
только геологи говорят не «наклон», а «падение».
Затем Черский
определяет простирание пласта — направление, в котором он тянется.
Идут дальше.
Ученый отколол
молотком кусок породы и, вооружившись лупой, долго исследует его.
— Замечательно!
— любуется он своей находкой. — Хоть в музей! Прекраснейший образец фавозитов.
— Чем ты, папа,
так доволен?
— Вот посмотри.
Видишь эти трубочки на изломе? Это кораллы.
Саша взял у
отца лупу. На темном изломе четко видны ряды тоненьких серых трубок.
— Ты говоришь,
это кораллы? А они даже не красные...
— Это совсем
особые кораллы. Они пролежали в породе миллионы лет, пока мы с тобой их не
потревожили.
— Тысячи тысяч
лет! А как ты это узнал?
Иван
Дементьевич рассмеялся:
— Ну, вижу,
придется прочесть тебе маленькую лекцию. Только сейчас нам некогда. Давай
проверим простирание вот тех пластов палеозоя.
— Как ты
назвал, папа?
— О палеозое мы
тоже поговорим потом, на привале.
* * *
Караван остановился
на ночевку в боковой горной долине, где Степан нашел хороший корм для коней.
Развели костер.
Отец наносит на
планшет маршрут за день. Отвлекать его разговорами в это время нельзя.
Но вот походный
журнал захлопнут.
— Папа, как же
все-таки могли эти кораллы попасть внутрь скалы?
Мавра Павловна
с укоризной смотрит на сына:
— Ты бы, Саша,
дал отцу отдохнуть.
— Погоди, Маша.
Во-первых, чувствую я себя превосходно, давно уже так не было. А кроме того,
знаешь, раз уж взял себе помощника, надо его обучать. Помощник хорош только
когда понимает, что делает. До ужина у нас сколько времени?
— Вот только
каша сварится. А мясо разогреть недолго. Через полчаса все будет готово.
— Значит, надо
умудриться изложить целую науку в полчаса. А начинать-то придется с самого
начала. Ну, слушай. Как ты представляешь себе, какой была наша Земля в самом
начале ее существования?
— В самом
начале? Нам учитель географии говорил, что Земля была когда-то раскаленным
шаром.
— Ну вот,
кое-что ты уже знаешь. Но сейчас нам нужна более точная картина. Этот
раскаленный шар состоял из массы расплавленных веществ — разных металлов и
минералов. А вокруг него была толстая оболочка густых водяных паров. Затем этот
шар стал постепенно, на протяжении сотен миллионов лет, остывать. Почему, как
ты думаешь?
— Очень просто,
— подал голос Генрих, подбрасывавший в костер сухие сучья. — Все горячее в
конце концов остывает.
— Это, милый
мой, не объяснение! Земля остывала потому, что в окружающем ее мировом
пространстве царит величайший холод. Постепенно остывая, расплавленная масса
этого шара покрывалась по поверхности сначала тонкой, а потом все более толстой
коркой.
— Это и есть
поверхность Земли, по которой мы ходим теперь?
— Нет, нет,
Саша, этой первоначальной корки теперь на поверхности не осталось — она
упрятана глубоко. И ты сейчас поймешь, почему так произошло. По мере того как
земной шар остывал, охлаждались и окружавшие его водяные пары. Они превращались
в воду, которая мощными потоками проливалась на землю. Земная поверхность, все
больше остывая, сжималась и коробилась. На ней образовались большие ложбины. В
них-то и скоплялись падавшие на землю массы воды.
— И тогда
появились моря?
— Да, самые
первые, самые древние озера, моря и океаны. А также текущие в них реки и ручьи.
И вот тут-то и начали происходить на
земле процессы, которые должен хорошо понять всякий, кто берет в руки
геологический молоток. Текучая вода с тех незапамятных времен и по сей день
неустанно меняет облик земной поверхности. Бесчисленные ручьи и реки без устали
грызут ее, несут размытые ими твердые частицы в море. Там все это оседает
слоями на дно. А что происходит дальше?
Иван
Дементьевич поглядел на Мавру Павловну, улыбнулся. Ему вспомнилось, как очень
давно, лет пятнадцать тому назад, он в Иркутске объяснял то же самое своей
жене.
— Ты ведь уже
знаешь величину диаметра земного шара?
— Да.
Двенадцать тысяч верст.
— Так. А
наибольшая глубина океана— только семь верст. Представляешь себе, как
незначительно углубление в семь верст на поверхности такого шара? При подобном
соотношении все океаны — всего только мелкие лужицы. Достаточно земной коре
слегка вспучиться под этой лужей — и лужа стечет на другое место. А внутренние
силы земных недр то и дело заставляют земную кору коробиться: кое-где эта кора
поднимается, кое-где опускается. И такой процесс происходит непрерывно.
— А ты, папа,
когда-нибудь видел, как это происходит?
— Нет, Саша, не
только жизнь одного человека, но и история всего человечества — только
неприметное мгновение по сравнению с длительностью таких процессов. События в
истории людей измеряются сотнями, самое большое — тысячами лет, а геологические
события происходят во много тысяч раз медленнее... Перемещение океана длится
миллионы лет. А потом в течение такого же огромного промежутка времени океан
снова перельет свои воды. И так непрерывно... Что же остается на той части
земной коры, которая была морским дном, а потом стала сушей?
— Понимаю,
папа! Там остается слой принесенного реками песка, глины и разной другой земли.
— Да, именно
так! В этом, Саша, ключ к пониманию почти всех геологических процессов на
земле. Ты видел здесь, на нашем пути, разные слои породы. Все они сформированы
веществами, осажденными из воды в те времена, когда эта часть земной
поверхности была морским дном.
— Ну, а как же
ты узнал, что тот пласт с серыми трубочками-кораллами, который ты нашел утром,
— такой древний?
— Вот ты какой!
— смеется Иван Дементьевич. — Все подавай тебе сразу. У мамы, кажется, уже
готов ужин.
— Если можно,
папа...
— Ну ладно, но
только коротенько. Мы бы никогда не узнали, какие из отдельных слоев земной
поверхности старше, а какие моложе, если бы в них не было окаменелых остатков
растений и животных, или, как говорят геологи, окаменелостей. Дело в том, что,
когда земная кора остыла, на ней стала зарождаться жизнь... Сначала это были
самые простые организмы. Очень, очень медленно они развивались и
совершенствовались. Ученые называют это эволюцией жизни на земле. Каждой
геологической эпохе соответствуют свои виды растений и животных... Ты не
потерял нити моего рассказа?
— Кажется, нет.
Я вот как понял: ты смотришь на такие ископаемые остатки животных или растений
и по ним судишь, какие пласты образовались раньше, а какие позже.
— Ну вот,
главное ты постиг.
— А как ты
назвал эпоху того слоя с серыми трубками-кораллами?
— Палеозой. Это
греческое слово. Оно значит — «древняя жизнь». Все породы, которые мы до сих
пор встречали в этих горах, относятся к палеозою.
Иван
Дементьевич поднялся:
— А теперь
пошли кушать. Скорей мыть руки!
*
* *
Экспедиция
пересекла уже первую, невысокую цепь Верхоянских гор.
Иногда
маленький арьергард — Черский и Саша— забираются далеко в сторону от тропы. А
караван не задерживается, уходит вперед.
Какое раздолье!
Можно при желании поскакать во весь опор, остановиться когда хочешь.
Вот отец
завернул за выступ скалы, скрылся из виду. Только размеренный шаг коня эхом
отдается среди скал.
Саша сдерживает
Мышонка. Цоканье копыт впереди постепенно замирает.
Тишина,
одиночество. Он — Робинзон на необитаемом острове... Но уже через минуту
становится не по себе в мертвом безмолвии каменной пустыни.
Саша
пришпоривает коня.
А ведь как
хорошо быть всем вместе!
Впереди, в
глубокой дали, показался ползущий змейкой караван.
— Папа, дай мне
бинокль, посмотреть на наших.
В сильном
приближении можно различить Степана на белом Соколике, красную кофточку матери,
широкополую шляпу Гени.
— Сколько до
них, как ты думаешь, папа?
— Мы оторвались
версты на три... Посмотрим, услышат ли нас.
Иван
Дементьевич отстегнул притороченное к седлу ружье, выстрелил раз, другой. А
Саша не отрывает глаз от бинокля.
Будто много
времени прошло.
— Не слышат...
— Погоди, рано
еще.
— Ура! Мама
обернулась, машет нам платком!
— Помашем и мы.
Иван Дементьевич
привязывает белый сигнальный флаг к концу дула и подает условный знак: стоп на
отдых!
* * *
Спустились в
долину горной реки Сакрыр.
Переправа через
бурливую реку была трудной. Два битых часа искали броду. На скользких камнях
кони оступались.
— Смотри, папа,
— показывает Саша на речной откос, — здесь порода как будто другая.
— Заметил? Да, это уже не известняки. Камень
рыхлый, совсем иного строения. Это глинистые сланцы. Они тоже относятся к
палеозою.
С тех пор как
вступили в горы, Черский по нескольку раз в день записывал показания барометра.
Саша знал уже, что это делается для определения высоты отдельных точек
маршрута. Каждый вечер, когда отец вычерчивал на планшете пройденный путь, он
отмечал по этим показаниям и высоту над уровнем моря.
На привале,
после трудного подъема, мать озабоченно поглядывала на отца:
— Ты бы, Ваня, больше не подымался в гору
пешком. А то бросаешь повод Саше, а сам идешь и идешь в гору.
— Как это ты
заметила? — улыбается отец. — Едешь впереди, а за мной, оказывается, следишь.
Это только сегодня, на легком подъеме.
— Нет, право,
Ваня, напрасно ты утомляешься.
— Да не
беспокойся. Сам-то я сейчас забыл и о себе, и обо всем на свете. Дело, дело,
Маша! Ради него и живем. Есть ли что-нибудь увлекательнее дела геолога-пионера!
Вот и Саша тебе скажет то же самое...
— Ну, пусть так,
желаю вам удачи, геологи-пионеры! — смеется мать.
На десятый день
пути по Верхоянским горам, когда подошли к пенистой Дыбы́, кончились
древние палеозойские горные породы, тянувшиеся вдоль маршрута почти полтораста
верст, с самого вступления в горы. Вдоль горной тропы, которая круто
поднималась теперь вверх, к третьему перевалу, залегала новая, сероватая
порода.
Саша с трудом
отколол от скалы небольшой кусок.
Камень очень
плотный, твердый.
— Это, Саша,
песчаник. Давай измерим толщину пласта, установим его падение и простирание.
— Я бы хотел
все это сделать сам, а чтобы ты последил, как у меня получается. Можно?
— Ладно,
действуй! Только помни, что в этом деле нужна точность.
* * *
Караван прошел
уже по Верхоянским горам верст двести.
Трудно брать
крутые подъемы тяжело нагруженным коням. И все же по горной стране и животным и
людям продвигаться куда легче, чем по таежной равнине. В горах почти не встречается
заболоченных мест и совсем не досаждает гнус.
Вьючные кони
снова сильно высохли. Три лошади хромают — посбивали копыта до мяса.
Но экспедиция
пока не потеряла из своего табуна ни одной головы — редкая удача в этих суровых
местах.
Расторгуев не
спускает глаз с лошадей: если какая-нибудь выбьется из сил, вовремя облегчает
ее груз. Казак в совершенстве владеет труднейшим искусством находить верное
направление в таежных дебрях и пустынных горах Севера; он умеет выискивать в
боковых горных долинах стоянки с хорошим выпасом для большого табуна.
Иван
Дементьевич целиком положился на опыт Степана, полностью доверил ему заботу о
лошадях и имуществе экспедиции, предоставил выбор мест для стоянок. Все свое
внимание ученый отдает геологическому изучению гор.
Он доволен
первыми результатами.
— Знаешь, Маша,
я нашел много интересного, — говорит он Мавре Павловне, разгружая вместе с
Сашей на стоянке сумку с образцами. — Покажи-ка нам, Александр Иванович, номера
сто три и сто пять.
Саша протягивает
завернутые в бумагу и занумерованные куски породы:
— На этом вот
номере, мама, очень хорошо видны раковины. Я сам отбивал.
— Да ты, я
вижу, успел стать заправским геологом! — приглаживает непокорный Сашин чуб
Мавра Павловна.
Иван Дементьевич
показывает жене кусок породы:
— Погляди-ка на
этот образец, какие четкие отпечатки органических остатков. У меня наберется с
полсотни не хуже этого. Благодаря им можно будет с большой степенью точности
определить геологический возраст верхоянских напластований.
— Значит,
главное, Ваня, уже имеется.
— Нет, еще много
дела впереди. Хочу зарисовать с высшей точки хребта расположение цепей. Не
подвела бы только погода.
— Небо сейчас
чистое. Авось и завтра не затянет.
*
* *
Еще не взошло
солнце, когда караван начал подъем к главному перевалу.
Сквозь ветви
лиственниц Саша глядит на клочья облаков, повисших на горных вершинах. Под
лучами невидимого солнца облака вспыхивают и быстро тают в прозрачном небе.
День выдался на
редкость ясный.
Лиственницы
постепенно становятся все тоньше и ниже, и, наконец, их сменяют заросли
кедрового стланца.
Горизонт
расширяется. Со всех сторон вздымают свои вершины синеющие хвоей горы.
Скоро кончился
и кустарник. Все вокруг стало голо. Под копытами лошадей — крупный щебень.
Расторгуев
повел караван по ущелью, выводящему к самой седловине перевала. Лошади с
опаской ставят ноги на влажные камни, меж которыми с шипеньем пенятся воды
горного потока.
На перевал
вышли, когда солнце уже поднялось над горами.
С высоты 1800
метров открывался вид почти на весь пройденный от Алдана путь — цепь гор, а за
нею, в глубокой дали, угадывались расплывчатые очертания приалданской гряды.
Горы и долины
покрывала бархатным плащом густая, темно-зеленая тайга. Картина была
величественная и суровая.
— Посмотри
сюда, Саша!
Саша подбежал к
матери, присевшей на камень у другого края седловины.
В ту сторону
видны были просторы северо-восточного склона. Плавно, очень полого спадали к
востоку горы главного хребта. Изумрудные, залитые солнцем луга раскинулись до
еле приметной на горизонте четвертой горной цепи.
— Вон где наши
кони нагуляют жиру! — показывает вниз Степан. — А за теми камнями корм и того
лучше.
Стали
развьючивать, разбивать палатки.
* * *
После короткого
отдыха Иван Дементьевич начал готовиться к задуманному им восхождению.
— Посмотри,
Маша, — передал он бинокль Мавре Павловне, — вон, налево, подходящая для
подъема вершина — с нашей стороны не очень крутая и всего метров двести выше
перевала. Оттуда весь хребет будет виден как на ладони. Если отправлюсь сейчас,
часам к трем буду там, а к пяти вернусь в лагерь.
— И я с тобой,
Ваня!
— Пойдем, если
хочешь.
Иван
Дементьевич берет с собой анероид, компас, бинокль, тетрадь с карандашом для
зарисовок. Мавра Павловна достает из багажа две альпийские палки.
— Папа, а мне
разве нельзя с вами?
— Нет,
оставайся в лагере.
Сначала немного
спустились по щебенистой россыпи. Потом начался подъем.
Черский шел
легко, ритмично, как опытный, тренированный в горных походах геолог. Поднявшись
метров на двадцать, отдыхал.
Когда одолели уже
треть подъема, он начал останавливаться чаще. Мавра Павловна, шедшая позади;
мужа, встревожилась.
— Может быть,
отдохнем? — предложила она.
Иван
Дементьевич обернулся. Лицо его было очень бледно.
— Нет, пойдем
дальше.
Мавра Павловна услышала неровное, тяжелое
дыхание мужа. Теперь он останавливался поминутно, вонзал палку в землю и всем
телом наваливался на нее, чтобы перевести дух.
Вдруг он сел.
Оперся подбородком на ладони, глядел себе под ноги и дышал часто и бурно.
Мавра Павловна
положила руку на плечо мужа и молчала. Она знала: Иван Дементьевич не терпел
ненужных слов сочувствия.
Так прошло
несколько минут.
— Смотри, Ваня,
сюда бегут Степан и Саша.
Черский поднял
голову:
— Да, верно...
Саша из лагеря
следил за подъемом. Заметив что-то неладное, он сильно забеспокоился и вместе
со Степаном побежал к отцу.
При их
приближении Иван Дементьевич поднялся с земли и совсем спокойно сказал:
— Ну вот, что-то
нездоровится сегодня.
— Иван
Дементьевич, дозвольте — снесу вас наверх. Мне это нипочем!
— Спасибо,
Степан. Вы добрый наш друг, я знаю. Нет, я уж постараюсь сам подняться.
Дальше пошли
вчетвером.
Иван
Дементьевич пользовался каждой возможностью облегчить для себя подъем,
подвигался вверх зигзагообразно. Местами, где было круто, он хватался за кушак
Степана, шедшего впереди.
Ноздри
раздувались от усилия, от сдерживаемого тяжелого дыхания. Но Черский шел и шел,
не сдавался.
Очень обрадовалась
Мавра Павловна тоненькой струйке родника, выбивавшейся из камня:
— Вот удача!
Напьемся здесь и отдохнем немного. Тут и тень.
Утолив жажду,
сели, прислонились к выступу скалы.
Черский смочил
лицо, голову, грудь. Ему стало легче.
— Ну что ж, зачем время терять — пойдем!
Теперь до
вершины было совсем недалеко.
Вот, наконец,
вышли на нее.
На лице ученого
торжество — он все-таки одолел эту гору!
Тесная площадка
слегка наклонена к северу.
Иван
Дементьевич глядит на стрелку барометра:
— Две тысячи
пятнадцать метров! Только те вон гребни на севере много выше нас. Жаль, что
нельзя подняться и на них. А так — градусов шестьдесят горизонта для нас
закрыты.
Черский
подходит к самому краю площадки, оглядывает горный пейзаж, раскинувшийся у ног.
Он снял шляпу. Ветер треплет его светлую шевелюру.
Ученый
отстегивает от пояса компас и долго выверяет направление главной горной цепи.
— Вот видишь,
Маша, — обращается он к жене,— недаром я столько ожидал от этого подъема.
Теперь уже нет сомнения в том, что карты неправильно показывают направление
Верхоянского хребта. В действительности цепи гораздо сильнее загибаются к
востоку... Саша! — зовет он сына. — На вот, возьми мою тетрадь и набросай линии
гор, но строго по компасу. Сначала стань лицом точно к северу, потом
вполоборота — прямо на юг. Я проверю рисунок.
* * *
Пустынный край.
На долгом пути
от Алдана навстречу каравану экспедиции проехали только три верховых якута. А
обогнали его всего лишь два всадника.
Однако весть о
Черском и его спутниках с непостижимой быстротой понеслась от Алдана к
Индигирке и оттуда на Колыму. Вовсю заработал «якутский телеграф».
За сотни верст
от ползущего по горам каравана встречаются двое якутов:
— Рассказывай!
— Нечего
рассказывать. Ничего не слышал и не видел.
А за этим
следует обстоятельный рассказ о караване в девять человек и сорок две лошади,
идущем через горы на Колыму. Перечисляются мельчайшие подробности: масть
лошадей, сколько из них сбило спины, сколько хромает. Количество вьюков, имена
погонщиков.
— А начальник у
них — старец, великий русский тойон. У него каменные глаза (это значит очки),
мерзлый язык и на лице волосы, как у собаки (борода). С ним другой старичок...
У якутов только
к старости отрастают иногда на подбородке жидкие кустики волос, да и те они
старательно выщипывают. Бородка Генриха делала его в глазах якутов стариком.
— ...и молодая
женщина, которая собирает целебные травы. У женщины мальчик, он понимает
по-нашему.
— Зачем едут?
За мехами?
— Нет. Говорят — лечить будут якутов. И пушного зверя в
лесах разводить начнут, чтобы лучше стала охота.
Узнав такую
новость, якут на время забывает о деле, по которому ехал, дает крюку верст
пятьдесят, а то и сто, чтобы побывать у знакомого, поделиться только что
услышанным.
В якутской
глуши нет желанней гостя, чем человек, приносящий свежие новости. Наговорившись
вволю, попотчевав приятеля, хозяин провожает его, седлает коня и спешит с
удивительной вестью к соседу — к далекой юрте, затерянной в тайге.
Глава XIII
ЧЕРЕЗ ТРИ ХРЕБТА
Жаркий июльский
день.
Экспедиция
спускается с последней гряды Верхоянских гор в долину Индигирки. Внизу лежат
пастбища Оймякона.
По берегу реки
разбросаны якутские юрты. Их не так уж много: всего четыре - пять. Но Саша
отвык от вида человеческого жилья, и Оймякон кажется ему большим поселением.
Прибывших
явился приветствовать волостной старшина — важный якут с начищенной медной
бляхой на груди и кортиком у пояса.
Иван
Дементьевич сказал старшине, что пробудет на Индигирке с неделю.
Такая длительная стоянка была неизбежна.
Экспедиция прошла уже половину тяжелого пути до Колымы. А впереди ее снова
ждала трудная горная дорога. Люди сильно нуждались в отдыхе. Кроме того
предстояло сменить вьючных коней.
Разбив лагерь,
принялись чинить одежду, латать продранные сумы вьюков, стирать белье.
Хотя и знойно,
но вода в Индигирке кажется ледяной.
— Купаемся,
папа? — нерешительно предлагает Саша.
— Посмотрим,
что скажет термометр.
Черский
погружает градусник в воду:
— Пятнадцать
градусов. Холодновато, но мыться вполне можно, да и побарахтаться немного в
реке, если охота.
Саша быстро
раздевается, входит в воду. После нескольких окатываний уже не обжигает
холодом.
— Папа, я
поплыву.
— Только
недалеко. А позову — плыви назад,
К реке пришли
помыться и ямщики.
Они
засмотрелись на диковину: мальчик держится на воде, хоть под ним глубина куда
выше его роста!
— Что делаешь!
Утонешь! — кричит Байбал, видя, что Саша все удаляется от берега.
Сбежались и
местные жители, привлеченные необычным зрелищем:
— Смотри,
смотри, плывет!
Саша решил
показать все свое уменье. Он нырнул, всплыл и снова нырнул, стараясь подольше
задержаться под водой.
— Ай, беда!
Тонет мальчик! — заволновались на берегу.
Но пловец уже
снова на воде. Отец подает знак, приходится возвращаться.
— Э-ха! —
изумляются оймяконцы. — Совсем как утка ныряет. И как это он дышит под водой?
— Что это,
Степан, здешний народ так удивляется? У какой реки живут, а плавать не умеют!
— Да где уж тут, Иван Дементьевич! Теплые дни
в этих краях наперечет. И помыться-то редко кому придет охота, не то что
плавать...
* * *
Экспедиция
покинула Оймякон в конце июля. Стало прохладнее, и теперь караван двигался
только днем.
Пройдя в
юго-восточном направлении сотню верст, круто повернули на восток — северо-восток.
До
Верхне-Колымска — конечной цели путешествия этого года — оставалось по прямой
не более шестисот верет. Но прямого пути не было, приходилось бесконечно
петлять по долинам горных рек и трудным горным перевалам.
На четвертый
день после выхода из Оймякона перед путниками снова встали высокие горы.
Однообразная,
унылая тайга. Лиственницы вытягивают над тропою свои жидкие, словно обгрызенные
ветви. Только в низинах, у речек, по-прежнему радуют взор путника
бальзамические тополи и приветно шуршат листвой высокоствольные тальники.
Караван поднимается
по узкой речной долине. С одной ее стороны, по залитому солнцем склону,
обращенному к югу, — кудрявые березки, блестящая листва тополей, буйные травы.
А на другой, теневой стороне — ни деревца, ни куста. Все заросло белым
лишайником.
Вышли к
подножию горного хребта.
Когда достигли
перевала, открылись северо-восточные отроги горной цепи.
А ниже — дикий
хаос каменных глыб. Длительный процесс выветривания расслоил, раздробил пласты
породы.
— Как
разворошило гору! — удивляется Мавра Павловна.
— Этот перевал
якуты называют Тас-Кыстáбыт. Ну-ка, Саша, можешь ты перевести?
— Кажется,
папа, это значит «набросанные камни». Давай назовем так этот хребет.
— Очень удачное
название! Именно так — словно брошены чьей-то гигантской рукой.
Застывшими
потоками сереют по склонам осыпи щебня.
За
Тас-Кыстабытом путь лежал вдоль верховьев Неры.
— Скоро опять
пойдут бадараны, — оповестил на стоянке проводник.
— В обход бы,
Степан Тимофеевич... Измучимся ведь! — забеспокоилась Черская.
— Не извольте
тревожиться, Мавра Павловна, тут бадараны не злые. Пройдем их куды как легше.
Караван вышел к
безлесной равнине, залитой водой. Только кое-где торчали кочки, поросшие
болотной травой.
Степан уверенно
погнал своего Соколика в воду. Конь шел легко, хотя воды ему было по брюхо.
Следом двинулись и остальные.
Иван
Дементьевич отстегнул от седла альпийскую палку, ткнул ею в глубину бадарана и
передал палку сыну.
— Под водой
здесь вечная мерзлота. Помнишь, я тебе рассказывал? Вот, попробуй сам.
Саша прощупал
дно:
— Совсем как
лед, знаешь, мама?
— Выходит,
правду сказал Степан Тимофеевич. Идти будет легче — не то что по таежному
болоту.
Черский и Мавра
Павловна проехали вперед, к голове каравана.
Бадаран
постепенно мелел. Теперь воды было Мышонку по колено.
— Смотри,
Байбал, я сейчас на ходу полезу коню под брюхо.
— Ну? На
бадаране?
— А что ж
такого! Думаешь, боюсь?
Саше не
терпелось испробовать якутский прием езды, которому Байбал обучал его на
стоянке.
Он бросил
поводья. Держась за луку, другой рукой дотянулся до подпруги и стал постепенно
съезжать с седла. Когда нога уперлась в заднюю луку, он свесился всем телом
вниз, начал быстро перебирать руками по подпруге и рывком подтянулся под брюхо
лошади. Ноги крепко обхватывали бока Мышонка.
— Ай, молодец!
Совсем как якут умеешь, — похвалил Байбал.
Саша уже
собирался снова водвориться в седле, да на беду как раз в эту минуту Мавра
Павловна оглянулась назад. Она увидела, что на Мышонке нет всадника:
«Свалился!»
Саша утонул!
Остановитесь! Остановитесь! — закричала она.
Караван стал.
Мавра Павловна, Иван Дементьевич, проводник поспешили назад.
Тревога быстро
рассеялась: из-под брюха Мышонка показалась голова Саши. Он изо всех сил
пытался взобраться на спину лошади, но, видно, от волнения никак не мог этого
сделать.
Степан поспешил
на помощь и усадил мальчика в седло.
— Дрянной
мальчишка! Как напугал! — Взволнованная Мавра Павловна ласково потрепала сына
за ухо.
Черский подвел
своего Шалуна к Мышонку.
— Это что за
джигитовка? — строго сказал он. — Ты, Александр Иванович, задержал весь
караван!
— Я... я... —
Саша опустил голову. — Я не подумал...
Отец
отвернулся: он улыбался в бороду.
* * *
Стали на
ночевку.
Черский
вынимает планшет:
— Что там у
тебя, Саша?
Прошло то
время, когда нанесение маршрута на планшет казалось Саше таинственным
священнодействием. Теперь он сам принимает в этом участие и в походе не
расстается с компасом, часами и записной книжкой.
Он заглядывает
в свои заметки:
— Утром мы
выступили на чистый северо-восток. Так шли верст шесть. Переправились вброд
через речку и повернули налево, к северу.
— Какой
считаешь поворот?
— Пятнадцать
градусов.
— Так. А
дальше?
— Дальше по
этому направлению еще верст пятнадцать до привала.
— Нет, ты не
заметил второго поворота. Верно, Степан?
— Верно, Иван
Дементьевич, забрали малость вправо.
Цветной
карандаш отмечает на эскизе еще кусочек пути.
— А после
утреннего привала что?
Саша
перелистывает странички:
— Я записал:
еще на десять градусов к востоку.
— Да,
пожалуй... А расстояние?
— Вот тут я
сбился со счету. Дорога все время петляла... Но Байбал говорит — прошли два
кёса, я так и записал.
— Два кёса? —
Иван Дементьевич рассмеялся.— Ты разве не заметил, как это ненадежно — кёс?
Саша и сам
хохочет:
— Мне Уйбан
объяснял, что кёс — такое расстояние, какое можно пройти, пока растает лед в
котле, вскипит вода и сварится кусок мяса. Вот чудно, правда? Котел может быть
большой или совсем маленький. И кусок мяса тоже...
— Теперь ясно,
почему у каждого якута свой кёс. Все зависит от размеров котла и аппетита! На
этот раз Байбал не ошибся, если считать его кёс верст в восемь.
* * *
Начало августа.
Короткому северному лету пришел конец. Солнце греет слабо, а к вечеру
температура иногда падает ниже нуля.
Долины
разукрасились в яркие цвета осени. Вдоль речек — золото пожелтевших тополей и
тальников. На покрытых лишайником склонах проступили кроваво-красные пятна
карликовой березы.
Верхушки гор
побелели.
Как прекрасен
этот прощальный привет приполярной природы! За Уралом еще лето в разгаре, а тут
все живое охвачено предчувствием долгой, суровой зимы...
Надо спешить,
скоро нагрянет жестокий хозяин здешних мест — пятидесятиградусный мороз!
Иногда, если
путь не тяжел, начинает петь старый одноглазый Уйбан.
Раскачиваясь в
седле, он без конца тянет одну и ту же унылую ноту. Саша вслушивается в эту
песню, похожую на плач:
— ...И скажет
мне жена: «Где ты бродил, Уйбан? Зачем оставил жену и детей?» И отвечу жене:
«Ездил я с бородатым русским тойоном, великим мудрецом и лекарем. Он знает все
тайны гор и рек, лесов и небес. И птицы, и мыши, и листья с деревьев, и цветы
на полянах рассказывают ему всё о себе. Добрый человек наш русский тойон. Он не
бьет якутов, и не ругает якутов, и кормит якутов, и лечит якутов...»
Потом очередь
доходит до перечисления достоинств Мавры Павловны. Слышит Саша и песню,
сложенную о нем — мальчике с глазами, как два кусочка льда, который умеет
нырять, словно утка, и говорить по-якутски.
Уйбан может без
конца восхвалять доброго русского тойона и его семейство.
Но старик не
исчерпал еще своего вдохновения. Он начинает петь о вороне, только что
пролетевшем над караваном:
— ...И прилетел
тот молодой ворон из гнезда своей матери. То гнездо на лиственнице, и верхушка
той лиственницы выше гор, выше облаков. И клюв у того молодого ворона
железный...
Долго еще поет
Уйбан. Его товарищи слушают песню, слагаемую на ходу. Иногда одобрительно
крякают, в иных местах чему-то улыбаются.
* * *
На горизонте
виднеется горная цепь с острыми вершинами.
— Там, Иван
Дементьевич, Улахáн-Чистáй, — показал
на горы Степан. — Это понимать надобно — большое место без леса. На тех камнях
не сыскать и хворостинки, чтобы чайник согреть.
На последней стоянке
перед подъемом наготовили дров, навьючили вязанки на запасных коней.
Перевалили через
первую цепь. Глазам путников открылась высокогорная долина, зажатая между двумя
грядами. Здесь было превосходное пастбище, но ни единого деревца, ни кустика.
Поставили
палатки, развели огонь. Мавра Павловна хлопотала у костра:
— Заберись мы
сюда без дров, пришлось бы заместо ужина напиться холодной водицы из ручья. А
сейчас я отварю на этих самых дровишках солонины на всю артель, да еще напеку к
чаю лепешек.
— Значит, мама,
у нас будет чаи с куском. Вот хорошо!
— Как так — с
куском?
— А вот, когда
к чаю лепешки... Я это слыхал
— Верно, Мавра
Павловна, — смеется Степан, — здешний народ так говорит.
— А ты, Сашок,
по-якутски учишься, да и по-русски, я вижу, переучиваешься. Скоро совсем перестану
понимать, что говоришь, — шутит Мавра Павловна. — И как это ты быстро запомнил
столько якутских слов!
— Что ж тут
удивительного, Маша? Проводит целые дни с Байбалом, вот и научился. И очень кстати.
Из нас пятерых теперь уже двое могут сговориться с якутами. Придется
поупражняться и остальным. Ведь в здешних краях и все другие народности умеют
говорить на этом языке.
— Вот уж ни к
чему забивать себе голову чем попало! — пожал плечами Генрих.
— Иван
Дементьевич с досадой посмотрел на племянника:
— Неужели ты
собираешься все четыре года изъясняться одними жестами? Не очень то удобно. В
экспедиции ведь всяко бывает...
Не успели пообедать,
как с севера нагрянул холодный ветер. Небо затянуло тяжелыми тучами.
А назавтра,
когда Саша, встав раньше всех выглянул из палатки, он закричал в изумлении:
— Посмотрите,
все завалило снегом. Настоящая зима. А сегодня только пятнадцатое августа!
На палатки, на сложенные штабелем тюки
намело целые сугробы.
Снег шел, не
переставая до трех часов дня.
Торопясь убраться
с неприветливого Улахан-Чиистая, наскоро поели и быстро навьючили коней
Снегопад
прекратился, но все вокруг заволокло густым туманом. Проводник долго не мог
найти восточного выхода из долины. А когда туманная мгла немного поредела,
Степан взял, наконец, верное направление и вывел караван к разрыву горной
гряды.
Глубоко внизу
путники увидели долину реки Боролулах. Там была еще осень. Тополи и карликовые
березки переливали желтыми и красными тонами. Снега внизу не было.
* * *
Экспедиция пересекла
последний на ее пути горный кряж — крутой каменный барьер Тóмус-Хая. За ним начинался пологий спуск к Колыме, вдоль ее притока — реки
Зырянки.
Несколько раз
досаждали снегопады вперемежку с дождем. Но теперь горы были уже позади, а Верхне-Колымск
— совсем близко.
— Что за отвратительные
места! — ворчит Генрих придвигаясь с кружкой чая поближе к огню. — Сыро, как у
нас в ноябре. Лучше уж снег и мороз, чем такая погода.
— Прекрасный
край, Геня! — живо возражает Черский, отрываясь от записи в. журнал. — Только
чтобы почувствовать это, надо проявить больше интереса к своему делу. Вот ты
стрелял вчера в горного барана и промахнулся. А ведь какой экземпляр упустил!
Генрих сердито
смотрит на дядю:
— Тут нет моей
вины — даже лучший стрелок иногда промажет.
— Я и не
говорю, что ты виноват. Но вот делаешь ты все как-то без охоты. А в экспедиции
чем занять свое время человеку, ко всему равнодушному?.. Встряхнись,
пожалуйста, прошу тебя для твоего же блага!
— Надоела мне
эта бесконечная поездка... — вяло отвечает Генрих.
Черский досадливо
пожимает плечами.
Придвинувшись к
костру, он стал просматривать журнал:
— Вот, Маша, я
перелистал сейчас свои записи. И знаешь — то, что мы наблюдали за время
перехода от Якутска, вносит много нового в топографию края.
— Это ты, Ваня,
о карте?
— Именно о ней.
На зимовье я вычерчу новую карту по дорожным планшетам. Но меня, как геолога,
занимает еще и другое. Ты сейчас поймешь, в чем дело. Ну-ка, Саша, сколько
верст мы прошли в Верхоянских горах по местам с известняками и глинистыми сланцами?
— Ты говорил,
эти породы тянулись полтораста верст.
— Да, примерно
столько. А потом начались триасовые песчаники. Это была длиннейшая полоса — верст
четыреста. В нее вошли и Индигирка, и Тас-Кыстабыт. Затем, если ты помнишь,
триас кончился на восточном склоне Улахан-Чистая. И снова пошел палеозой —
известняки и сланцы. Весь хребет Томус-Хая сложен палеозойскими известняками.
Иван
Дементьевич потянулся за своей кружкой чая.
— О чем говорит
такое чередование пород и их направление? — продолжал он. — О том, что в эти
места вторглись когда-то воды древнего триасового моря. С севера оно образовало
залив шириной в четыреста верст и отложило там свои осадки. А более древние
породы, которые мы видели, были тогда берегами широчайшего морского залива.
Саша задумался.
В его воображении встала картина: морские волны плещутся у подножия хребта
Томус-Хая...
И отец первый
своими исследованиями открыл далекое геологическое прошлое этих мест!
Глава XIV
НА ЗИМОВЬЕ
Караван
остановился на широком лугу, залитом полой водой.
— Ну вот,
друзья, и конец нашему маршруту первого года! — весело говорит Черский своим
спутникам. — Уже сегодня мы станем полноправными гражданами Верхне-Колымска до
самой весны. Да только как мы туда доберемся? Тут половодье воде краю не видно,
всю низину затопило!
— Посуху, Иван
Дементьевич, никак не объехать. Надобно вызвать из поселка карбасы.
По ту сторону
поймы, примерно в полуверсте, виднеется деревянная церковка и рядом с ней
несколько изб — вот и весь Верхне-Колымск!
Все с жадным
интересом разглядывают поселок: ведь здесь придется провести долгих девять
месяцев.
— Ты чего
ждешь, Геня, салютуй! — окликнул Иван Дементьевич племянника. — Видишь,
верхне-колымцы уже заметили нас.
Генрих пальнул
раз-другой из двустволки. Над рекой вспыхнули дымки ответных выстрелов.
— Обмен
любезностями по всем правилам, — смеется Генрих, — вроде встречи старинного
посольства.
От поселка уже
отчалили две большие лодки.
— Ну и
разлилась же нынче Ясачная! — удивляется Расторгуев.
Саша изумлен:
— Дядя Степан!
А это разве не Колыма?
— Колыма-матушка
отсель верст пять, — показал вдаль Степан. — Ее и не видно.
— Ой, как
далеко! А как же мой плот?
— Какой такой
плот?
— Да это так! —
спохватился Саша. — Я вам потом расскажу.
Груз уже сложен
у самой воды. Табун пустили пастись, но усталые кони пощипывают траву словно
нехотя.
Иван
Дементьевич велел Расторгуеву завтра же закупить сена:
— Надо
основательно подкормить лошадей, они того заслужили, немало помучились. Хорошо
еще что в обратный путь пойдут налегке.
— Кривошапкин
наказал рабочим простоять тут не более трех ден — и сразу в обрат, в Оймякон —
напоминает Степан.
— Маша,
обратился Черский к жене, — выдай ямщикам сухарей и чаю побольше.
— Я дам и
солонины.
— Прекрасно! Да
передайте им, Степан, приглашение, чтоб на прощанье обязательно побывали у нас.
Вышлете за ними лодку.
Подошли
карбасы. Началась погрузка.
У Саши давно
припрятано несколько кусков сахару. Разыскав в табуне Мышонка, он порылся в
кармане, достал угощение, поерошил холку своему верному товарищу:
— Ешь, Мышка!
Мышонок слизнул с ладони сахар и звучно схрупал.
Словно предчувствуя разлуку, поглядел на Сашу своими умными глазами и потерся
шеей об его плечо.
— Сашка, ты что
там возишься? Иди скорее в лодку! — позвал Генрих.
Саша быстро, не
оглядываясь, побежал к карбасу.
* * *
Верхне-Колымск
— это всего-навсего семь изб и одна якутская юрта, беспорядочно разбросанные
вдоль берега. В почерневших от плесени стенах — подслеповатые слюдяные или
затянутые ситцем окошки. Ни крыш, ни оград, словно строили эти жилища наспех,
да так и бросили недостроенными.
Позади поселка,
в низине, раскинулся густой высокоствольный лес в осеннем уборе. Белый тополь,
тальник, осина, береза. Много лиственницы.
Для членов
экспедиции, по распоряжению из Якутска, приготовлена пустовавшая избушка. Она
построена на русский лад, срубом. Над плоской кровлей торчит быгальница — шест
для сушки рыбы.
Пригибаясь под
низкой притолокой, прибывшие вошли в будущее свое жилище.
Сруб — восемь
шагов на пятнадцать — поделен перегородками на четыре махонькие клетушки. В
одной из них — два оконца величиной с носовой платок, а в остальных по одному.
— Глядите —
русская печь! — обрадовалась Мавра Павловна. — Кажись, век целый не видала...
Вот хорошо! Завтра же напеку пирогов... Стало быть, здесь будет наша кухня.
— Посмотри,
мама, тут и настоящий якутский камелек... А окна из каких кусочков! — Он
сосчитал: — Тридцать слюдинок в одной раме.
Иван Дементьевич подошел к окошку:
— Да... Сквозь
такую слюдяную мозаику света для моих глаз будет маловато.
— Это только
покуда вставят в окна лед, — поспешил успокоить его Степан. — После того свету
сильно прибудет.
Осмотрели весь
домик.
— Ты, Ваня, будешь заниматься в этой
комнате: тут как будто посветлее — она на восток, — решает Мавра Павловна. — Да
и камелек в ней поставлен. Все теплей будет, когда засядешь за работу. А в тех
двух спальни устроим.
— Скажите,
пожалуйста, самый настоящий диван! Вот только немножко покалечен... — Иван
Дементьевич вытаскивает несколько поленьев из продавленного сиденья. — Хотел бы
я знать, какими судьбами занесло эту почтенную мебель на берега Колымы. По
стилю судя, ему лет полтораста, не меньше.
— А нам, Ваня, это ископаемое в самую пору!
Дружно принялись за устройство зимовья. Всем руководила Мавра Павловна.
Степан поставил
у окошка несколько вьючных ящиков, положил на них дверь, снятую с петель —
получилось нечто вроде большого письменного стола. Мавра Павловна покрыла его
плотной бумагой, извлекла подсвечники, письменный прибор. По стенам развесили
карты.
— Неплохо ведь
получилось, правда?
— Превосходно,
Маша!
Саша, распилил
ножовкой несколько найденных на кухне досок. Геня забил в стены костыли. На
угольничках и этажерках заблестела посуда.
Много хлопот
доставило «обновление» дивана. В сиденье напихали сена, перекрыли его кошмами.
Мавра Павловна сшила вместе несколько сыромятных кож от переметных сум —
получилась большая пестрая покрышка.
Иван
Дементьевич попробовал лечь на это великолепное сооружение:
— Наш друг,
якутский губернатор, может нам позавидовать! Такого дивана наверняка не сыскать
во всей его столице.
Над диваном
повесили крест-накрест две пары ружей.
Все из тех же
вьючных ящиков соорудили перед диваном обеденный стол и сиденья вокруг него.
— Ну-ка, посмотрим,
как доехал наш гармонифлют... — Иван Дементьевич извлек из плотного картонного
футляра музыкальный инструмент, похожий на аккордеон. Сбоку над клавишами
торчат медные трубки. Черский слегка растянул меха, и комната наполнилась
густыми басовыми звуками.
— Цел и
невредим! Ему отведем место на самой широкой полке... А теперь, Саша, прибей-ка
свой календарь.
Мальчик взял со
стола отрывной календарь:
— Над диваном,
правда, папа?
— Да, лучше
всего.
Перед
календарем поблекло все — и начищенные до блеска ружья, и чайные лакированные
коробки, черные с позолотой, и даже гармонифлют.
Саша стал
обрывать один за другим старые листки. Стоя вокруг, все глядели на поток черных
и красных чисел, струившийся на сиденье дивана.
— Первое
февраля — мы выезжаем из Питера, приговаривает Саша. — Теперь приехали в
Иркутск. Выехали из Иркутска. Плывем, плывем, плывем... Папа, я забыл: когда мы
приплыли в Якутск?
— Ты уже
проскочил — это было тридцатого мая.
— Ах, да!
Теперь мы выступили из Якутска. Тракт... Горы... Здесь Оймякон. Снова горы... —
Рука Саши остановилась: — А вот — сегодня! Двадцать восьмое августа 1891 года.
Мы в Верхне-Колымске!
С устройством
спален было много проще. С этим покончили быстро.
Окна застлала
ночная тьма. Зажгли свечу.
Мавра Павловна
приготовила наскоро ужин, позвала всех к столу:
— Будем пить чай
на нашей домашней скатерти...
— И вспоминать
о покинутой цивилизации! — весело подхватил Геня.
Все засмеялись.
Впервые ели не
спеша, не по-походному, наслаждаясь обретенным наконец домашним уютом.
Пора и на
покой.
Совсем
раздеться, растянуться на мягкой постели, приготовленной матерью из войлока,
подушек и одеял, — что может быть лучше после долгого, бесконечно долгого пути!
Отдых! Отдых!
* * *
Назавтра, когда
сидели за утренним чаем, в избу вошел высокий, худой человек. Бледное лицо его
густо обросло бородой.
Мир дому сему!
— начал он. — Меня зовут отец Василий. А лучше — Василий Егорович. Я местный
священнослужитель Сучковский.
Иван Дементьевич пригласил вошедшего сесть.
— Колебался я,
господин Черский: идти к вам по-соседски или не следует. Ведь прямо скажу, могу
вас поставить в неудобное положение своим визитом.
— Это почему
же? — удивился Черский.
— Я штрафной.
Иван
Дементьевич рассмеялся:
— Бывают разве
и такие священники?
— А вам не
приходилось слышать? Самый настоящий поп-бунтовщик. В синоде долго раздумывали
— лишить меня сана или сослать, куда Макар телят не гонял. Выбрали, как видите,
последнее.
— Садитесь,
пожалуйста, Василий Егорович, к столу, отведайте нашего пирога! — пригласила
Мавра Павловна.
— И расскажите,
за что это обрушился на вас гнев церковного начальства.
— Это, Иван
Дементьевич, длинная история. Надо вам сказать — восемнадцать лет тому назад я
кончил первым Московскую духовную академию. Если бы не строптивый нрав, быть бы
мне теперь архиереем. Ан вышло по-иному... Без малого двадцать лет воюю с
высшими иереями церкви. И вот — потерпел я в оной войне полное поражение.
Разбит наголову!
— Да, уж если
оказались в Верхне-Колымске... — сочувственно заметил Черский.
Гость невесело
улыбнулся:
— Здесь, Иван
Дементьевич, я обрел некоторым образом тихую пристань после долгих мытарств. А
сколько их было... Когда кончил академию, назначили меня в Киевскую духовную
семинарию преподавателем российской словесности. Ну и вот. У меня в классе были
юноши любознательные, много читали. Как водится, составили там келейно
литературный кружок. Семинаристы меня не чуждались, доверяли мне. В их кружке я
рассказывал о светочах новой литературы нашей — о Чернышевском, Добролюбове, Писареве.
И вот, подите же, нашелся фискал, донес по начальству. По указу синода меня,
раба божьего, загнали на Волгу сельским священником. Ну, а там я не ужился с
местными попами. Знаете церковные нравы? Придет мужик венчаться — дай
поросенка. Крестить младенца — тащи гуся. Всякие там рублики, яйца, куличи... С
мужика тянут за все. Я восстал против нечестивых поповских дел. И опять на меня
донос. А потом пошло — с Волги меня спихнули на Урал, оттуда — прямехонько в
Якутск. А тамошний архиерей заявил мне: «Поелику восстаешь ты против
установленного порядка, то есть ты наихудший бунтовщик, и место тебе в темнице.
Но из милости даю тебе приход на Колыме. Авось там поостынешь!..» —
Взволнованный воспоминаниями, Сучковский поднялся со скамьи: — Вот теперь и
решайте, захотите ли вы якшаться с крамольным попом!
— Да что вы,
что вы, Василий Егорович! Вы всегда будете у нас желанным гостем.
* * *
Зимовщики шли
от избы к избе.
Нигде ни души.
Двери приперты воткнутыми в землю кольями.
— Все как есть
рыбачат, — замечает Степан. — Ныне тут самая горячая пора. Только приказчик
остался в магазее. Вона его изба!
«Магазея»
оказалась всего лишь убогой лавчонкой. Несколько штук бумажной ткани на полках.
Рядом круглые жестянки с порохом, мешки с дробью. Тут же сложенные в черные
штабельки кирпичи чая.
В лавке стоит
острый дух от наваленных пакетов прелого табака.
Пришедших встретил
белобрысый детина, приказчик средне-колымского купца Бережнова. Расторгуеву уже
приходилось иметь с ним дело.
— Опять к тебе,
Павел Трофимыч. Господа желают посмотреть, какая она есть, твоя торговля.
— Наше вам
почтение! — поклонился приказчик. — Что, Степан Тимофеич, добро сено я тебе
продал?
— Этим товаром
меня не обманешь!
— То верно, —
засмеялся приказчик. — На сене коня иной раз провести можно, а уж якутского
казака — ни в жисть!
Мавра Павловна
стала справляться о ценах. Каждый ответ повергал ее в ужас: пуд ржаной муки —
четырнадцать рублей, фунт сахару — рубль, кирпич чаю — три рубля.
— Да кто же у
вас купит за такие деньги? Кому это по карману?
— А мы на
деньги почитай что и не торгуем. У кого здесь быть деньгам-то? Больше меняем на
пышное.
— Как вы
сказали? — переспросил Иван Дементьевич.
— Стало быть,
на белку, горностая, лису али что другое — у ламутов, юкагиров, да и у
промысловых якутов.
Когда вышли из
лавки, Мавра Павловна сказала мужу:
— Теперь вся надежда
только на губернатора, что доставит вовремя нашу провизию. Здесь, на месте,
покупать не придется. Разве что крайность...
— Какая может
быть крайность! — убежденно возразил Черский. — У нас с собой мука, свиное
сало, ветчина, сухари, чай, сахар. А тут рыбы великое изобилие. До прибытия
наших запасов проживем припеваючи!
Саше не терпится скорее увидеть реку, с
которой у него связаны такие важные планы.
— Пойдем, папа,
к Колыме — мне хочется посмотреть.
— Мы не пойдем,
а спустимся к ней на лодках по Ясачной. Лодки наймем у приказчика. Что, Степан,
долго плыть до заимки?
— Часа за два
доберемся.
— Вот и хорошо.
Мы там купим свежей рыбы.
Через полчаса
вниз по Ясачной плыли две ветки.
В передней греб
длинным двухлопастным веслом Степан. С ним сидели Мавра Павловна и Саша.
Вот и Колыма:
широкая водная гладь вся в пенных всплесках.
С низкой лодки
река кажется выпуклой. Далекий правый берег поднимается красноватыми утесами.
Над ними — темные зазубрины тайги.
Левый берег
сплошь низменный.
Посередине реки
цепочка песчаных островков, поросших тальником.
Степан гребет
легко, словно играючи. Ветка скользит бесшумно.
Саша впился
взглядом в дальний берег. Вот там виднеются крутые откосы. Такие, как говорила
бабушка...
Но какая
широкая река, и места дикие! На самодельном плоту, в одиночку?
Надо сначала
хорошенько разузнать — может быть, здешние ребята слышали про мамонта. Потом
выбрать место и начать строить.
* * *
Подплыли к
заимке, где дружно трудились десятка два якутов. Гостей приветствовали краткими
возгласами.
Четыре рыбака,
по плечи в студеной воде, тащили сеть.
Попыхивая
глиняными трубками, несколько женщин усердно работали у деревянного настила.
Якутка брала из
корзины рыбину, отсекала голову, хвост, ловким движением ножа вспарывала брюхо.
Большим пальцем выворачивала потроха и швыряла их в кадку. Потом вытаскивала
хребет и бросала рыбу на настил.
Дети
подвешивали распластанную рыбу к жердям, чтобы вялилась на солнце.
Из стоящих в
стороне шалашей клубился густой дым. Там делали самую важную часть работы —
коптили рыбу. На шесты нанизывали провяленные рыбины, укрепляли шесты так, чтобы
рыба могла хорошо продымиться.
— Да тут целая
фабрика!
— Юколу
готовят, Иван Дементьевич.
Из сети
вывалили на берег улов. Подошли две женщины и стали его сортировать. Крупную
рыбу отбирали для ю́колы. Остальное относили в сторону, к большой
куче.
— Рыба, что в
куче, пойдет в ямы, — объяснил Степан. — В тутошних местах ямная рыба — самое
главное пропитание.
— Мама,
погляди, что делают ребята!
Мальчик, по
виду Сашин ровесник, набирал потроха из кадки железным черпаком и поджаривал их
на костре. Около него, как мухи вокруг меда, увивалась стайка малышей. Они
выхватывали из черпака лакомые кусочки, обжигаясь, набивали себе рты.
— Разве это
вкусно? — усомнился Саша.
— А ты поди,
отведай...
Саша подошел к
мальчику:
— Как тебя
зовут?
— Нукулун.
— А меня — Саша.
Дай мне, Нукулун, попробовать!
Нукулун порылся
черпаком в кадке, выловил налимью печенку, поджарил ее и протянул к Саше
черпак:
— Бери!
Саша достал из
кармана перочинный нож, отрезал кусок дымящегося потрошка, нанизал его на
лезвие и долго остуживал, прежде чем решился положить в рот. Старательно
разжевал и глотнул.
Печенка
оказалась очень вкусной. Саша облизал жирные пальцы.
— Еще хочешь? —
прищурил щелки глаз Нукулун.
— Дай еще...
Обступившие
Сашу ребята с любопытством глядели, как неумело большой русский мальчик ест
потроха.
— Ты где
живешь, Нукулун?
— Третья изба
от вашей, возле реки. Мы давно знали, что приедете. Мой отец перевозил вас.
Видишь, вот он вытаскивает из реки сеть.
— Твой отец
рыбак?
— Нет, он
охотник! — с гордостью сказал Нукулун. — Зимой мы с ним промышляем белку. Как
выпадет снег, начнем охотиться. Пойдешь с нами на охоту?
— Пойду. А ты
приходи к нам, Нукулун. Спасибо за угощение! Приходи обязательно.
Нукулуна
позвали носить рыбу.
Саша подошел к
матери:
— Мама, когда
будешь готовить рыбу, непременно поджарь потроха!
— Вижу,
понравилось, — засмеялась Мавра Павловна. — Степан Тимофеевич, поговорите со
старостой артели, чтобы продали нам нельмы.
— Они без денег
дадут, Мавра Павловна. Я здешний народ знаю. Наловлено вон сколько рыбы, а мы
вроде гости.
— Никаких
подарков! — строго сказал Черский.— Надо обязательно уплатить, и настоящую
цену.
Степан долго
толковал со старым якутом. Потом вместе с ним подошел к Черским. В корзине у
рыбака лежали две великолепные нельмы, каждая по полпуда.
Мавра Павловна
вынула кошелек:
— Прекрасная
рыба! Сколько за нее?
Старик
энергично замахал рукой: ни-ни, денег не надо!
Тогда Иван
Дементьевич мягко повернул его за плечи и слегка подтолкнул — неси, мол, свою
рыбу назад!
Рыбак не ушел —
он повернулся к Черскому. Склонил голову набок и с улыбкой протянул руку.
— Вот это
другое дело! Заплати, Маша, рубль. Не мало?
— Да что вы,
Иван Дементьевич! Им красная цена — полтина.
— Нет уж, пусть
будет рубль... Возьмите, Степан, рыбу. И пора нам в путь, чтобы ночь не
застигла на реке.
Рыбак спрятал
деньги, поклонился и направился к своим.
Когда подошли к
лодкам, Иван Дементьевич не на шутку рассердился: в лодках оказались корзины,
наполненные рыбой.
Это что такое?
Выставить на берег! — приказал он.
Из уважения к
вам сделали, Иван Дементьевич. Обычай тут такой.
— Тут, Степан,
такой обычай, что торгаши и всякое начальство народ обирают! За все, что будем
брать, надо платить полной ценой. Надо всем показать, что мы приехали на Колыму
как друзья и помощники, а не обиралы!
— А рыбу, Ваня,
думается мне, все же придется принять. Будет большая обида.
Иван Дементьевич заколебался.
— Очень
нескладно получилось... — сказал он с досадой. — Пожалуй, и в самом деле
отказаться нельзя. Только нужно потом отдарить и сказать при этом, за что. Нам
не к лицу стоять на одной доске со здешними хапугами!
Глава
XV
КОЛЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Стол завален зарисовками
профилей пройденного маршрута, карандашными набросками, планшетами. Рядом с бумагами
— образцы горных пород, бутылки с химическими реактивами.
В избе
прохладно. Иван Дементьевич время от времени отрывается от работы, подходит к
камельку и греет озябшие руки и спину. Затем возвращается к письменному столу.
Он пишет
предварительный отчет о первом годе экспедиции, сообщает академии о том новом,
чем удалось пополнить сведения по географии и геологии Якутии во время перехода
от Лены до Колымы.
Ученый
откладывает перо. Надо заняться анализом взятого на Зырянке образца каменного
угля.
Он откалывает
от образца два кусочка угля и взвешивает каждый из них на лабораторных весах.
Затем размельчает один кусок в ступке, наполняет угольным порошком пробирку и
помещает ее над; пламенем спиртовой горелки. Другой кусок он кладет в железную
ложку и всовывает в пламя камелька.
Входит Саша:
— Папа, я
приготовил все, что ты задал на сегодня.
— И задачи
решил?
— Да.
Иван
Дементьевич смотрит на часы:
— Ого, без пяти
двенадцать! Что ж, пора...
Саша приносит
книги, тетради. Пока отец заканчивает свое дело, он разглядывает разложенную на
столе большую, только что вычерченную карту.
Как это у папы
получается, будто напечатанное! Все штрихи одинаковой толщины, краски положены
ровно...
— Папа, можно
тебя спросить?
— Погоди
минуту. — Черский гасит спиртовую горелку, вынимает ложку из камелька. — Ты о
чем?
— Есть в твоей
карте что-нибудь такое, чего нет на привезенной из Петербурга?
— А ты попробуй
разобраться сам, сравни их.
Саша
присматривается к картам.
Вот оно что!
— Горные цепи у
тебя идут иначе! Вот здесь, возле Оймякона, ты их повернул... И тут тоже,
дальше к востоку.
— Заметил? —
улыбается отец. Он достает из стопки бумаг Сашин эскиз: — Помнишь эту
зарисовку? Ты сделал ее за меня в Верхоянских горах.
Саша даже
зарделся от удовольствия:
— Она, значит,
пригодилась?
— И очень! Мы
сейчас займемся твоими предметами, а когда покончим с ними, поговорим о карте.
Что у нас сегодня по расписанию?
— Арифметика,
география, история.
Два часа длятся
занятия. Несколько раз Саша встает, чтобы прибавить дров в камелек.
Он ставит
поленья на здешний манер, стоймя. Пламя жадно охватывает их и с гуденьем рвется
в прямую глиняную трубу.
Иван
Дементьевич проверяет письменную работу, спрашивает пройденное, объясняет
новое, задает уроки на завтра.
— Ну, так...
Теперь о карте. Смотри: на старой как раз посередине между Яной и Индигиркой
поставлен водораздельный хребет. То же самое между Индигиркой и Колымой. Однако
мы увидели совсем другое. Это я и отметил. За время нашей экспедиции мы не раз
еще пересечем эти хребты, и тогда моя карта станет точнее.
— А этот уголь?
— А-а... Это
очень интересный уголь!
— Ты взял его,
кажется, в обрывах реки Зырянки.
— Если помнишь,
в том месте толстый пласт угля выходил на поверхность. Я исследую сейчас его
качество. — Черский показал на пробирку и вынутую из камелька ложку с золой от
сгоревшего угля. — Уголь возле самой Колымы, на большом ее притоке.
Когда-нибудь задумают пустить по Колыме пароходы, строить заводы — в этом угле
появится нужда.
— На Колыме
будут пароходы? — с удивлением поглядел Саша на отца.
Иван
Дементьевич рассмеялся:
— Тебе это
кажется невероятным? Сейчас, конечно, здесь нет в них надобности. Но настанут
другие времена. Будут здесь и пароходы, и поезда, и заводы! Труд геолога, Саша,
тем хорош, что геолог — это разведчик новых условий жизни, новой культуры. Он
ищет в земных недрах металлы и минералы — железную руду, уголь. По следам
геолога идут инженеры и строители. Они возводят города, прокладывают дороги,
сооружают заводы и фабрики... Придут когда-нибудь строители и сюда!
— А мы с тобой,
папа, для них уже кое-что нашли!
Расторгуев
вносит в комнату большую охапку дров и складывает поленья у камелька.
— Похолодало-то
как, Иван Дементьевич! Того и гляди снег повалит.
— Да и пора уж
— сентябрь... А что это, Степан, вы до сих пор не доставили мне ни единого
ламута? — шутя упрекает казака Черский. — С вашей помощью я уже обмерил не один
десяток якутов и юкагиров, а вот ламута никак не заполучу. Разве они в эту пору
в Верхне-Колымск не заезжают?
— Да как же,
Иван Дементьевич, к зиме им самое время. Теперь уж скоро пожалуют.
— Значит,
все-таки будут?
Иван
Дементьевич растянулся на диване. Он сегодня в хорошем настроении.
— Давайте,
друзья, побездельничаем немного. А где Геня? Все по тайге рыщет?
— Он, папа, еще
с утра ушел с ружьем.
— Вот
неутомимый... Маша, ты почему на кухне? Шла бы к нам.
В дверях
показалась раскрасневшаяся от печки Мавра Павловна. На ней передник, рукава
засучены до локтей.
— У меня уха на
огне.
— А что,
позвольте полюбопытствовать, у нас сегодня на обед?
— Все рыбное,
как ты любишь. На закуску — икра. Потом вот уха из жирного чира. Жареная
нельма.
— Заранее от
лица всей экспедиции благодарю вас, хозяюшка, за превосходное меню! А чаю с
сахаром отпустите?
— Да так уж и
быть, отпущу, — в тон мужу отвечает Мавра Павловна. — Ой, убежит моя уха!
Она спешит
обратно в кухню.
— Папа, сыграй
что-нибудь, — просит отца Саша, — как дома, в Петербурге.
— За эти восемь
месяцев я, пожалуй, совсем разучился. Впрочем, попробую.
Иван
Дементьевич снимает с полки гармонифлют,. тихонько перебирает клавиши. Обрывки
мотивов переливаются голосистыми нотками.
— И вовсе ты не
разучился!
— Ну, какую же
тебе сыграть?
— Про Ермака!
Из трубок
гармонифлюта льется широкая, многоголосая песня. Инструмент звучит в полную
силу.
Ревела буря, гром гремел...
Отец играет
удивительно хорошо... Саша слушает давно знакомую мелодию. А вот пошли искусные
вариации...
Песня
захватывает мальчика, он начинает подтягивать дискантом. Из кухни доносится
голос Мавры Павловны. Она вторит сыну.
Расторгуев
застыл в изумлении: вон оно как! Иван Дементьевич еще и песельник!
Кончилась
песня. Черский еще немного побродил пальцами по клавишам.
— Ну, довольно
бить баклуши!.. Саша, Степан, а как же ваши уроки? Ну-ка, за книжку! Ступайте в
Сашину комнату, а я здесь еще займусь немного до обеда.
* * *
Генрих вошел в
кабинет:
— Вы меня
звали, дядя?
Закрой, Геня,
дверь, и садись сюда, поближе.
Усевшись возле
письменного стола, Генрих искоса поглядывает на Черского: неужели опять
нравоучение? Да, кажется, не за что...
— Скоро
начнутся суровые морозы, и всем нам придется отсиживаться в этой избе. Что ты,
Геня, рассчитываешь тогда делать?
— Охотиться, я
думаю, можно и в мороз... — неуверенно отвечает Генрих. — Мне приказчик
рассказывал, что местные охотники зимой ходят на лисицу и медведя.
— Ты еще не
знаешь, Геня, что такое сибирская зима. Да и к чему это? Разве так уж интересно
изо дня в день бродить по лесу в поисках дичи?
— А чем тут
больше заниматься?
— Но не собираешься
же ты стать промысловым охотником? — улыбается Черский. — Не раз я думал о
твоем будущем. Подумай о нем и ты... Тебя приняли в экспедицию препаратором. Но
если говорить правду, ты еще мало знаешь это дело. А что же ты знаешь? У тебя
ни образования, ни навыков в какой-нибудь профессии... Кончится наша
экспедиция, приедешь домой, а дальше что? Идти в мелкие чиновники? Гиблое дело,
жизнь проклянешь!
— Этого никогда
и не будет!
— Вот я и хочу
предложить тебе кое-что серьезное. Выслушай меня внимательно. На наших зимовках
ты можешь подготовить себе обеспеченное будущее. Я захватил с собою две
прекрасные книги: по птицам и земноводным. Будем их штудировать с тобою вместе
— ну, часа по два каждый вечер. Если ты хорошо усвоишь этот курс, то по приезде
в Питер я поговорю со Штраухом. У него в музее наверное найдется для тебя место
младшего хранителя. Конечно, для этого надо будет сдать экзамен. Это завидная
служба и интересная. Жалованья, думаю, рублей тридцать в месяц. Что ты на это
скажешь?
— Я, дядя,
очень вам благодарен... Только учиться мне теперь уже трудно. Пять лет прошло,
как я оставил корпус.
— Но, милый
мой, разве это помеха? Посмотри на свою тетку — ей тридцать четыре года, а как
успешно у нее идут занятия... А тебе-то всего-навсего девятнадцать! Да ты и не
лишен способностей, я это знаю. Нужно только по-настоящему захотеть... Ты
подумай, голубчик, ведь это для тебя возможность выбиться в люди!
Иван Дементьевич
поднялся, прошелся по комнате. Снял очки, стал их протирать.
Его близорукие
голубые глаза смотрят на Генриха с необычным выражением мягкого снисхождения.
Но упрямый недоросль
не хочет понять, сколько дружеского участия в этом предложении ученого
жертвовать своим дорогим временем ради его блага. Он исподлобья глядит на
Черского:
— Нет, дядя,
это не по мне! Я не способен готовиться к экзаменам... я знаю себя.
— Что же, очень
жаль... — вздохнул Иван Дементьевич. — Чем дальше, тем трудней будет наверстать
упущенное... Но, знаешь, мне пришла такая мысль. Ты ведь с отцом говоришь
по-немецки?
— Да-а... — нерешительно
протянул Генрих, не понимая, к чему теперь клонит дядя.
— А Шиллера ты
читал?
— Это такой
сочинитель? Я когда-то знал наизусть один его стишок.
Черский взял со
стола книгу:
— Это, Геня,
великий поэт. Здесь у меня несколько томиков его пьес и баллад. Ты сможешь по
вечерам читать их вслух. И для меня это будет отдых....
Генрих
уставился глазами в пол:
— Я не люблю читать пьес. Мне это скучно!
— Но что же,
скажи на милость, ты будешь в таком случае делать всю долгую зиму?
Лицо Генриха
вдруг оживляется:
— Я уже придумал,
что делать зимой. Мы, дядя, можем совсем задешево покупать прекрасные меха! Я
видел, сколько платит охотникам приказчик. Пушнину можно будет отсылать с
верными людьми в Якутск. Получится большая прибыль. Тогда мы сможем купить
четыре дохи для всех нас... Куница с воротником из выдры! И еще останется
немало денег...
Иван Дементьевич
хмурится:
— Постой,
постой, Геня. Для таких обширных операций нужны большие деньги. Насколько мне
известно, у тебя их нет. И почему ты включаешь всех нас в свои блестящие планы?
— Мы, дядя,
могли бы покупать меха на деньги экспедиции, а потом вернуть их в кассу!
Лицо Черского
все более мрачнеет:
— Знаешь,
Генрих, если бы твоя мать была жива и услышала то, что ты тут говоришь, она бы
очень огорчилась.
— А что в этом
плохого?
— Плохо, Геня,
все. И то, что мысли твои направлены в эту сторону... И то, как легко ты готов
объегоривать честных, простодушных людей.
Иван
Дементьевич никогда не был высокого мнения о душевных качествах своего
племянника. Но такого не ожидал...
Однако ему и на
этот раз удалось подавить в себе вспышку гнева.
Вспомнились
упреки жены, что нет в нем родственных чувств к племяннику. Но почему же так
тяжело и горько сейчас? Сын сестры... любимой Михалины, верного друга детства.
— Вот что,
Генрих. Ты ведь не чужой мне человек. У нас с личными деньгами скудно. Но за
годы экспедиции удастся, я думаю, скопить кое-что из моего жалования. Обещаю
тебе: по пути домой куплю тебе в Якутске дорогую доху. Но только при условии,
если ты изо дня в день будешь заниматься, готовиться к экзамену на должность младшего
хранителя музея. Согласен?
В ответ — одно
лишь упрямое молчание.
Черский встал:
— Ну, что ж, ступай.
Но запомни хорошенько: никаких торговых махинации! Я ведь уже в Петербурге
говорил тебе об этом. И предупреждаю еще раз — этого я не потерплю.
* * *
Отец Нукулуна,
охотник Захар, — зажиточный якут. Соседи с почтением и завистью говорят о
богатстве Захара. У него пять пестрых низкорослых коровенок, три верховых
лошади да десять ездовых собак.
Трое детей мал
мала меньше совсем голышом толкутся на пристенных нарах — оронах, елозят по
глиняному полу. Тут же и телята — они забрели в избу погреться, пробрались из
хлева сквозь прорубленный в стене проход.
Нукулун и
старший его брат Мичика, подросток лет пятнадцати, сидят на полу возле горящего
камелька, ладят деревянный снаряд.
На почетном
ороне восседает хозяин, чистит свое охотничье ружье. Эта старая, видавшая виды
кремневая винтовка перешла к охотнику в наследство от деда.
У ружья стало
заедать замок, и Захар протирает его, продувает, смазывает жиром.
Мать Нукулуна
Учапын и старшая ее дочь Чичах заняты выделкой ровдуги — грубой замши из
оленьей шкуры. Они натянули шкуру на доску. Мать скоблит мездру острым камнем,
вправленным в деревянную рукоятку, а Чичах посыпает выскобленные места порошком
из растертой гнилой древесины: порошок впитывает в себя выступающий из мездры
жир.
Захар, Учапын и
трое старших детей не выпускают изо рта трубок, курят сушеный брусничный лист с
примесью табака. Изба полна сладковатого дыма от этого курева. Дым не
застаивается: через трубу камелька его вытягивает вместе с вонью коровьего
помета, смрадом сыромятной кожи, тяжелым запахом немытых человеческих тел.
Сашу встречают
здесь как старого знакомца. Малыши обступили его. Он вынул из кармана гостинцы
— всем троим принес по баранке.
Ребята
заплясали от восторга:
— Круглая
русская еда! Круглая русская еда!
На долгом пути от
Якутска баранки стали словно каменные. Но от этого они не кажутся хуже — их
можно без конца сосать, как конфеты.
Саша приседает
на корточки рядом со старшими мальчиками. Ему непонятно назначение довольно
сложного механизма, который они мастерят. Это похоже на большой лук, стянутый
толстой жильной тетивой. Лук прилажен к раме. По раме ходит планка, скрепленная
с тетивою. Другая планка привязана к раме намертво.
— Для чего это?
Нукулун
натягивает тетиву, подпирает ее колодкой. Подает Саше прутик:
— Тронь здесь!
Саша
прикасается прутиком к подпорке, и тетива срывается. Прутик крепко зажало между
планками.
— Видал? Ловим
так пакостника-горностая. Вот сюда положим приманку. Схватит ее зубами, а его и
прихлопнет. Понял?
— Э-хе! — щурится
сквозь дым своей трубки Захар. — Месяц ловите, а много поймали?
— Беда у нас,
Саша! Повадился горностай в амбар. Три капкана поставили, а ему хоть бы что! —
сокрушается Нукулун. — Рыбу ест. Утку отец подстрелил — и ее пакостник сожрал.
Собаки наши гоняются за ним, щелкают зубами, а он назло им не уходит прочь,
мечется возле амбара. Поглядывает на собак — и смеется... дразнит!
— Это что! — сплюнул в огонь Мичика. — Я скажу тебе, какой он
хитрец. Один ламут вот что мне рассказал. Собаке раз удалось загнать горностая
в угол. А он вскочил собаке в пасть и спрятался у нее за щекой. Как ей загрызть
горностая? Надо пасть раскрыть. Хитрец только того и ждал: шмыг — и нет его!
— Горностай
всегда найдет лазейку, такая уж тварь! — вставила свое слово Учапын.
Сегодня Мичика
и Нукулун отправляются на лодке вверх по Ясачной проверить поставленные на
звериных тропах самострелы и петли. Саша договорился поехать вместе с ними.
Прежде чем
отпустить мальчиков, Учапын усадила всех за стол, налила в деревянные чашки
кислого молока.
Саша попробовал
угощение. Вкус приятный, сладковатый: в простоквашу положили корень болотного
растения уньюка.
Для Чичах не
хватило посуды. Мать взяла с полки грязную миску, старательно вылизала ее и
налила простокваши.
Саша во все
глаза уставился на хозяйку, даже есть перестал.
— Э, русский
мальчик, чему дивишься? — рассмеялась Учапын. — Так заведено нашими дедами, так
делаем и мы. У нас говорят: кто посуду водой моет, тому никогда не быть
счастливым — его счастье с водой уйдет.
За простоквашей
последовал сваренный в медном котле чай, забеленный молоком. Саша выпил
немного. А хозяева, даже малыши, поглощали чашку за чашкой. Деревянные чашки
были вместительные — стакана по три.
Старый Захар
благодушествовал. Он отирал рукавом лоснившееся от пота лицо и, не умолкая,
сыпал поговорками.
— Твой отец
целые дни сидит перед бумагой и все пишет. А кому те письма и про что?
Саша объяснил,
как мог.
— Э-хе! —
крякнул Захар. — Недаром у нас говорится: бык с быком разговаривает мычаньем,
конь с конем — ржаньем, лебедь с лебедем курлыканьем, якут с якутом — словами,
а русский с русским письмом... А только и мы не дураки, хоть и не умеем писем
писать. Вот отгадай нашу загадку: днем в дыру влезает, на ночь из дыры
вылезает. Что такое?
Саша подумал и
сказал:
— Наверно,
сова в дупле...
Все весело
рассмеялись:
— Нет, нет! Не
то!
— Пуговица это!
А вот тебе другая: кобыла заржала и осталась, а жеребенок прытко ускакал. Ну?
Саша не мог
придумать ответа.
— Ружье
выстрелило! — потешался Захар.
Он был доволен,
что русский мальчик не мог разгадать якутские загадки.
* * *
Гребя
двухлопастным веслом, Мичика сильными толчками гонит ветку вверх по реке.
На дне лодки
сидит Нукулун. Он укладывает в мешок ременные петли, мотки нитей из конского
волоса и при этом болтает без умолку.
Широкоскулые, с
маленькими носами на плоских лицах, братья очень похожи друг на друга. Но нрава
они разного. Черные, блестящие глаза Нукулуна светятся лукавым огоньком. Он
весельчак, балагур. А Мичика все хмурится, молчит и держится важно — ни на
минуту не забывает, что он старший.
Братья одеты в
пестрые от заплат куртки и ровдужные штаны в обтяжку, с завязками на икрах. На
ногах сары — мягкие сапоги из конской кожи, закрепленные ремешками у лодыжек.
Ветка прошла
разлив, берега Ясачной сблизились. Густой лес подступил к самой реке.
Саша
прислонился к корме, глядит по сторонам. Таких мощных деревьев в этих местах
ему не приходилось видеть: стройные, высокие тополи, густые ивы, склоненные над
водой.
На чистом небе
низко висит неяркое солнце. Свет его золотистый, будто вечерний. А еще только
полдень.
— Мичика, давай
пристанем, соберем ягод шиповника. Они сладкие — их уже прихватило морозом.
— Некогда! —
строго отвечает брату Мичика. — Забыл, зачем едем?
— А ты знаешь,
Саша, какая вкусная ягода черемуха? — не унимается Нукулун. — А то еще
юкагирская ягода — голубика... Э, ты, наверно, больше любишь русскую ягоду
смородину. У нас ее пропасть, да мы не едим...
— Тсс! —
замахал рукой Мичика.
Все
насторожились.
Слышится треск,
будто где-то вдали обламывают сухие сучья.
— Босо...
ногий! — поперхнулся Нукулун.
Мичика положил
весло на борт. Лодка стала.
Вслушиваются.
Но в лесу снова тишина.
— Наверно,
сохатый... — облегченно вздохнул Мичика.
— А если
босоногий дед?
— Трус ты,
Нукулун! — храбрится старший. — Медведи сейчас сонные, укладываются в берлоги.
Им не до нас. Едем дальше!
Справа в реку
впадает протока из озера. Свернули в нее и вскоре причалили.
— Иди, Саша, за
мной, — приказал Мичика. — Тут недалеко наш самострел на выдру, как бы не
угодила тебе в ногу стрела...
Забрались в
чащу тальника. Саша увидел на низком пне большой лук. На туго натянутую тетиву
наложена железная стрела. Она нацелена куда-то в сторону протоки.
— Не прошла,
хитрюга! — досадует Мичика. — Должно быть, забросила старую тропу.
Саша, сколько
ни приглядывается, не может понять, как действует эта штука.
Нукулун
показывает на тонкую нить из плетеного конского волоса. Едва приметная, она
уходит далеко в чащу.
— Оставь
самострел еще на неделю, Мичика, — советует Нукулун.
Мичика ползает
по берегу протоки и находит свежие следы выдры.
— Она еще
здесь... Пускай самострел пока постоит, — решает он.
Мичика
проверяет планкой с прорезями точность прицела. Кулаком измеряет высоту.
— Все как надо...
Пусть только пробежит тут — стрела угодит ей прямо в сердце!
— А если вдруг
человек? — удивляется Саша. — Его ведь поранит.
— Человек сюда
не пойдет, — спокойно отвечает Мичика. — Для того кругом зарубки сделаны.
Он показывает
срезы на тальнике.
— Поедем к
петлям!
Там братьев ожидала
удача: в ременную петлю, свисающую с лиственницы, попался заяц.
— Ух ты, кровь
черной собаки! — выругался вдруг Мичика. — И тут он напакостил!
Один бок у
зайца обглодан до кости...
— Я все-таки
возьму, что осталось.
Нукулун вынул
из петли поврежденную горностаем добычу.
Уселись в
лодку. Саша взялся за весло.
— Смотри!
По берегу
прошмыгнул юркий рыжеватый зверек. Раз, другой... На минуту он остановился,
склонил усатую мордочку набок. Свирепо поблескивают круглые красноватые глаза.
Саша успел разглядеть и маленькое тельце с длинным, пушистым хвостом.
Горностай вдруг
бросился к берегу, перемахнул через борт и вцепился зубами в зайца, лежавшего
на дне лодки. Нукулун успел схватить зайца за ноги, а Мичика так пнул дерзкого зверька,
что тот пулей вылетел за борт.
— Бей, Саша,
бей!
Саша ткнул
наугад веслом. Но как только весло коснулось воды, вверх по нему пронеслась
рыжая молния... Саша оторвал от своей груди теплый, пушистый комок и отшвырнул
далеко прочь. Сам он с размаху сильно покачнулся и свалился в воду.
У берега было
неглубоко. Саша выбрался из ледяной ванны.
— Раздевайся
скорей, а мы разведем костер! — скомандовал Мичика.
Нукулун достал
из лодки большой мешок:
— На, закутайся
хорошенько!
Братья быстро
набрали сухих сучьев. Запылал маленький костер.
Платье
высушили. Саша оделся.
— Что, будем
возвращаться или поедешь дальше? — спросил Мичика.
— Едем! Я уже
совсем согрелся.
Поплыли по
длинной протоке к месту, где стоял второй самострел.
Мальчики
настороженно вслушивались в угрюмое молчание леса. Все тихо...
Вдруг впереди
раздался сильный всплеск, словно что-то тяжелое упало в воду. Мичика поднял
весло. Остановились.
Что бы это
могло быть?..
Звук
повторился.
Мичика выскочил
на берег, за ним остальные. Тихонько вытащили лодку. Осторожно, крадучись за
деревьями, двинулись вперед, навстречу таинственным всплескам.
Добрались до
прогалины — справа сквозь узкую щель поблескивала уходящая вдаль протока.
Мичика, шедший
первым, внезапно повалился на землю, прикрыл ладонями глаза. Нукулун упал вслед
за ним. Упал и Саша... Но он тут же поднял голову.
Неширокая
протока была завалена упавшими в нее деревьями. Для течения оставался только
узкий проход. Возле него стоял по брюхо в воде большой бурый медведь. Он
пристально всматривался в поток.
Саша увидел,
как неуклюжий зверь шлепнул лапой по воде и выбросил далеко на берег большую
рыбину, а затем выбрался из протоки и принялся пожирать свой улов.
Это было так
необычайно, что Саша забыл об опасности. Начал тормошить приятелей:
— Да посмотрите
же... Вот здорово!
Мичика и
Нукулун лежали все так же неподвижно. Что-то шептали. Слышались отдельные
слова:
— Тойон-медведь!
Хозяин тайги! Мы здесь без умысла на тебя... наш путь лежал через твои леса.
Прости нас, тойон-медведь!
Вдруг косматый
рыболов задрал вверх голову и рявкнул, да так, что эхо несколько раз
прокатилось по лесу.
Тут и Саше
стало жутко.
— Уйдем! Бежим
скорей! — вцепился он в рукав Мичики.
Ползком,
поминутно припадая к земле, мальчики поспешили к лодке. Ноги не слушались,
колени дрожали.
Добрались до
ветки, с трудом спустили ее на воду.
Мичика со
страху еле двигал веслом. Нукулун втянул голову в плечи и молчал. А Саше все
чудился топот бурого великана. Но вот выбрались из протоки в Ясачную. Отлегло
от сердца.
Скорей домой, пока
босоногий дед не нагнал!..
Глава XVI
В
СОСУЛЕ
В конце
сентября сильно похолодало. Уже несколько раз выпадал снег, и теперь он лежал
плотным, нетающим покровом.
В избе дуло изо
всех щелей. Чернила на письменном столе замерзали, на кухне затягивало ледком
ведра с водой. Расторгуев топил с утра до ночи, но тепло быстро уходило. От
сквозняков Иван Дементьевич и Саша простудились и кашляли.
— Скоро
полегшает, — уверял Степан озабоченную Мавру Павловну. — Как нарастет лед на
реке — сразу утеплимся.
Река уже стала,
но только к середине октября, когда установились пятнадцатиградусные морозы,
лед достиг наконец нужной толщины в два вершка.
Пригласили
местного умельца, якута Захара. Захар нарезал льдин по размеру окон и на нарте,
запряженной четверкой собак, подвез их к избе. Затем принялся за дело.
Он вынимал
оконную раму и вставлял в проем ледяную плиту. Зазор между льдиной и стеной
замазывал снегом, смоченным водою. Смесь быстро замерзала и наглухо
законопачивала щели.
В комнатах
стало гораздо светлей. Свет был рассеянный, голубоватый.
«На что это
похоже?» — спрашивал себя Саша. И вспомнил: когда нырнешь и откроешь в воде
глаза...
— Ты знаешь,
мама, мы в подводном царстве!
— Вот уж верно
что! Отгородило нас теперь от всего свету. Сквозь эти ледяшки ничего не видать.
У окна с
наружной стороны хлопотал Захар. Но узнать его нельзя было, хотя он стоял возле
самой льдины. Виднелся только неясный силуэт.
— А как же
оттуда, снаружи?
Саша выбежал из
избы. Окна — как слепые бельма. Только полыханье камелька розовыми отсветами
чуть окрашивает поверхность льдин.
Покончив с
окнами, Захар взялся за утепление стен. Ему помогал Расторгуев.
На нарте
подвозили из проруби воду. Замесив в бочонке снег с водой, облепляли стены этой
смесью, и она примерзала слой за слоем. Скоро вся изба оделась в сверкающую на
солнце белую броню.
— Ну-ка,
выдумщик, что теперь скажешь про наши хоромы? Подводный корабль или как?
— Нет, мама,
это... это сосуля!
— Неплохо придумано!
— одобрил Иван Дементьевич.
В избе сразу
потеплело. Совсем прекратились мучительные сквозняки.
— Какая
благодать! — не мог нарадоваться Черский. — Можно наконец скинуть с себя лишние
одежки... Да только, Саша, у нас с тобой теперь новая забота — надо проверить,
хорош ли здешний способ утепления жилищ. Вот что: ты будешь ежедневно, утром и
перед сном, измерять температуру воздуха в кабинете — у самого окна, на шаг от
него и в глубине комнаты. И притом на трех разных уровнях — у пола, на высоте
твоей головы и под самым потолком. Всего, значит, в девяти точках.
— Это, папа,
нужно для академии?
— И для
академии, пожалуй, пригодится...
— Тогда я
заведу отдельный журнал с надписью: «Температура в Сосуле. Зима 1891/92 года».
За обедом зашла
речь о населении Верхне-Колымска.
— Сколько же
здесь жителей? Я вот уже третий раз пытаюсь узнать, расспрашиваю, а счет все не
сходится... — удивляется Иван Дементьевич.
— А к чему
тебе, Ваня, этот счет?
Я намерен самым
подробным образом изучить всех местных жителей — состояние их здоровья,
источники существования каждой семьи, запасы продовольствия у них. Записать
песни, сказки... Кроме того, произвести антропологические измерения. Постараюсь
проделать это и со всеми заезжими охотниками. На каждого человека заведу
отдельный лист. Получится полная картина местной жизни. А вот сколько здесь
жителей, мне все еще неясно... Генрих, ты знаешь семью бережновского
приказчика. Начнем с него: у него жена, дети, якуты в услужении... Сколько
всех?
— Двенадцать человек.
Стали считать
дальше: семья священника Сучковского, псаломщика, охотника Захара.
— Погодите,
погодите, Степан! Вы говорите, у псаломщика семеро?
— Семь человек,
Иван Дементьевич.
— Как же так?
Он сам мне сказал, что у него семья в одиннадцать душ, а вы говорите — семь?
— Так душ-то у
него одиннадцать, то верно.
— Ничего не
понимаю.
— Считайте: он,
жена, четверо детей и нянька-якутка. Да четыре души собачьих.
— Собачьих?
Все
расхохотались.
— Тут, на
Колыме, Иван Дементьевич, счет на души заведен такой: вместе, значит, идут и
людские, и собачьи.
— Теперь
понятно. Это-то меня и сбивало с толку!.. — Черский на минуту задумался. — А
ведь знаете, друзья, это не так уж странно. В суровой здешней жизни собака —
преданный и усердный помощник человеку. Она и воду и дрова возит. Она с
хозяином на охоту ходит. И даже после смерти не перестает служить ему —
согревает своим теплым мехом. Недаром колымчанин делится с собакой последним
куском рыбы!.. Так что надо признать, что в таком счете семейных душ есть
немало здравого смысла.
* * *
Саше очень
нравилось сопровождать отца, когда тот посещал избы соседей. Местные жители
встречали их приветливо, как дорогих гостей, угощали чем могли.
Русские
колымчане между собой говорили больше по-якутски. А русский их язык понять было
нелегко. Самые обиходные слова искажались странным произношением неузнаваемо.
— Ми юди
коимские! — говорили они о себе.
Мальчик
принялся составлять словарь местных слов и выражений. По вечерам за чаем он
оглашал свои записи.
— Мама, а что,
по-твоему, значит «вжаболь»? Только вы, Степан Тимофеевич, не говорите, вы все
это знаете.
Насладившись
недоумением матери, он раскрывал секрет слова:
— Это значит —
в самом деле. А вот хорошее словечко, оно мне нравится: «мольчь»... Это
просто-напросто — очень! Или вот еще: «крыльца»? Нет, это не то, по чему входят
в дом. По-местному так называют плечи... Мне Дука сегодня сказала: «Ты что
гадлишься?» А это значит — насмехаешься...
—Что за Дука
такая? — удивилась Мавра Павловна.
— Дочка псаломщика.
А ее братьев зовут Ванчурка и Никушка.
Саша без конца
мог говорить о необычном языке русских-колымчан.
— Я думаю,
Саша, — заметил как-то Черский, — что все эти слова — старинные русские, их
занесли сюда лет двести тому назад наши землепроходцы из глубин России.
Наверно, тогда говорили так на Волге или в Новгороде. Бурная жизнь русского
народа стерла эти слова, заменила другими... А в этом медвежьем углу они все
еще живут.
* * *
Возле каждой
верхне-колымской избы вырыта яма, в которой хранится запас рыбы. Сваленный в
яму улов еще с осени, прежде чем его прохватит морозом, успевает протухнуть.
Ямы ничем не прикрыты. Даже в морозные дни от них тянет отвратительным гнилым
духом.
Черский
выясняет, что ни один из верхне-колымчан не бросил в свою рыбную яму ни фунта
соли.
— Что ж вы так?
— спрашивает он Попова, соседа Захара. — Хоть бы немного присолить — рыба не
загнивала бы.
— Куда там!
Цена-то на соль знаете какая! А мы к кислой рыбе привышны. Любим такую — она
духовитей.
«Кислая» на
местном наречии значит тухлая.
Есть здесь,
правда, и другая, более вкусная рыба. Но ее едят понемногу, берегут для особых
случаев, для праздников. Это прежде всего юкола, вяленая рыба. Кроме того,
отобранных из позднего улова чиров, нельму, севрюгу удается заморозить еще до
того, как они загниют. Эти запасы хранят в амбарчиках. Затвердевшую, словно
камень, жирную рыбину строгают ножом. «Строганину» едят в сыром виде. Она тает
во рту, как мороженое.
А что, кроме
рыбы, попадает на стол колымчанина? Ведь он лишен хлеба, совершенно лишен и
всего того, что дает обитателю менее суровых мест огород и сад. Только летом
немного лесных ягод да съедобных трав и кореньев. Так чем же он поддерживает
свое существование? Этот вопрос сильно занимал Черского.
Каждый хозяин
здесь имеет корову. Она ростом с теленка. Молока от нее не больше, чем от козы.
Но молоко жирное, вкусное. И удивительно, сколько разных молочных блюд
придумали здешние хозяйки! И квашеное молоко в разных видах, и масло, сбитое с
молоком, — хаяк.
Любимое
лакомство — особым образом сбитые сливки, которые едят с ягодами, чаще всего с
горьковатой брусникой.
Но молочная
пища почти исчезает, как только снег покроет пастбища. Что же тогда остается,
помимо неизменной рыбы? Пустой чай, который здесь пьют с утра до ночи. Чай хорош
тем, что обманывает голодный желудок.
Хозяйка
настрогает от кирпича в котел прессованного чаю и вываривает стружку. Если есть
молоко, она забелит чай. Сахар местным жителям недоступен.
Так питаются на
Колыме и русские и якуты.
Черский устанавливает,
что почти у всех его «сограждан на зимний сезон» запас рыбы кончится к январю -
февралю.
— Что, плохой
был улов?
— Какое там!..
Рыба нонешний год шла густо.
— И все-таки
вам ее не хватит?
— Да ведь
половину улова у нас добрые люди забрали!
«Добрые люди» —
это всякие торгаши и ростовщики, наезжие и местные. В сезон лова они тут как
тут, торчат на всех заимках и тонях. За старые долги приходится уступать им
лучшую часть улова. А после того, как колымчане подберут все дочиста из своих
ям и амбарчиков, идут они с поклоном к такому «доброму человеку». Да еще рады,
когда получат от него свою же рыбу снова в долг, и при этом по цене втрое
против той, по какой отдали ему.
Колымский люд
крепко опутан сетями этих пауков. Лучшая рыба, масло, хаяк, пушнина — все идет
на покрытие неизбывных долгов.
* * *
Собаки тянули
большую, тяжело нагруженную нарту. Людей было трое. Захар и Нукулун поочередно
соскакивали и бежали рядом с нартой, держась за укрепленную на передке дугу из
тальника. Саша тоже пробовал бежать, но запутался в полах меховой шубы и упал.
— Ты не привык,
сиди лучше! — велел Захар.
Упряжку вел
высокий, широкогрудый пес волчьей масти. За ним тянули собаки поменьше,
запряженные по две. Было среди них несколько остромордых, светло-рыжих, с
длинными, пушистыми хвостами, похожих на лисиц.
Саша ожидал,
что собаки быстро выбьются из сил и станут. Но они всё тянули, не сбавляя хода,
крепко налегали грудью на лямки.
Странно было
смотреть, с каким рвением, повизгивая от азарта, они делали свое трудное дело.
Часто случалось, что собака скользила на льду и валилась на бок. Товарки не
останавливались, волокли ее, а она, увлеченная бегом, продолжала перебирать
короткими крепкими лапами, словно жук, перевернутый на спину. Приходилось
придержать упряжку, чтобы упавшая могла встать на ноги.
Нарта легко
скользила по заснеженному льду Ясачной.
Вдруг среди
собак вспыхнула свара. Черная из третьей пары на ходу схватила брошенную кем-то
рыбью голову. Остальные сразу на нее навалились. Вся упряжка сцепилась в
жестокой схватке.
Охотник пустил
в ход длинную палку — остол. В пылу схватки собаки будто и не чувствовали
ударов. Захар продолжал колотить. Экзекуция в конце концов возымела действие.
Виновато скуля, драчуньи расползлись на брюхе в разные стороны и принялись
зализывать ссадины.
Хозяйский окрик
и внушение остолом принудили собак стать по местам. Морды у всех были
исцарапаны, уши в крови.
Нукулун оправил
лямки. Двинулись дальше.
Проехали верст
пятнадцать, повернули к лесу.
Между стволами
лиственниц показалась разинутая «пасть»: связанные тальником три лиственничных
бревна одним концом упирались в землю, а другой конец был поднят и подперт
палкой. В глубине пасти лежала приманка — кусок «духовитой» рыбы. От приманки к
подпорке шла крепкая волосяная нить.
— Тут пойдут
сейчас пасти Попова, — показал в глубь леса Захар. — А за ними наши.
Поехали дальше.
Посмотри, отец,
одна у него упала!
— Верно. Ну-ка,
подъедем.
Захар приподнял
упавший снаряд. Под ним лежала совершенно раздавленная лисица, вся залитая
кровью.
— Так и есть!..
Да еще какая матерая.
—Взять ее,
отец? Завезем соседу.
— Не знаешь
порядка?! Попов сам заберет свое. Вернемся домой — забежишь к нему, скажешь. А
теперь поедем к нашим.
Стали
осматривать западни Захара. Они стояли настороженные, с нетронутой приманкой.
Не всем же
счастье!.. — вздохнул старый охотник. — Поищем белку, это дело сейчас верней.
Собак выпрягли.
Захар вскинул на плечо свою кремневку, взял лук и несколько костяных стрел.
— Отец, возьмем
с собой Жука. Он лучше всех чует белку.
— Жук, сюда! —
позвал охотник.
Собака завиляла
хвостом и потерлась о ноги хозяина.
Долго брели по
лесу.
— Плохой день
сегодня, — приуныл Захар. — И белки не видно.
Но вот Жук
кинулся вперед — по снегу катился серый комочек. Белка взметнулась на
лиственницу, укрылась в гнезде у самой ее верхушки.
— Постучи,
Нукулун!
Мальчик
подбежал к дереву и начал постукивать палкой по стволу.
Белка высунула
из гнезда круглую лупоглазую головку, пошевелила кисточками ушей. Потом
пустилась наутек. Прыгнула на соседнее дерево, с него на другое. Легко, как
резиновый мячик, отскакивала она от веток
— Плохая, злая
белка! — сетовал Захар. Не желает добра охотнику... Зачем убежала?
Захар кинулся
за белкой и обошел строптивую попрыгунью. На бегу он успел положить стрелу на
тетиву.
Увидев впереди
себя охотника, белка в недоумении на миг остановилась. Этим мгновением и
воспользовался Захар. Натянул тетиву, прицелился. Тупая стрела угодила белке в
голову, оглушила ее. Зверек свалился прямо в пасть Жуку.
Повеселев от
первой удачи, охотник стал рассказывать о нравах белок:
— Скажу тебе,
белка разумней иного человека. Устроит себе в лиственнице гнездо, а на двадцати
деревьях кругом — всё ее амбары. Она любит ягоды шиповника, разные грибки, да и
семена лиственницы. Натаскает с осени всякого добра в дупла. В лютые морозы
заделывает вход в гнездо. Потом подогнет под себя лапки, обернет хвост вокруг
носа — ей тепло и без камелька. Знай себе спит... А поесть иногда все-таки
надо! Тут она и очищает понемногу свои склады. Сначала самые дальние, а потом и
те, что поближе. Поест — и снова спать...
Жук подскочил к
лиственнице и зарычал, подняв морду кверху.
— А вот еще
одна нас дожидается! — обрадовался Захар. — Постучи, Нукулун, дома ли хозяйка?
Хозяйка сразу
же показалась, но не стала убегать, как та, первая.
— Светлый ум
имеет! — похвалил якут.
Нукулун снова
постучал палкой о ствол. Белка склонила набок головку и спрыгнула на ветку
пониже. Видно, ее очень занимали и люди, и собака, а особенно этот стук.
Мальчик
постукивал, а она спускалась все ниже.
— С хорошими
мыслями белка!
Захар стал
осторожно делиться.
Эта «добрая»
белка не доставила охотнику хлопот.
* * *
В избу вбежал
Генрих:
— Дядя, сейчас
приедут к нам двое ламутов. Меняют в лавке пушнину. Они хорошо говорят
по-якутски, а по-русски — ни слова. Приказчик помог мне уговорить их, чтобы
заехали сюда. Обещал, что получат у вас по рюмочке...
— Что такое? —
Черский стукнул кулаком по столу. — Передай этому болвану, чтобы не смел давать
за меня таких обещаний!
— Скажу ему, —
пожал плечами Генрих. — А ламуты должны вот-вот подъехать. С ними как быть?
Ввести в дом, или вы сами...
— Я выйду.
Жаль, Степан уехал за дровами... Саша, будешь переводчиком.
Иван
Дементьевич и Саша вышли навстречу гостям.
Из-за
бережновской лавки показались олени. На переднем восседал охотник-ламут. За ним
ехала молодая женщина, а позади цугом бежали шесть оленей с поклажей.
Прибывшие спешились,
подошли и с достоинством поклонились.
— Пожалуйте в
дом! — жестом пригласил Иван Дементьевич.
Ламут не спеша
привязал оленей к коновязи, и гости вошли в избу.
Стянув через
голову кухлянки — длинные рубахи из оленьих шкур мехом наружу, — бросили их у
входа, подошли к камельку и стали греться у огня.
Среднего роста,
очень стройные, муж и жена одеты одинаково — в меховые штаны и куртки. На ногах
высоко подвязанные оленьи торбаса. Куртка и торбаса женщины расшиты цветными
узорами.
Обогревшись,
мужчина повернулся к камельку спиной и стоял безмолвно, неподвижно, скрестив
руки на груди. Лицо его, цвета дубленой кожи, поражало своеобразной красотой.
Густые брови, резко обозначенная переносица, прямой нос с небольшой горбинкой.
Из-под широкого, покатого лба пристально глядели черные глаза.
Женщина с
любопытством оглядывала незнакомую ей внутреннюю обстановку жилья оседлых
людей. Робко подошла к столу, взяла карандаш и повертела в руках. С интересом
следила, как Саша стал писать на клочке бумаги. Румяное, миловидное лицо
гостьи, выразило изумление, когда она пригляделась к белокурой бороде Ивана
Дементьевича, к его очкам.
Оторвавшись от
этого необычайного зрелища, перевела взгляд на Мавру Павловну и доверчиво
улыбнулась.
— Попотчуем
наших гостей чаем, — предложил Черский.
Во время
долгого чаепития Саша переводил вопросы отца и ответы ламутов. Иван Дементьевич
тут же записывал все интересовавшие его сведения.
Выходило так:
семья в пять душ — старуха мать, их двое да двое детей. Есть у них стадо
домашних оленей в пятнадцать голов. А что такое пятнадцать оленей? Мало мяса,
мало шкур. Правда, при удачной охоте на дикого оленя семья не голодна и кое-как
одета. Да только в последние годы охота — совсем никуда! По следу диких оленей
идут всем родом, целую зиму кочуют без отдыха по горной стране за Колымой. А
промыслить удается четыре - пять голов... Разве этим прокормишься? Их род
большой, человек пятьдесят. Часто приходится голодать... В прошлом году вымерли
от голода три ламутские семьи.
— А на белок и
лисиц охотитесь?
— Без этого как
же прожить? Каждую зиму привозим сюда меха. И к нам за Колыму наезжают купцы.
Да только старые долги нас донимают! Вот привез я сюда две сотни белок —
половину забрал приказчик за прошлогодний долг. На остальное дал мне пять
коробок пороху, немного свинца и три кирпича чаю. Да в придачу я выторговал еще
пять пачек табаку... А медный котел и топор пришлось взять снова в долг.
— Переспроси
еще раз, Саша, как он тебе сказал. Ведь сотня беличьих шкурок даже по здешним
грабительским ценам — это все же двадцать рублей.
Саша проверил:
нет, он не ошибся, именно столько охотничьих припасов дал приказчик за сотню
белок.
— Отдаете,
значит, свои меха за бесценок?
— Что делать?
Кто даст больше?
— Вот негодяи!
— Иван Дементьевич в негодовании зашагал по комнате. — За какие гроши скупают
здесь меха, рыбу! А сами за все привозное дерут втридорога... Обрекают
охотников на голодную смерть!
Ламут допил
десятый стакан чаю и отодвинул от себя блюдце. Поглядел на Черского и вдруг
попросил:
— Дай нам,
русский тойон, веселой воды...
Иван
Дементьевич с досадой пожал плечами:
— Вот услужил
этот негодяй Пашка!
Он подошел к
сундуку, вынул цветной платок и складной нож, положил их перед гостями:
— Это наши
подарки. А веселой воды, скажи, у меня нет!
Подарки
осмотрены внимательно и бережно спрятаны за пазуху. Но на лицах гостей явное
разочарование.
Ламут поднялся
и быстро вышел из избы. Через минуту принес две темно-рыжие лисьи шкуры:
— Этих я не
показал приказчику... Дай, русский тойон, за лисиц бутылку!
Черский покачал
головой:
— Скажи ему еще
раз, Саша, что веселой воды у меня нет. И пусть унесет шкуры.
Охотник постоял
немного — все надеялся соблазнить тойона прекрасными мехами. Потом жалобно
вздохнул:
— Э-ха!
Придется еще целый месяц ждать, пока Америка сюда приедет. Америка за такие
меха две бутылки даст!
Он унес свою
пушнину.
— Ну как тут
быть?.. — развел руками Иван Дементьевич. — Проповедовать им вред алкоголя?
Наивно и бесполезно! Тут нужны другие меры... Знаешь, Саша, займемся нашим
делом: я обмерю их обоих, а затем запишем с тобой ламутские слова.
* * *
Сидение в Верхне-Колымске
становилось ученому в тягость.
— Мне, Маша,
прямо-таки снится предстоящее плавание вниз по Колыме, работа на ее берегах!
— Рано ты
забеспокоился, Ваня. До вскрытия реки еще месяца четыре, не меньше.
— Знаю... Да и
здесь, правду сказать, у меня осталось немало интересного дела. А все-таки
настоящая работа начнется с весны, когда мы сядем на карбас и поплывем к
океану. Почти полторы тысячи верст никем не обследованных берегов!
Среди местных
новостей, передаваемых по «якутскому телеграфу» — из уст в уста,
Верхне-Колымска достигла весть о том, что на низовьях реки Яны, за тысячу верст
от Колымы, тамошний житель Санников нашел хорошо сохранившийся труп мамонта.
Известие это
сильно взволновало Ивана Дементьевича. Он составил подробную инструкцию, как
уберечь находку от расхищения зверями, и отправил ее Санникову.
А вечером
разложил на столе большую карту Главного штаба и, позвав Расторгуева, дал ему
своеобразный урок географии:
— Видите,
Степан: голубая змейка — это Колыма. Мы с вами находимся вот здесь... Этот
черный кружочек — Верхне-Колымск. А ниже по Колыме большой кружок с точкой
посередине — Средне-Колымск. Мы поплывем туда на карбасе. Сколько верст до
Средне- Колымска?
— Верст пятьсот
будет, Иван Дементьевич.
— Ну, так. Прикидывайте и дальше по той же мерке.
От Средне-Колымска спустимся вот сюда, к этому кружочку — к Нижне-Колымску. Это
сколько еще?
— Еще, почитай,
пятьсот наберется.
— Верно. Отсюда
на лошадях проедем тундрой до самого устья Колымы. То, что закрашено вот тут на
карте синим, — это краешек Ледовитого океана. Пробудем с недельку возле льдов,
осмотрим береговые обнажения, соберем камней, костей — и обратно в
Нижне-Колымск. Образцы горных пород будем собирать и по всему пути. И тогда
узнаем, из чего она сделана, колымская землица... что упрятано в ее утробе,
— А золото
сыщем? — дрогнувшим голосом спросил Степан.
Черский
расхохотался:
— Оно-то нам
зачем? Я его, если встретится где-нибудь, и подбирать не стану. Съесть — не
разжуешь, а спрятать в заплечный мешок — больно уж тяжело нести!
Расторгуев
понял шутку, улыбнулся:
— То и ладно!
Дед мой сказывал: от злата промеж людей все зло пошло. Да только в магазее у
Павла Трофимыча...
— Ну его к
бесу, этого Павла! Вот что, Степан, слушайте со вниманием, это будет поважней
золота. За три лета наших странствий по здешним лесам и рекам кого только мы ни
встретим на пути — всех расспрашивайте, не видали ли или не слыхали, чтобы
речной водой вымыло тело большого зверя... вот такого.
Иван
Дементьевич показал Расторгуеву изображенного в книге мамонта.
— Это, стало
быть, тот зверь, что охотники рога его ищут?
— Вот-вот, он
самый! Так не забывайте же об этом, Степан. Если дознаетесь, будет вам от
академии: награда!
— Да я и без
награды, Иван Дементьевич, ради, вас...
* * *
С утра Саша
садится за учебники, готовит заданное. Потом урок с отцом, обучение Степана
грамоте. Вечером он занимается вместе с матерью зоологией.
Немало у него
дела и по дому. За ночь на оконных льдинах нарастает изморозь. Надо по каждой
пройтись железным скребком, чтобы пропускала больше свету. Выгребать золу из
камельков и просеивать ее — тоже его обязанность. Из золы Мавра Павловна
вываривает щелок для стирки белья — мыло у зимовщиков уже кончилось.
Да еще утром и
вечером он должен измерять температуру в кабинете отца.
Но три
послеобеденных часа он свободен от всяких обязанностей.
Пообедали. Саша
стал натягивать оленьи торбаса.
— Снова бродить
с Нукулуном? — удивилась Мавра Павловна.
— Пусть гуляет
побольше, это нужно для здоровья, — возразил Иван Дементьевич. — Мороз ведь не
сильный, всего двадцать два градуса.
— Смотри,
Сашка, напоролся уже со своими приятелями на медведя... Не всегда удастся уйти
— слопает тебя с потрохами!
— Даром
стращаете, Генрих Оскарович, — вмешался тут Расторгуев. — В эту пору медведь
спит. К весне другое дело — с голоду, может, какой-нибудь шатун и забредет.
— А мне Степан
Тимофеевич пальмý сделал, —
поднимает Саша с полу небольшую рогатину. —
Теперь я и с медведем справлюсь!
— Тоже герой
сыскался... — хмыкает Генрих.
Рядом с пальмой
Саша кладет ручную пилу, обернутую тряпкой.
— К чему тебе,
Саша, ножовка? — спрашивает Мавра Павловна.
Лицо мальчика
розовеет. Трудно придумать сразу какое-нибудь объяснение. Еще труднее — сказать
неправду.
— Это... мы с
Нукулуном ладим одну штуку...
— У них в избе?
— Нет, мама. Я
беру ее так... на всякий случай.
Заметив
смущение сына, Иван Дементьевич приходит ему на выручку:
— Ты, Саша,
собирался рассказать о каком-то случае в лавке. Про что это?
— Да... Вчера
при мне у приказчика был охотник-ламут, с того берега Колымы. Его стойбище
где-то очень далеко отсюда. Добирался верхом на олене двенадцать дней. Этот
ламут, как вошел в лавку, вытащил из-за пазухи истрепанную бумажку. Павел
Трофимыч ничего не мог разобрать, а я все-таки кое-как прочел. Там каракулями
было написано: «Податель расписки взял в долг топор и две банки пороху».
Приказчик долго рылся у себя в книге и такой записи не нашел. Стал
расспрашивать ламута. Оказалось, товар взял в лавке его отец лет семь назад,
еще при прежнем приказчике. А этим летом отец умер и перед смертью велел обязательно
отдать долг. Сын и привез в уплату три лисицы...
— Я тоже видел
там этого дурака! — хихикнул Генрих. — Подумать только, ехал бог знает откуда,
мерз, голодал в дороге... Да и какие меха отдал! А мог просто разорвать
бумажонку — и вся недолга!
— Да, Геня, должник
из хорошего светского общества, пожалуй, так бы и поступил. А вот
охотнику-ламуту такая мысль даже в голову не пришла.
— Очень глупый
здесь народ! — остался при своем мнении Генрих.
Саша надел доху
и вышел, прихватив пальму и ножовку.
У избы Захара
уже ждал Нукулун с топором в руках.
По льду Ясачной
мальчики перебрались на другой берег и пошли вдоль реки лесом. Шли с полчаса.
На небольшой
лесной поляне, за пригорком, лежало три спиленных дерева.
Саша размотал с
пилы тряпку, выбрал прямоствольный сухостойный, чуть наклоненный тополь:
— Я начну
подпиливать вот этот, а ты, Нукулун, разводи костер.
Работая пилой,
Саша разогрелся, распахнул доху.
Когда запылал
огонь, Нукулун позвал приятеля:
— Иди, отдохни
хоть немного.
— Некогда! Дай
топор, буду окоривать срубленное, а ты попили.
Мальчики
работали с великим усердием.
— Эй, Саша,
берегись — сейчас упадет!
Когда дерево
свалилось, Саша скомандовал:
— Теперь
отдохнем!
Друзья подсели
к костру.
— Купил бы ты
лучше лодку, зачем столько трудиться? — стал убеждать Сашу Нукулун.
— Опять ты за
свое! Я уже говорил тебе: нельзя купить лодку так, чтобы наши не узнали. Да и
денег у меня скоплено маловато. Понял?
— Э-хе! —
крякнул Нукулун совсем по-отцовски. — Что ж, значит, придется делать плот... А
меня с собой на плот возьмешь?
— Непременно!
Поплывем вдвоем. Ты мне будешь помогать... Ну, а теперь хватит, посидели. Я
буду обрубать ветки, а ты иди нарежь тальника...
Совсем близко
послышался хруст валежника. Кто-то приближался к поляне, тихо насвистывая.
Мальчики
вскочили. Саша схватил топор, пилу:
— Скорей за те
кусты!
На поляну вышел
Расторгуев с винтовкой за плечом. Удивленно огляделся вокруг: что за чудеса! Горит
костер, а возле — никого...
Казак подошел к
огню:
— Глянь-ка,
Сашина пальма!
Он поднял с
земли забытую мальчиками впопыхах рогатину. Заметил спиленные деревья. Вот
зачем пила понадобилась!
— Саша! Ты куды
задевался? — крикнул Степан. — Выдь-ка, любезный! Не медведь я, да и не чужак —
свой... Слышишь?
Саша показался
из-за кустов. Он поеживался от досады и смущения.
— Ты что
хоронишься?
— Степан
Тимофеевич... Мы тут, вот видите... тополя пилили...
— Тополя, как
есть тополя, разумею.
— Я сейчас
объясню...
Казак присел у огня
на корточки:
— Погреюсь у
вас, а то душа маленько застыла.
Из-за кустов
выглянул Нукулун и снова спрятался: он не знал как быть.
— А, вона каков
твой помощник! Здравствуй, Нукулун! — крикнул казак по-якутски. — Что прячешься
от добрых людей? Иди поближе.
Нукулун подошел
к костру, весело осклабившись.
Саша вдруг
решился:
— Степан
Тимофеевич, я скажу вам, только это секрет... Я строю плот.
— А к чему
такое? — удивился казак.
— Буду искать по речным откосам мамонта!
Степан протяжно
свистнул.
— Э, — протянул
он, — нескладно ты надумал! Эти берега я во как знаю! — Казак растопырил
пятерню перед своим плоским лицом. — В здешних местах охотники за рогами уже
давно рыщут, все повыбрали.
— Значит...
значит... — Лицо мальчика помрачнело.
— Да ты не
горюй! Вот как сплывем на низы, я сам, коли пожелаешь, буду тебе в том деле
помощник. Там, на низах, их, слыхать, пропасть водится... А тута, любезный, не
трать зря силы. Поверь слову якутского казака.
— Еще целый год
ждать! — с дрожью в голосе проговорил Саша. — А на Яне, папа говорил, уже
нашли... Когда же я успею?
— Успеешь! Я
тебе и ветку для того прилажу. А эти столбы — куды они? Для такого дела они и
вовсе неспособны.
Глава XVII
«В ПРИГЛЯДКУ И В ПРИДУМКУ»
Надвинулись
суровые холода.
В ноябре
температура несколько раз падала ниже сорока градусов. А в декабре, если
выдавался день с тридцатиградусным морозом, он казался зимовщикам совсем
теплым.
Ртутный
термометр на наружной стене Сосули выбыл из строя — ртуть в нем замерзла. На
спиртовом красный столбик иногда уходил под деление «50».
Тайга, речные долины,
далекие нагорья погрузились в великое безмолвие приполярной зимы. На тысячи
верст вокруг все живое оцепенело, зажатое мертвой хваткой свирепого мороза.
Темный,
безлунный вечер.
Саша уселся на
полу, глядит не отрываясь, как неистово бушует пламя в камельке. Поленья
трещат, жарко пылают. Раскаленные уголья сыплются вниз и устилают под,
переливают алыми самоцветами.
Низко
склонившись над бумагой, отец пишет при свете лейки — плошки с нитяным
фитильком. В плошку налит рыбий жир.
У зимовщиков
вышли свечи. В долгие зимние вечера приходится довольствоваться этими плошками,
которым кое-как помогает свет от пламени камельков.
Лейки отравляют
воздух чадом. У Ивана Дементьевича каждый вечер болит голова.
— Прошу тебя,
Ваня, оставь наконец работу. — Мавра Павловна захлопнула свой атлас. — Себя
пожалей! С самого обеда сидишь над этим отчетом.
Иван
Дементьевич встает, подходит к камельку. Снял очки и платком протирает
воспаленные глаза.
— Вы что же,
друзья, приуныли! Будут у нас и свечи, и все остальное. Скоро, совсем скоро...
Двадцать пять пудов белейшей муки — что ты скажешь на это, Маша?
Мавра Павловна
молчит.
Занимается ли
она зоологией, хлопочет ли по хозяйству — в уме все ведется счет быстро тающим
запасам. Сахару осталось пять фунтов. Сухарей — с полпуда. Фунтов двенадцать
муки. Чаю еще порядочно. А вот смальца совсем уже нет. И ничего мясного!
Счастье еще, что Расторгуев догадался запастись вовремя рыбой; ее должно
хватить на всю зиму.
Черский хочет
отвлечь жену от невеселых мыслей.
Он берет со
стола письмо, которое только что написал адъюнкту академии Плеске.
— Послушай,
Маша, что я рассказываю Федору Дмитриевичу про рыбные блюда, которые ты
научилась готовить. Я пишу так: «Первое — тщательно растертая икра рыб дает
массу, из которой приготовляются недурные блины. Второе — та же икряная масса в
более густом виде дает материал для вкусных оладий...»
— Ну уж и
вкусных! Перехвалил ты, Ваня, эти оладьи...
— Нисколько! Ты
ведь знаешь, я — присяжный рыбоед.
— Я тоже! —
спешит заявить Саша.
Иван
Дементьевич смеется:
— Я вижу, мое
описание воодушевило Сашу... Ну, тут дальше подробно про юколу и строганину —
этого не стоит читать. Ага, вот: «Если прибавить к этому перечню соленую икру,
рыбные супы, затем заливные, рыбы жареные и в виде котлет, то очевидно, что для
здешнего меню можно располагать более чем дюжиною различных рыбных блюд».
— Все это так,
Ваня, — вздохнула Мавра Павловна, — да вот отчего ты худеешь?
Она пристально
всматривается в освещенное камельком лицо мужа. Резко обозначились скулы,
запали виски.
— Немного похудел?
Какая важность! — пожал плечами Черский. — Через недельку-две прибудут запасы,
все мы тогда отъедимся... Но послушай дальше: «С 22 октября мы довольствуемся
одними лишь нравственными наслаждениями, без малейшей примеси вещественного
сахара, ничтожное количество которого хранится только для почетных гостей под
надзором неумолимо экономной хозяйки...»
Такие
подробности кажутся Мавре Павловне излишними.
— Зачем это,
Ваня? Федор Дмитриевич подумает, что жена у тебя скупая. А я берегу зачем? Для
твоего же здоровья! На всякий случай... заболеешь, или кто-нибудь из нас...
— Ну что ты,
что ты, Маша, ведь я пишу это в шутку! Твоя бережливость — самое нужное дело.
Как же можно иначе?
— Хорошо, хоть
не бранишь, — печально отвечает Мавра Павловна. В голосе ее — чуть приметная
обида.
— Надо же
описать нашим петербургским друзьям здешнее житье-бытье... Вот послушай: «Особенно
досадно бывает, когда при гостях на нашем столе за чаем появляются какие-нибудь
вкусные и жирные лепешки, причем в открытой сахарнице белеют куски сахара. А
между тем к сим предметам роскоши не только не смеешь припасть, а, напротив,
должен изображать из себя лицо, относящееся к этим лепешкам самым равнодушным
образом...»
Саша звонко
хохочет. И ему доставляет немало мучений эта сахарница... Так и тянет взять
кусочек, рот полон слюны, а ни-ни, нельзя! Обещал маме потерпеть.
— «...В
Верхне-Колымске мы составили себе самое точное представление о том, что значит
есть и пить «вприглядку» и даже «впридумку». Привозные продукты продаются здесь
по неслыханным ценам. Мы решили поэтому скорее подвергнуться некоторым
несущественным и временным лишениям, нежели приобретать что-либо по местным
ценам...»
С необычной для
нее резкостью Мавра Павловна прервала мужа:
— А дальше
нельзя так! Завтра же куплю у бережновского приказчика сахару и муки!
— Ни в коем
случае! — повышает голос и Черский.
— А я не
послушаюсь тебя, — пытается улыбнуться Мавра Павловна.
— Ты же знаешь,
Маша, я не из скупости... На что будет похоже, если мы станем поощрять этих
грабителей! Нет, нет, этого нельзя делать, поверь мне.
— Как хочешь...
как хочешь... Воля твоя, — покоряется Мавра Павловна.
* * *
У якутских
камельков в дымоходах нет задвижек. Даже такое нехитрое приспособление местным
жителям соорудить не из чего. Из дерева задвижки не сделаешь, а жесть — где ее
взять?
На ночь, когда
камелек перестает топиться, дымоход плотно затыкают снаружи кляпом из оленьей
шкуры.
Но сделать это
вовремя отнюдь не просто. Если поспешишь, можно угореть. А опоздаешь — в избу
вмиг нахлынет свирепый холод.
Все трубы на
Сосуле закрывает Саша.
Ему полюбились
эти короткие вылазки на крышу. Перед сном можно еще раз выбраться из тесных
комнатушек, провонявших перегаром рыбьего жира.
Вместо
закоптелого потолка — глубокий матово-черный небосвод, густо усеянный
многоцветными звездами.
В лунные ночи с
крыши широко открывается застывший приполярный мир.
В глубине
сумрачная громада тайги. А поближе белеют оснеженные стены верхне-колымских
изб.
Вот распахнулась
низкая дверь жилья Захара. На снег выбегает маленький, совершенно голый
человечек. Саша узнает пятилетнего братишку Нукулуна. Над ним высоким, прямым
столбом струится кверху пар.
Проплясав на
снегу какой-то замысловатый танец, он скрывается за дверью.
Из своей избы
выходит с деревянной чашкой Попов. Свистит резко, протяжно. Из снежных нор,
будто из-под земли, выползают на его зов собаки. На снег летят куски рыбы...
Заиндевелые
лошади понуро бродят вдоль Ясачной. Останавливаются, копытят снег, достают
из-под него засохшую траву...
* * *
Светящаяся дуга
прочерчивает темное ночное небо. По сторонам ее зыблются пучки разноцветных
лучей. Трепетные отсветы скользят по снегу, по стенам изб.
Это феерическое
зрелище приводит Сашу в восторг. Гораздо меньшее впечатление оно производит на
Ивана Дементьевича.
— Нет,
дугообразные северные сияния не идут ни в какое сравнение со складчатыми,
которые мне не раз случалось наблюдать на Нижней Тунгуске.
Но сколько неприятностей приносит зимовщикам
таинственное сияние полярного неба!
Начинается это
чаще всего около полуночи: потревоженная свечением неба собака выбирается из
своего ледяного жилья. Повизгивая, встряхивается, вытягивает морду кверху. Из собачьей
пасти вырывается протяжный, всхлипывающий вой.
Друг за
дружкой присоединяют свои голоса к запевале и все двадцать семь душ собачьего
населения поселка.
Надрывный вой
вползает в избу через плотно прикрытые двери, проникает сквозь толстые ледяные
окна. Не дает уснуть, будит спящих.
Просыпается
Мавра Павловна.
— Вот,
началось! — с тоской говорит она.
— Это
невыносимо! Я заткну им глотки! — вскакивает с постели Генрих. Второпях
одевается, хватает двустволку и выбегает из избы.
Бах! Бах!
На минуту
собаки смолкают. А затем вой возобновляется с пущей силой. И снова — бах! бах!
Генрих
спасается в избу от холода.
— Зазря заряды
тратите! — подает голос из кухни разбуженный выстрелами Степан. — Эка невидаль
— собаки к морозу поют.
* * *
Лютая январская
стужа.
Иван
Дементьевич сильно исхудал, но бодр и деятелен по-прежнему. Каждый день он
гуляет — ходит к Колыме с Маврой Павловной или Сашей. На обратном пути они
навещают соседей, иногда заглядывают к Сучковскому.
Саша знает, как
полагается приветствовать хозяев, входя в зимнюю пору в избу колымчанина.
— Как сидите?
— Хорошо сидим!
— отвечают ему хором.
Это значит, что
есть еще рыба. Можно поэтому отсиживаться в жарко натопленной избе, без конца
поглощать горячий чай, попыхивать целый день трубкой.
Правда, начали
уже хлебать отвар из заболони — мягкого слоя древесины, который добывают из-под
коры лиственницы. Но это блюдо — пока только подспорье хозяйкам. Оно помогает
растянуть подольше остатки рыбы.
Сейчас и члены
экспедиции питаются немногим лучше.
— Обманул нас
губернатор, ой, как обманул! — не утерпела, пожаловалась в минуту уныния Мавра
Павловна.
Надежда на скорое
прибытие продовольствия окончательно покинула зимовщиков. Январь на исходе — а
грузов все нет... Но Черская старалась не говорить уже больше об этом.
Как-то она
попросила Степана раздобыть толченой заболони и сварила зимний колымский суп.
Навар получился густой. Макаронами плавали в нем распаренные нити древесины.
Поевши
строганины, стали пробовать новое блюдо. Сначала показалось сносно. Но после
нескольких ложек рот свело жгучей смолистой горечью. Древесные жилки застревали
в зубах.
Мавра Павловна
вылила суп в помойное ведро:
— К этому
привычка нужна. Вот уж если у нас не станет и рыбы...
* * *
С некоторых пор
Мавра Павловна замечает, что Саша стал молчалив, угрюм. Ей кажется, это от
недоедания, от того, что организм мальчика тяжело переносит лишения зимовки.
Но причина
совсем иная.
Как-то
затерялся Сашин циркуль. Он нигде не мог отыскать его — ни среди вещей у себя,
ни на полке у Гени. Может быть, Геня по ошибке бросил циркуль в свой сундук? А
сундук на запоре...
Все же Саша
машинально потянул за висячий замок. Замок раскрылся.
Мальчик откинул
крышку и увидел в сундуке груду беличьих шкурок. Было здесь и несколько шкурок
выдры.
Ему стало не по
себе. Будто подглядел что-то, чего не следует знать. Тотчас опустил крышку.
Но в голову
полезли недоуменные мысли. Неужели это все охотничьи трофеи? Странно... Геня ни
разу не похвалился ими.
Поразмыслив,
Саша решил, что Генрих купил эти шкурки у приезжих охотников — ведь он теперь
проводит целые дни в лавке Бережнова... А спрашивать не стоит, раз сам не
говорит.
Мальчик сильно
досадовал на себя. «Не следовало бы мне самовольно открывать сундук!»
Прошло
несколько дней.
Саша сидел за уроками.
В другом углу комнаты Генрих приводил в порядок свое охотничье снаряжение.
Вдруг Саша
почувствовал характерный запах спирта. Он оглянулся. Повернувшись к нему
спиной, Генрих возился у большой фляги со спиртом.
Что он там
делает? Скосив глаза в ту сторону, Саша увидел, как Генрих прячет в карман
маленькую бутылку.
Тут ему сразу
вспомнились ламуты, заезжавшие к отцу.
«Веселая
вода»!..
С этого дня
Саша стал следить. Во фляге спирту понемногу убывало.
Теперь не могло
быть сомнения. «Значит Генрих... Какой позор... позор для всех нас!»
Мальчик
негодовал. Думал и передумывал, как ему быть. Сказать отцу? Он не мог
решиться...
* * *
— Саша, сколько
на термометре?
— Сегодня,
папа, лютый мороз. Пятьдесят один!
— Ого! Придется
сильно сократить прогулку. С версту в сторону Колымы — и назад. На обратном
пути завернем в лавку. Степан говорит — там бывают теперь охотники с верховьев
Ясачной. Идешь с нами, Маша?
— Пойду.
Надели меховые
штаны и куртки, меховые чулки. Обулись в торбаса. Шапка с длинными наушниками,
двойные заячьи рукавицы — надежная защита от холода. Доха завершает этот зимний
наряд.
Тихое, мглистое
утро. Низко над тайгой повис багровый диск солнца.
— Мама, и
сегодня шуршит!
При каждом
выдохе слышен тихий, но отчетливый звук.
— Никак не
привыкну. Шумит, словно метлой по сухой земле.
— А мне, Маша,
это напоминает, как шуршит овес, когда его пересыпают лопатой.
— Отчего это такое, Ваня, как ты думаешь?
— Должно быть,
при выдохе пар быстро замерзает.
— А знаешь,
папа, якуты называют это «шепот звезд».
— Поэтический
народ!..
— Не следует
столько говорить на морозе, — забеспокоилась Мавра Павловна. — Горло застудить
можно. Пойдем-ка шибче!
На ходу Саша
ударяет пальмой по кустам тальника. Промерзшие ветки ломаются, будто
стеклянные.
Пройдя еще
немного, повернули назад.
Когда вошли в
лавку, приказчик сердито распекал охотника-юкагира. Жалкий старик в потертой
кухлянке и худых торбасах поминутно кланялся, прижимая к груди оленью шапку, и
горячо о чем-то просил.

Иван
Дементьевич уже достаточно понимал по-якутски. Он стал вслушиваться.
Юкагир просил в
долг три коробки пороху и немного свинца.
— Бесстыжий!
Как язык у тебя поворачивается еще клянчить? — корил охотника приказчик. — Ты
мне с прошлого года должен двадцать белок, а ничего не привез!
Старик прикрыл
ладонью темное лицо:
— Стыдно мне...
стыдно... А как отдам? Не с чем на охоту ходить, нечем ружье зарядить.
— Рыбой отдай!
Рыба-то небось у тебя осталась?
— Всю съели,
всю...
— А карбасов
сколько продал прошлой весной?
— Один карбас
сделал — в Средно на сети сменял... Осенью от оспы сын умер. Один я с моей
старухой остался!.. — Юкагир тяжело вздохнул. — Если не дашь пороху, помрем и
мы. А дашь — может, оленя промыслю. Мясо будет. Тогда и белок тебе добуду.
— Иди, иди,
убирайся! Не дам!
— Погодите-ка,
Павел Трофимович, — обратился Черский по-русски к приказчику. — Сейчас, может
быть, уладим это дело... Саша, спроси — сможет он изготовить нам карбас ко
вскрытию Колымы?
По всему краю
юкагиры слыли умелыми строителями карбасов и веток. Они снабжали ими все
поселения по Колыме до самого устья. Не имея ни пилы, ни гвоздей, ловкие
мастера с помощью одного топора выделывали ладные, крепкие лодки.
Робея перед
русскими тойонами, поминутно вздыхая от волнения, старик ответил, что есть у
него хороший тополь для днища, сухие бревна лиственниц. Он бы изготовил к концу
зимы большой карбас, да хватит ли сил держать в руках топор?
— Спроси,
сколько он возьмет за это.
Тут юкагир
совсем растерялся. По стойбищам давно прошла весть о добром к охотникам русском
тойоне с длинной бородой и каменными глазами. Как быть? Назовешь цену, а тойон
обидится...
Юкагир
переминался с ноги на ногу и молчал.
— Ну, тогда
скажи ему, что предлагаю тридцать рублей.
— Да что вы,
как можно! — запротестовал приказчик. — Баловать здешний народ не годится.
Карбасу цена двадцать рублев. А у этого возьмете и за десятку!
Иван
Дементьевич оставил замечание приказчика без ответа.
— Скажи —
тридцать. И деньги, скажи, сколько ему необходимо, заплачу вперед, сейчас же.
Старик не мог
прийти в себя от радости.
— Бобыхо!
Бобыхо! — благодарил он и все кланялся.
— Павел
Трофимович, за этим охотником, вы сказали, считаете двадцать белок? Это по
вашим ценам: четыре рубля. Я сегодня пришлю вам эти деньги» Вычеркните сейчас
же долг из своих записей.
Приказчик с
недовольным видом стал листать книгу.
— Дедушка, ты
больше ему ничего не должен! — кричал Саша, радуясь тому, как обернулись дела
старого охотника. — За тебя отец заплатит все.
— Спроси
теперь, сколько ему понадобится до конца охоты пороху, сколько свинца.
Старик
прикидывал в уме, называл количество. За охотничьими припасами последовали чай,
табак. Затем новый топор, котелок.
Когда приказчик
подсчитал стоимость всего, что забрал старый охотник, Иван Дементьевич еще раз
подтвердил, что сегодня же пришлет ему все следуемые деньги с Расторгуевым.
— Скажи
старику, Саша, у меня остается еще двенадцать рублей его денег. Доставит
карбас, тогда рассчитаемся.
— Да уж этак
сохранней будут, по крайности не пропьет! — съязвил приказчик.
В лавку вошли
два ламута. На них — оленьи кухлянки, отороченные лисицей. Гладкий мех обильно
расшит цветным узором. Покрой кухлянок затейливый — буфы на рукавах, кукашки с
зубчатым вырезом. Нарядные торбаса, пыжиковые шапки.
— Какие щеголи!
— залюбовался Черский. — Что твои, парижане.
— А
приказчик-то, приказчик! Ласковый стал — и не узнать, — тихо говорит мужу Мавра
Павловна.
— Еще бы,
богатые оленеводы, по всему видно... Погоди-ка, что такое они рассказывают?
Четыре нарты из Средне-Колымска? Правильно я понял, Саша?
— Да, папа,
говорят, недалеко от поселка они обогнали четыре оленьих упряжки.
— Наш
транспорт! — закричала Мавра Павловна. — Пойдем, пойдем отсюда... Скорей!
Половина
жителей поселка уже бежала навстречу показавшейся вдали веренице саней. У
передней нарты шагал высокий человек, закутанный в меха. На ходу он эффектно
похлопывал длинным бичом.
— Никонов!..
Едет Никонов!
Подошел
Расторгуев и с досадой сказал Ивану Дементьевичу:
— Не к нам
это... Он — главный в здешних местах закупщик. Заявился, стало быть, в Верхно
за мехами.
Нарты
проскрипели мимо и остановились возле лавки.
Иван
Дементьевич, Мавра Павловна и Саша молча пошли домой.
* * *
Никонов
обосновался у бережновского приказчика. И сразу ему понесли — кто рыбу, если
осталась нельма или осетр, кто припасенную для этого случая лисицу или десяток
белок.
Скупщик за все
расплачивался водкой — рюмкой, стаканом, бутылкой.
Его водка
сильно разбавлена водой. Чтобы все же казалась она крепче и дурманила голову,
мошенник подливает в нее настой табака, раствор медного купороса. Ему дела нет
до того, что водка становится ядовитой, опасной для здоровья.
Наезжий
торговец быстро выкачал у местных жителей все, что нашлось для него
подходящего. Но это было только началом обширной операции, задуманной в
компании с бережновским приказчиком. Главных доходов они ждали от окрестных
охотников.
Расчет был верный:
весть о прибытии купца с «веселой водой» быстро облетела юрты и стойбища далеко
вокруг. К поселку потянулись юкагиры и ламуты с Ясачной и с другого берега
Колымы, якуты из одиноких, затерянных в тайге юрт.
Уже через день
у лавки валялись на морозе мертвецки пьяные охотники.
* * *
Несколько дней
Черский словно не замечал, что творится за стенами Сосули. Но его не
переставала мучить мысль, что необходимо как-то прекратить этот разбой.
Накануне Попов
по поручению Ивана Дементьевича купил у Никонова будто для себя бутылку водки.
Черский проделал несложный анализ и убедился, что она ядовита.
В конце концов
он не выдержал:
— Нет, нельзя
это так оставить! Не могу!
Иван
Дементьевич надел доху.
Мавра Павловна
попыталась отговорить его:
— Не ходи туда,
Ваня, право, не надо... Не до того ведь нам.
— Нет, Маша!
Есть долг порядочного человека, от которого уклониться не позволяет совесть.
У Саши ёкнуло сердце:
«А я выполнил свой долг?..»
— Папа,
позволь, и я с тобой...
Черский с
сомнением посмотрел на сына:
— Там, знаешь,
придется крепко ругаться.
— Я не боюсь!
— Тогда
одевайся, Александр Иванович.
Войдя в лавку,
Иван Дементьевич направился прямо к рыжебородому, краснорожему торговцу:
— Вы Никонов?
— Угу! А вы,
слыхать, приезжий из Питера...
— Послушайте,
Никонов, немедленно убирайтесь вон из Верхне-Колымска! А не уедете — пеняйте на
себя. Я сообщу про ваши проделки исправнику. Обращусь, если понадобится, и к
губернатору.
— Он што тут —
начальство, али как? — изумленно обратился купец к приказчику.
— Я выведу вас
на чистую воду! У меня есть бутылка вашего пойла, есть свидетели... За купорос
засажу в тюрьму!
Приказчик стал
шептать на ухо своему компаньону.
— Я жду ответа
— уедете завтра же? Или посылать нарочного к губернатору?
Такая угроза
испугала колымского делягу. Взяткой тут не отделаешься... Такой не возьмет, по
всему видно. Неужели вся операция сорвалась?!
Пошептавшись
снова с приказчиком, Никонов решил, что благоразумнее не затевать истории:
— К чему,
сударь, расшумелись? Я и так собираюсь завтра в Средно... А грозиться вам
негоже. С людьми надо мирно жить, надо ладить.
Иван Дементьевич
старался не выказывать своей радости от неожиданно легкой победы:
— Вы людей
травите! Разве на то вам выдан торговый патент?
— А у ваших где
патент на спирт? — вскипел тут приказчик, обозленный неожиданной помехой. —
Тоже ученые! Других, значит, за горло, а сами...
Вся кровь
прилила к лицу Саши. Но Черский, не поняв намека, пропустил выпад мимо ушей.
— Чтобы завтра
здесь духу вашего не было, слышите! Приду проверить.
Хлопнув дверью,
он вышел с Сашей из лавки.
Довольный
удачей, Иван Дементьевич зашагал быстро, взяв мальчика под руку.
— Хорошее дело
мы сделали, Александр Иванович!
— Папа!..
Иван
Дементьевич взглянул на сына — и остановился:
— Что с тобой?
— Папа... Геня
меняет спирт экспедиции на меха!
— Что такое? Ты
с ума сошел!
— Я давно
заметил... У него в сундуке. Ты не... Но отец уже не слушал, со всех ног
бросился к дому. Саша еле поспевал. Сердце бешено колотилось.
— Генрих дома?
— едва переступив порог, крикнул Черский.
— Я здесь,
дядя. Я вам...
Он запнулся.
Лицо Ивана Дементьевича не предвещало доброго.
— Открой свой
сундук, Генрих!
Тот растерялся:
— Это что?
Обыск?
— Открой
немедленно... Я тебе помогу! Оттолкнув племянника, рванул замок, откинул
крышку:
— Так! Меха...
Теперь покажи бутыль со спиртом!
— Я... я не
обязан! Я...
— Менял спирт
на меха? Отвечай!
Первый испуг
прошел. Генрих наглел:
— Это мое дело!
— А, так? —
Черский быстро принял решение. — Тем хуже для вас... Генрих Оскарович, пройдите
в мою комнату... Мавра Павловна, Степан Тимофеевич, прошу вас присутствовать...
Саша, иди и ты сюда.
Иван
Дементьевич стал у своего стола. Он уже овладел собой.
— Господин
Дуглас, вы совершили подлое дело!.. Вы присоединились к банде проходимцев,
которые спаивают здешний народ и грабят его! И для этого вы крали спирт
Академии наук! С сегодняшнего дня вы больше не член экспедиции. Вам будет
немедленно выдано следуемое жалованье и проездные. Получите от меня письмо к
средне-колымскому исправнику: он устроит ваш проезд дальше, в Якутск.
— И прекрасно!
Я и сам хотел уехать! Надоело жить среди дикарей, да еще голодать по вашей
милости!..
Мавра Павловна
подошла к мужу, взволнованно стала его убеждать:
— Ваня, зима ведь...
Лютый холод. Подумай!
Черский
решительным жестом остановил жену:
— Мавра
Павловна, я начальник экспедиции, прошу не забывать об этом. Да и не о чем так
беспокоиться. Молодой человек выказал большие деловые способности. Он сумеет
сам о себе позаботиться. Кстати, у вас, господин Дуглас, будет подходящий
попутчик: завтра и Никонов уезжает в Средне-Колымск.
Глава XVIII
БОЛЕЗНЬ ОТЦА
Конец марта. С
каждым днем солнце поднимается выше и выше. Ласковое сияние, разлитое по
приколымским белым просторам, манит зимовщиков из избы.
— Пойдем, папа,
сегодня к старым лиственям!
На холме,
поросшем вековыми деревьями, Саша останавливается, втягивает носом воздух.
Лиственницы источают крепкий, чудесный аромат.
— Пахнет, как в
парфюмерном магазине на Невском... Нет, куда лучше! — решает мальчик.
— Да, правда,
пахнет прелестно... Природа, Саша, величайшая выдумщица. И возможностям ее нет
предела. Подумай: даурская лиственница благоухает — где? У Полярного круга. И
когда? Только-только пробуждаясь от долгой зимней спячки.
Беседуя,
доходят до Колымы.
Толстую ледяную
броню прорвало в нескольких местах. Наружу вышли подледные воды. Над ними
клубится густой пар.
Вдоль берега
скользит запряженная оленями нарта. На нарте якут. В тихом воздухе отчетливо
звучит монотонная песня.
— О чем он? —
вслушивается Иван Дементьевич.
— Не могу
разобрать.
— Может быть, о
нас... Якут что ни увидит, то и вбирает в свою песню.
Черский глядит
вдаль, прикрывая очки от слепящего солнца. Глядит долго, не отрываясь, в
сторону севера, вниз по реке. Потом поворачивается к сыну, кладет ему руку на
плечо:
— Измучились
мы, Саша, на этой зимовке... И все потому, что доверились чинушам в Якутске.
Мама была права — не следовало этого делать! Да кто же мог подумать, что они
так подведут... Только в начале февраля прислали первую партию. Ну, да теперь
уже недолго до отъезда. В мае вскроется река и тогда — прощай Верхне-Колымск!
Саша загибает
пальцы:
— Апрель,
май... Меньше двух месяцев! Как ты считаешь, папа, в пути, на Колыме, я смогу
уже коллекционировать? Я теперь все нужное знаю — проэкзаменуй меня.
— Ну, значит,
ты уже становишься профессиональным зоологом. Может быть, на всю твою жизнь...
А ведь это неплохо — быть зоологом, правда?
— Я уже решил.
Когда кончу гимназию, поступлю на естественный факультет и буду заниматься
млекопитающими.
— Вот как! Значит,
по моим стопам?
— Да, папа,
буду, как ты, путешественником и натуралистом.
* * *
Вернулись с
прогулки. День прошел, как обычно, в занятиях, хлопотах по хозяйству.
А среди ночи
Сашу разбудил протяжный, жалобный звук. Спросонья ему показалось, что завывает
ветер за стеной избы.
Он прислушался.
Нет, это в комнате рядом.
Саша вскочил,
осторожно приоткрыл дверь.
Лунный свет
едва пробивался сквозь льдину окна. Отец полулежал на постели.
Дрожащими,
непослушными руками мать старалась зажечь фитилек плошки:
— Ваня, что с
тобой?
Отец показал на
сердце.
— Болит?
— Давит...
здесь...
Мать принялась
массировать ему грудь. Что в таких случаях следует делать? Она не знала...
Приложить грелки к ногам?
— Саша, в печи
теплая вода. Налей скорей в бутылки!
Грелки немного
облегчили страдания больного Он уснул.
Наутро поднялся
с постели бледнее обычного, со стесненным дыханием. Против обыкновения, не сел
сразу за работу, а надел шубу, взял палку.
— Ты куда,
Ваня?
— Пойду поброжу
немного.
— И я с
тобой...
— Нет, лучше
мне одному.
Пока отец
гулял, мать не могла ни за что взяться, не находила себе места.
— Что это с
папой?
— Не знаю, Саша... Откуда мне знать? Ни
доктора, ни фельдшера за сотни верст не найти. Василий Егорович, и тот на беду
уехал! У него есть разные лекарства.
Отец вернулся с
прогулки как будто более бодрым. Пообедал и стал заниматься.
А среди ночи —
новый сильнейший припадок.
* * *
Пошли дни,
тяжелые, как дурной сон...
По утрам отец
долго не может подняться с постели. Дышит часто, с трудом. Его изводит кашель
глухой, удушливый.
Перемогая себя,
одевается, садится к столу, пьет чай. Медленно оправляется от ночных мук.
Вот он снова
шутит, рассказывает о своих путешествиях, о жизни в Омске.
— Ты прилег бы,
Ваня.
— Нет, зачем? Я
уже хорошо себя чувствую. Выйду на весеннее солнышко. Да, вот что, не забыть
бы! Когда мы в будущем году перевалим на Индигирку...
Лицо матери
светлеет. И Саше кажется, что отец поправляется.
Но всякий раз
надежда обманывает. По ночам больного терзают тяжелые приступы удушья. Он не
может сдержать стонов, часто теряет сознание от боли в груди.
В таких
мучениях проходит неделя. А в начале апреля приступы болезни как будто
ослабевают.
Наглотавшись
разных снадобий из походной аптечки, отец принимается за работу.
Изжелта-бледный,
с посиневшими губами, он долго сидит над своими записями, над картами.
— Саша! — зовет
он. — Сложи образцы по номерам — видишь, они в беспорядке. Пока не начнем снова
с тобой заниматься, будешь помогать мне. Я должен поскорей закончить отчет.
— Нельзя тебе,
Ваня, сидеть столько...
Отец не
отвечает ни слова, только поднимает глубоко запавшие, обведенные черными тенями
глаза. Во взгляде его — страдание.
Мать, не в
силах справиться со своим волнением, почти выбегает из комнаты. Следом за нею
идет на кухню Саша.
— Мама, —
шепчет он, — это пройдет... Папе станет лучше!
Мать
оборачивается, смотрит широко раскрытыми, полными страха глазами. Берет его
голову, прижимает к груди:
— Да, да,
сынок... Не надо малодушничать. Выздоровеет наш папа... Конечно, выздоровеет!
* * *
Уже по весенней
ростепели, в середине апреля, прибыла большая партия продовольственных грузов
экспедиции.
Возле нарт
хлопочет Расторгуев:
— Проверить бы,
Мавра Павловна... Добра-то сколько!
— Посчитайте
все сами, Степан Тимофеевич.
— Надо бы по
описи...
— Вам поможет
Саша.
Расторгуев
сносит в амбарчик мешки с мукой, заполняет кухню всякими припасами.
Саша с ненавистью
глядит на эти банки, коробки, мешки, словно они виноваты в постигшем семью
несчастье.
Из длительной
поездки в Средне-Колымск вернулся Сучковский. Узнав о болезни Черского,
поспешил к нему.
Иван
Дементьевич сидит за столом, пишет.
Саша замечает,
как вытянулось лицо Василия Егоровича, когда он увидел отца.
— Что с вами,
дорогой Иван Дементьевич? Никак, болеть надумали?
— Одышка его
замучила, — жалуется мать. — Дайте что-нибудь, чтоб дышать легче стало.
— Я уже почти
оправился, Василий Егорович, — твердо заявляет отец. — Вот видите, работаю. Рад
вашему приезду... У вас, наверно, найдется наперстянка?
— Ее-то, увы, и
нет... Обещали скоро прислать из Якутска. Зато вот что имеется... — Сучковский
стал вынимать из карманов склянки, коробочки: — Настойка горицвета, настойка
ландыша — испытанные народные средства. А вот и ученая медицина: порошки
камфары, кофеин... Мавра Павловна сказала мне, что у вас сердце пошаливает.
— Что ж,
чувствительно вам благодарен за них. Только едва ли воспользуюсь. Думаю, меня
окончательно вылечит весна и скорая поездка. Мы готовимся в плаванье.
— Да что вы!
Никак не советовал бы так торопиться. Все-таки после болезни...
— Вы могли бы,
Василий Егорович, послушать мне грудь? Какие-то хрипы у меня в легких...
— Попробую,
Иван Дементьевич, хоть врачеватель я, правду сказать, слабый, самоук.
Мать вышла из
комнаты.
— Прикрой за
собой дверь, Саша!
Почему отец
услал его?..
У себя в
комнате Саша присел к окну и ждет. Ждет долго.
Сколько же
будет длиться это выслушивание?..
Он подходит к
закрытой двери, ловит чуть слышные слова отца, прерываемые одышкой:
— Я сделал в
жизни все, что мог. Теперь можно и умереть. Смерть меня не страшит... но мне
доверено большое дело... Издержаны огромные средства! Я многое успел здесь
сделать, но далеко не все, что мне поручено. Скажут, что вот, хоть и невольно,
обманул доверие академии... Горько, тяжко от этого!..
— Напрасно
говорите такое, Иван Дементьевич. Вы еще поправитесь.
— Нет, я
человек конченый. Таю скорее, чем свеча... Пообещайте мне, что позаботитесь о
жене и сыне после моей смерти!
— Нельзя так
отчаиваться...
— Обещайте!
— Что ж, даю
вам самое твердое, самое торжественное слово! Сделаю, как просите.
— Спасибо вам!
Саша отошел от
двери. Пол, стены, все вокруг как в тумане... Доплелся до постели, лег. Будто
сквозь сон услышал, что прошла мать.
Долго лежал он
так, закрыв глаза.
Мать заглянула
в комнату, подумала, видно, что спит, тихонько удалилась.
А он все лежал.
Отец... не
станет отца...
Зарывшись
головой в подушку, мальчик зарыдал.
* * *
Середина мая. В
Верхне-Колымск сразу нагрянула весна. Горячее солнце почти не сходит с
небосвода. Струятся талые воды, бегут в Ясачную, изливаются на почернелый лед
Колымы.
Среди снега
обнажились островки земли. На них зеленеет молодая трава. Еще окруженные
рыхлыми сугробами, тальники покрылись клейкими листочками.
С утра и до заката воздух звенит от
немолчного чириканья и щебетанья снегирей, трясогузок, множества перелетных
птиц.
Как медведи из
берлоги, выбираются на волю верхне-колымцы. Лица одутловатые, глаза болезненно
блестят от долгой зимней голодухи.
В избе Черских снова вставлены слюдяные рамы.
Саша задумчиво смотрит в окно на такую желанную прежде весну...
Подходит
Нукулун, зовет. Саша нехотя отвечает ему:
— Что тебе?
— Возьми ружье,
пойдем к Колыме. Отец обещал дать мне на часок свою кремневку. Постреляем. Уже
первые утки летят!
— Нет, Нукулун,
не пойду. Иди один.
Колыма оттаяла
двумя узкими полосками у берегов. Вдоль водяных дорожек летят на север косяки
уток разных пород. Их разноголосое кряканье разносится далеко по округе.
У кого есть ружье и порох — по целым дням
сторожат у берега. Впервые можно будет поесть досыта после голодного зимнего
рациона, после заболони, налимьей кожи и отварных ремней.
— Пошья, пошья
Коима-матушка! — приносит в поселок радостную весть Попов.
Лед на Колыме
еще только подвинулся, дал трещины. А уже на другой день его разорвало на
отдельные ледяные поля, и льдины тронулись в далекий путь, на север, к
Ледовитому океану.
На излучине
реки массы льда торосятся, запруживают течение. Колыма выходит из берегов,
бушует. А затем с оглушительным ревом и гулом рвет препону.
* * *
Двадцать пятого
мая, когда сошел лед с Ясачной, у берега стала большая лодка.
— Пригнал нам
юкагир карбас, — докладывает Черскому Степан. — И как ладно сработал!
— Ну, вот
видите! Славный старик... Заплати ему, Маша, что следует. Теперь начнем
готовиться в путь! Как только спадет полая вода — тронемся.
Иван
Дементьевич читает и пишет лежа. Больной очень слаб. Но он совсем перестал
стонать. Голос его тверд. Во взгляде выражение непреклонной решимости,
собранной воли.
— Саша, пойди к
Василию Егоровичу, пригласи его к нам. Передай, что прошу зайти сегодня же.
Хочу закончить с ним некоторые дела перед отъездом.
Входящего
Сучковского Иван Дементьевич встречает словами:
— Наконец-то мы
отплываем! Я приказал нашему Расторгуеву готовить карбас к первому июня.
— Но это чистое
безумие! — протестует Сучковский. — К чему такое! Разрешите сказать вам —
просто бесчеловечно думать о делах и обязанностях в таком состоянии, как
ваше!..
— Я так решил,
и так лучше! — энергично возражает Черский. — К тому же я сейчас уже достаточно
оправился, чтобы руководить экспедицией. Маша, — обратился он к жене, — мы
сейчас займемся с Василием Егоровичем, а затем я встану и будем пить чай.
Саша и Мавра
Павловна вышли.
— Теперь,
Василий Егорович, окажите мне услугу, прочтите вслух мое завещание. Будете
свидетелем.
Вздохнув,
Сучковский принялся.читать:
—
«...Экспедиция Академии наук для исследования рек Колымы, Индигирки и Яны
находится уже в полном снаряжении к плаванию до Нижне-Колымска, и необходимые
для этого затраты уже сделаны. Между тем серьезная болезнь, постигшая меня
перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли я даже до назначенного
времени отбытия...
...В случае
моей смерти, где бы она меня ни застала, экспедиция под управлением моей жены
Мавры Павловны Черской должна все-таки нынче летом непременно доплыть до Нижне-Колымска,
занимаясь главным образом зоологическими и ботаническими сборами и разрешением
тех геологических вопросов, которые доступны моей жене. Иначе... академия
должна потерпеть крупные денежные убытки и ущерб в научных результатах, а на
меня, вернее на мое имя, до сих пор еще ничем не запятнанное, ложится вся
тяжесть неудачи.
Только после
возвращения экспедиции обратно в Средне-Колымск она должна считаться
законченной.
Верхне-Колымск.
25 мая 1892 г.
Начальник
экспедиции И. Д. Черский».
В присутствии свидетеля больной приложил к
завещанию свою именную печать.
Глава XIX
ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ
На носу карбаса
устроено под навесом глубокое сиденье, выложенное кошмами. В нем больной
проводит дни и ночи.
...Черский
пристально вглядывается в проплывающие мимо утесы.
Мавра Павловна,
Саша стоят возле.
— Здесь... —
поднимает Иван Дементьевич руку.
— Причалить! —
кричит Саша гребцам.
Он вместе с
матерью сходит на берег. Отбирают образцы породы.
Плывут дальше.
Ученый ведет
записи в путевом журнале:
— Время?
Температура? Барометрическое давление?
Саша дает
показания приборов. В журнал заносятся номера образцов.
На ночь
пришвартовались к острову среди реки, Мавра Павловна укутала больного в одеяло,
и он сидя дремлет. Лечь не может — сразу начинает задыхаться.
На третий день
плавания остановились у впадения в Колыму речки Сиен-Томага.
— Степан, пошлите в Родчево, к Шаргородскому.
Я напишу записку. Может, у него найдется наперстянка... Она поставила бы меня
на ноги.
На следующее
утро приезжает сам Шаргородский, политический ссыльный, знакомый Черских. Но
наперстянки у него нет.
Больной делает над собой усилие, беседует с
приезжим. Его донимает кашель.
— Маша, мне бы
теплого молока... Попробуй раздобыть.
Мавра Павловна
с сыном сходят на берег.
Отдышавшись от
нового приступа кашля, Черский говорит с грустной улыбкой:
— Слышите, какая музыка? А ведь не болит,
ничуть не болит. И вот так, без всякой боли, пожалуй, и уснешь навеки...
Он на минуту
смолкает, переводит дыхание:
— Впрочем, это
меня не страшит: рано ли, поздно ли, всем одна дорога...
В глазах больного
загорается вдруг живая искорка. Он пытается шутить:
— Я могу только
радоваться, что умираю в этих краях... Через много-много лет заезжий геолог,
может быть, найдет мой труп и отправит его с какой-нибудь целью в музей...
Таким образом увековечит меня...
— Вернуться бы
вам, Иван Дементьевич, назад, в Верхно! Я бы отвез вас, — горячо убеждает
Шаргородский. — Ведь речная сырость и впрямь убьет вас! Дождались бы
наперстянки, оправились бы... А Мавра Павловна тем временем проведет экспедицию
этого года.
— Нет, нет. У
каждого свое дело и свое место. Мое — здесь, в экспедиции.
— Потому-то вам
и надо...
— Нет! К чему
это? При самых лучших условиях протяну недели три, не больше.
Иван
Дементьевич умолкает. Роняет голову на грудь. Потом переводит взгляд на
Шаргородского, глядит пристально:
— Не осталось
времени подготовить жену к роковому часу... — шепчет он. — Выдержит ли она
удар? Если умрет и она, что будет с Сашей?
— Если бы что
случилось, Иван Дементьевич, я позабочусь о нем.
— Спасибо вам за все, за все! Прощайте,
добрый друг.
Больной
откинулся на подушки, закрыл глаза.
Уснул...
* * *
Далекие
пустынные берега в туманной дымке. Кругом так тихо, что слышен каждый удар
весла, каждый всплеск рыбы.
С пронзительным
писком проносятся чайки.
Отец подает
знак:
— К левому
берегу... Осмотрите яр.
Пристали к яру.
Взяли образец, подобрали несколько костей. Через четверть часа отчалили.
Новая остановка у бурых утесов правого
берега. Отбивают два образца. И снова в путь.
Так каждый
день. На ночевку останавливаются не раньше десяти часов вечера. В десять утра
уже отправляются в путь.
Много раз
причаливают, тщательно осматривают берега. Мавра Павловна и Саша собирают
кости, травы, насекомых.
Десятого июня
карбас достигает Средне-Колымска.
Состояние
больного быстро ухудшается. Он зовет жену, сына, Степана. Протягивает Мавре
Павловне свое письменное распоряжение об экспедиции:
— Вот мое вам
завещание. Помни, Маша, экспедицию не прерывать до самого Нижне-Колымска...
Даже... когда настанут мои последние минуты.
— Ваня! Умоляю
тебя...
— Да, да, Маша!
Я радуюсь, что успел научить вас обоих делу. С Сашей доведете до конца... после
меня. И Степан поможет вам. А уж после... считайте свой долг исполненным.
Плывут дальше
на север. Бесконечный полярный день.
Больной шепчет
распоряжения. Настаивает на непрерывных наблюдениях. Сам через силу ведет
журнал.
Но вот рука его
уже не может держать карандаш... Мавра Павловна диктует теперь записи Саше:
«Июня
двадцатого. Барометр 727,5. Температура +8. С сегодняшнего дня муж передал
дневник мне, так как не в состоянии был вписывать наблюдения».
Вечером
двадцать первого июня пристали возле урочища Кресты.
К ночи
разыгралась буря. С севера дует холодный, порывистый ветер. По Колыме пошли
высокие валы.
Наутро волнение
еще усилилось. Степан не советует выходить из бухты.
Отстаиваются в
Крестах. Саша записал в журнал показания приборов. А мать добавляет: «Мужу
хуже, силы его совсем слабеют».
К утру волны
улеглись. Поплыли дальше под проливным дождем.
Снова неистовый
встречный ветер. Гребцы быстро выбились из сил. Пришлось кончить работу среди
дня.
Иван
Дементьевич поднял свесившуюся в дремоте голову, строго посмотрел вокруг:
— Почему стоим?
Дальше... дальше!
Двадцать
четвертого с утра ветер упал. Прекратился и дождь.
Надо в путь...
Поплыли.
Снова
остановки, наблюдения. Снова стучит геологический молоток, отбивая образцы.
В журнале
экспедиции за этот день, после бесстрастных отметок номеров образцов, названий
речек, записей температуры и барометрического давления,— короткая приписка
Черской: «Боюсь, доживет ли муж до завтра. Боже мой, что будет дальше...»
Двадцать пятое
июня. Карбас ушел уже далеко за Полярный круг. Скоро подплывут к устью главного
притока Колымы — полноводного Омолона.
В три часа дня
Мавра Павловна приказывает причалить. Карбас стал в устье речонки Прорвы.
Черский
дремлет. На минуту стряхивает с себя оцепенение, потом снова впадает в забытье.
К вечеру он
просит чаю. Пьет стакан, другой — ищет в этом облегчения своих мук. Но ничто не
помогает.
— Нет, видно,
настал мой последний час...
Он уже не в
силах говорить. Знаками просит жену приложить ему компресс к затылку. От
компресса дыхание облегчилось. Но, должно быть, из-за него же из горла хлынула
кровь.
Саша слышит,
как отец шепчет:
— Маша,
приготовься к страшному удару... Будь мужественна в несчастье...
Мать отходит,
ломая руки.
— Саша, — зовет
умирающий, — найди кофеин, валерьяну... Дашь маме потом, когда я...
В отчаянии,
потеряв голову, мать кричит:
— Саша! Если я
умру — жди здесь Василия Егоровича! Сашенька, слышишь, он явится за тобой.
Оставайся с Расторгуевым здесь, слышишь!
И тут раздается
громкий, внятный голос отца:
— Саша, слушай
и исполняй!
Это его
последние слова. Через минуту он уже мертв.
Глава XX
МАТЬ И СЫН
В суровом
Колымском крае нередко бывает так: среди лета вдруг надвигаются с полярного
океана холода, дожди сменяются густыми снегопадами. Вздыбленная низовыми
ветрами Колыма катит высокие темные волны.
В такую
непогоду застигнутые на реке карбасы и паузки прячутся по бухтам и устьям малых
речек.
А это лето —
особенно холодное и ненастное.
Колыма бушует.
Карбас экспедиции с телом скончавшегося ученого вынужден отстаиваться в устье
Прорвы.
Покойника
положили в небольшую лодку, поднятую на карбас, прикрыли корой.
Мать не
плакала, не жаловалась на постигшее их горе. Безучастная ко всему, она сидела у
лодки с телом.
— Похороним,
сынок, нашего отца у какого-нибудь селения, чтоб присмотрели за его могилой.
Только где? Степан Тимофеевич, вы не скажете?
— Эх, горе
горькое... — вздыхает Расторгуев. — Недалеко отсель, Мавра Павловна, супротив
устья Омолоя, будет заимка. Берег там высокий, не заливает. А живут обруселые
юкагиры, душ двадцать. Там бы и упокоить... Народ хороший, присмотрят.
— Недалеко,
говорите?
— Совсем
близко.
Буря улеглась
только через три дня. Карбас вошел в Колыму. Причалили к заимке Колымское.
Все население
урочища приняло участие в погребении. Сколотили из плавника гроб. Начали рыть
могилу. На глубине в пол-аршина лежала твердая, как железо, вечная мерзлота.
Заступ не брал. Стали рубить топорами. Врубились глубоко.
Когда опускали
тело в землю, мать, охваченная отчаянием, повисла без чувств на руках Саши и
Расторгуева. Это было очень страшно.
— Мама! Мама!..
Но не успели
насыпать могилный холм, она совладала с собой:
— Надо бы
укрепить крест, чтобы не свалило.
Только когда
обнесли могилу невысоким частоколом, Мавра Павловна решилась уйти. Она обняла
Сашу:
— Пойдем,
сынок, на карбас. Горевать нам сейчас нельзя... Надо выполнить волю отца.
Нагрянут холода, засыплет берега снегом, ничего нельзя будет сделать...
*
* *
Плывут. Саша
стоит рядом с матерью на носу карбаса. За спиной у него сиденье, выложенное
кошмами. Отец провел там свои последние дни. Только вчера похоронили отца, а
кажется, что давно его нет...
Река разлилась еще шире, течет в плоских,
унылых берегах, чуть выступающих над свинцово-серой водой.
Встречный ветер
совсем улегся, но с утра валит мокрый снег вперемешку с ледяным дождем.
Саша пытается
представить себе: что сейчас велел бы делать отец?
«Что взял бы в
этих болотах Ваня?» — спрашивает себя Черская.
Мать и сын
напряженно вглядываются в еле заметные очертания берега.
Саша просит
гребцов поджать, карбас поближе к левому берегу. Теперь отчетливо видны похожие
на муравейник песчаные бугры, покрытые побуревшим мохом.
Проплывают мимо
длинных барьеров из плавника: много тысяч стволов лиственницы нагромождено по
сторонам реки.
Весной, в
половодье, деревья были вырваны с корнем на верховьях, снесены сюда течением и
выброшены на низкие берега.
Там, где берег
поднят, в откосах светлеют прослойки никогда не тающего льда.
К трем часам
дня на правом берегу показался лиственный лесок. Возле него несколько юрт.
Черская велит пристать.
Мать и сын
бродят по берегу, с трудом вытаскивая ноги из няши — вязкого ила. Кое-где на
взлобках желтеет суглинок. Мавра Павловна решает, что он стоит внимания. Берут
образец.
Дождь не
прекращается. Оба промокли насквозь, но долго обследуют — не найдется ли здесь
окаменелостей, костей, которые необходимо присоединить к собранному материалу.
Хуже всего, если упустишь что-нибудь.
— Мама, найти
бы нам кого из местных жителей, расспросить об их жизни. Папа ведь всегда так
делал. И записывал.
Но в юртах ни
души. Поселок пуст.
Зато к вечеру,
когда пристали к заимке Мыс, встретили рыбачивших здесь колымчан-русских. От
них разузнали о местных охотничьих промыслах. Вписали в путевой журнал:
«На левом
берегу — караулка для оленей. Жители их здесь убивают, когда олени целыми
табунами переплывают через реку с правого берега на левый (с каменной стороны
на тундру). Переправа на тундру оленей — в конце мая».
Отплыли от
заимки. Заметно потеплело. Небо заволокло густыми тучами. Загрохотал гром.
Под проливным
дождем причалили к левому берегу на ночевку. Здесь живут рыбаки-юкагиры.
Саша с помощью
Расторгуева расспросил их. Затем, посоветовавшись с матерью, записал начерно в
своей тетради:
«Название места
— Дуванное. Из построек здесь есть одна поварня и два амбара. Живут здесь два
юкагирских семейства. Занимаются здесь они рыбной ловлей. Весною убивают
оленей. Один из охотников считается очень храбрым, так как на своем веку он
убил несколько медведей.
Медведей здесь
большое количество, но якуты не убивают их, приписывая им что-то
сверхъестественное. Говорят, что если его не шевелить, тогда он ходит у них с
лошадьми и коровами и не трогает их, а в противном случае он мстит: ломает
амбары, съедает юколу, рвет одежду. И действительно, здесь медведи настолько
деликатны и вежливы, что даже старики не помнят случая нападения не только на
человека, но и на скотину».
Много раз
перечитывают, исправляют запись. Стараются, чтобы было все точно.
— Как думаешь,
мама, что сказал бы папа об этом?
— Кажется, мы
хорошо написали...
Мавра Павловна
переписывает начисто в журнал.
Гребцы
приволокли несколько бревен сухого плавника. Расторгуев разводит огонь.
Над пламенем
костра темным пологом нависают тяжелые тучи. Все собрались у огня, ужинают,
пьют чай.
Пока горит костер,
и горе как будто меньше томит, Степан заботливо приготовил постели. Легли
спать. Костер догорает.
И снова
наваливается всей своей тяжестью постигшее их несчастье. И мать и сын долго
ворочаются с боку на бок, пока усталость не приносит спасительного сна...
Третье июля.
Карбас проходит мимо высоких яров. И здесь, словно начинка в пироге, два слоя
льда.
Яры остались
позади. Снова низкий, ровный берег. Мать показывает на желтоватые плеши,
проглядывающие сквозь мох:
— Не забудь,
Саша, приписать: кое-где видны обнажения суглинка. И отметь эту маленькую речку
на левой стороне.
Напрягают все
силы, чтобы довести до конца завещанное им дело.
Еще одна
ночевка в пути.
Четвертого июля
к вечеру за пеленой тумана справа показались Анюйские горы. А в шесть часов
утра следующего дня на левом берегу увидели большое селение. Это был
Нижне-Колымск, конечный путь экспедиции.
* * *
В
Нижне-Колымске мать захворала — силы изменили ей.
Селение было
пусто — почти все его обитатели рыбачили на тонях и заимках. Приезжих приютил у
себя старый казак.
Саша обошел
несколько изб, с трудом раздобыл молока. А Степан на ближней заимке купил
свежей рыбы. Оба ухаживали за больной как умели.
— Мама, в нашей
походной аптечке есть хинин. Может быть, ты примешь?
— Нет, Саша,
мне не нужно хинину.
— А может —
кофеин? Папа говорил...
Мальчик
запнулся.
— Нет, нет, я и
так выздоровею. Не бойся, Сашенька, — выздоровею. Я крепкая!.. Подай мне
ковшик.
Мавра Павловна
отпила воды.
— Мы с тобой,
сынок, уже сделали то, что должны были...
— Теперь, мама,
мы можем поехать домой.
— А где наш дом
теперь? В Питере или в Иркутске, у бабушки? Не знаю.
От этих слов у
мальчика защемило сердце. Захотелось сказать матери горячие слова утешения.
Но она
заговорила сама:
— Нам обоим
теперь надо вспоминать почаще про отца. Пока вспоминаешь, родной человек будто
и не помер... Оттого и мне легче на сердце будет, да и тебе надобно побольше
узнать про его жизнь.
Саша присел
возле матери на край орона, взял ее руку, прижал к своей щеке.
— Отец твой,
Саша, никогда не жаловался, что трудное ему досталось житье. А как ему порой
круто доводилось!
Мать снова потянулась к ковшу с водой — ее
лихорадило.
— Мне сейчас
вспоминается, — продолжала она, —тогда он в Иркутске в Географическом обществе
уже восемь лет проработал. Успел исходить все горы вокруг. Разыскивал разные
редкости, скелеты, кости... Завел себе много помощников в Восточной Сибири. Они
слали ему отовсюду в Иркутск всякие ценные находки. Собрал он в отделе
Географического общества коллекции. Да такие, что слава о них пошла по всей
России. Академики приезжали в Иркутск, дивились да хвалили.
— Про эти
коллекции папа мне никогда не рассказывал...
— Мал ты был,
сынок. А вот теперь подрос — да он уже не расскажет...
Лицо матери
исказилось от горя. Но она подавила волнение, продолжала:
— Тут свалилась
на нас великая беда — сгорел наш Иркутск! Дотла сгорел и дом Географического
общества. Отец в то время был на Байкале, в третьей своей экспедиции. Приехал —
застал одно голое место: все коллекции погибли в огне. Так его это ударило! Все
труды ведь пошли прахом...
— А папа все-таки
потом отправился и в четвертую байкальскую экспедицию? Это когда он добрался до
Верхней Ангары?
— Да, верно,
была и четвертая. Великий был труженик твой отец! А только здоровье его
надорвалось с молодых лет. Да и не берег он себя в работе, не жалел... Вот и
заболел нервами, да как тяжело! Доктор велел ему бросить на время всякую
умственную работу, не то, говорит, совсем ума лишится. Пришлось папе уйти из
Географического общества. Не на что стало нам жить... Да, на счастье, одному
знакомому понадобился приказчик в мелочную лавку. Стал твой отец отвешивать
сахар да отмеривать ситец... Я все боялась — не затосковал бы он и того пуще от
такого занятия. А Ваня мне говорит: всякий труд хорош! И если человек сам
чего-нибудь стоит, он найдет интерес в любом деле... И правда — не прошло и
года, как отец совсем оправился. И снова стал заниматься наукой.
* * *
Обратный путь
от Нижне-Колымска до Петербурга вспоминался Саше как томительная, бесконечно
долгая тряска. У него с матерью было одно желание — чтоб поскорей закончился
этот мучительный переезд, чтобы можно было прийти в себя и отдохнуть.
От
Нижне-Колымска до Средне-Колымска поднимались по реке на веслах, против
течения. Плыли двадцать дней.
В
Средне-Колымске начались сборы к трудному зимнему пути от Колымы к Лене.
Приводили в порядок имущество экспедиции, запасались всем нужным —
продовольствием, одеждой, спальными мешками.
И здесь
Расторгуев был незаменимым помощником.
В конце ноября
по первопутку двинулись из Средне-Колымска на запад.
Несколько нарт,
запряженных собаками, помчали их по заснеженной тайге.
Ночевали где
придется: в избах-«поварнях» или в шалашах из жердей, обтянутых кожами, — чумах, а нередко и под открытым небом. Чтобы
укрыться от холода, зарывали в снег свои меховые спальные мешки, забирались в
них с головой.
Так ехали много
дней.
А однажды
вечером, когда были недалеко от Индигирки, Саша почувствовал сильный озноб и
вскоре впал в забытье.
Он заразился на
одной из стоянок скарлатиной.
Временами,
когда мальчик приходил в себя, взгляд его встречал склоненное над ним лицо
матери. Порой, очнувшись, он видел мчащихся впереди собак, а рядом с его нартой
бежал Степан, придерживаясь за дугу передка.
Однажды его
вырвал из забытья крик матери. Он лежал в снегу, а возле сбилась в кучу собачья
упряжка.
Как-то, открыв
глаза, Саша с удивлением увидел, что впереди бегут не собаки, а большие олени с
ветвистыми рогами...
На половине пути
к Якутску болезнь пошла на убыль. Температура упала. Но на смену лихорадке
пришла большая слабость.
К началу января
1893 года добрались до Якутска. Здесь в тепле, в городском уюте, Саша быстро
стал поправляться. Приглашенный врач удивлялся, как это он выжил, как не погиб
в пути. Но крепкий организм справился с тяжелым испытанием. Помогли
самоотверженный уход матери и дружеская забота Степана.
Через три
недели Черские могли уже выехать по Ленскому тракту в Иркутск.
*
* *
У крыльца —
просторные крытые сани, запряженные тройкой лошадей. Степан устроил в санях
теплое гнездо для Саши и Мавры Павловны, все осмотрел, обо всем позаботился.
Можно и в путь.
Откинув
полость, казак стоит у саней. Его лицо, обычно спокойное, суровое, теперь
взволновано.
Мавра Павловна
крепко пожала ему руку. Потом обняла его и поцеловала:
— Выжили мы,
дорогой друг Степан Тимофеевич, лишь вашими заботами! Век помнить будем.
— Прощайте,
Мавра Павловна! Желаю вам... горе забыть желаю.
Пришел черед
Саши. Горячей волной нахлынули воспоминания о днях, когда были они все вместе,
с отцом... Он кинулся на шею Степану, поцеловал его раз, другой.
Степан крепко
обнял мальчика:
— Ты, Саша,
приезжай к нам еще, когда кончишь свою науку. Тогда мы этого самого мамонта уж
беспременно сыщем! А до тех пор — письмо мне отпиши... Я ведь теперь грамотный!
— Напишу
непременно!
Ямщик гикнул,
дернул вожжи. Сани помчались вниз, к Лене.























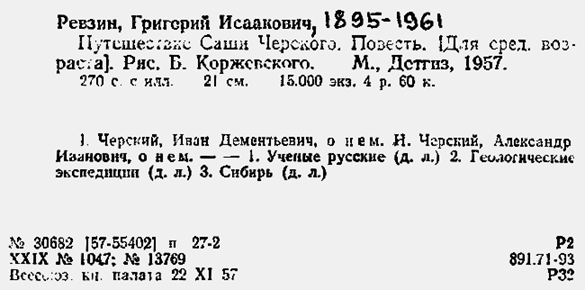



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz