БОЛЬШАЯ СМЕРТЬ.
І.
— Авгара быин?.. Авгара? [* Здоровы ли? Здоровы?..]
Громкий окрик несете я из-за реки, дрожит в ясном летнем воздухе и рвет затишье.
— Авгара?
— Э-ей! Здоровы! здоровы! — звучит многоголосным откликом ответ: — здоровы, сейчас перевезем...
На той стороне одинокий человек. Возле него две собаки. А дальше, за гущей тальника взвился и колеблется густой смоляной дым.
К Петровкам вышли тунгусы...
Спущены в воду берестянки. Быстро мелькают длинные весла. Рассыпаются дождем сверкающие капли воды.
Ожила деревня. Высыпали па берег люди. Руками заслоняют глаза от яркого солнца, глядят туда, где дым, где неподвижно стоить человек и с ним две собаки.
— Авгара?! — Тревожный крик повторяется.
Но вот уже и на той стороне берестянки. И нет больше крика, возгласа, в котором пугливый вопрос...
Так всегда. Когда выходят тунгусы к русским соленьям, когда встречают незнакомого, когда чуют нездоровье, — то спрашивают они: — Здоров ли? — и если нездоровье там, куда они пришли, и если видят огонь больного румянца, или слышать стон, то бегут. Бегут дальше от больного, от места, где тот заболел. Бегут в прохладу тайги и там скрываются.
Потому что неумолимым зловещим призраком встает тогда пред ними вечно пугающая, вечно властная Большая смерть...
— Авгара быин?.. авгара?!.. — Тревожный возглас несется из-за реки.
---
Много лет назад пришла она.
Среди жаркого лета, когда костры дышали сизым дымком и зелень ползла по седине мха, и ярок предо умираньем был хвойный наряд деревьев — вдруг обожгла чем-то лицо и грудь одного.
Был у него чум. Жена. Дети; маленькие дети.
Днем, еще не нужен был покой телу и ноги должны быть крепкими и быстрыми — днем вдруг ослабло и тело и ноги, и потянуло отяжелевшую голову к земле. Так насмерть раненый сохатый медленно, но верно стремится к мшистой груди земли... И яркий день изменился в хмурую ночь, и слился с ней. А на утро следующего дня кто-то — тот же, что и раньше — неведомый, — обессилил и жену. Обессилил потом маленьких детей. И перекинулся к другому стойбищу, смертью опалил других: пошел от жилища к жилищу. От одного края тайги до другого — чрез тундры и речки...
Родил страх, дикий и трепетный страх, вползший в сердца и оживающий и доныне. На веки вечные, навсегда...
— Ма! ма! мат! [* Так тунгусы кличут оленей.]
Брякают торбола, крики мешаются, хохот, ругань.
На Кривой речке дым стелется по берегу. Суетятся люди, сдирая и скатывая в трубки мягкий покров чума.
Ловят тонкими мавтами [* Мавт — аркан.] оленей, седлают их, навьючивают. Готовятся в путь.
Пора. Уж покраснели листья боярышника п рдеет шиповник плодами. Уж забурела зелень — вот-вот пожелтеет. И все уже дала Кривая — все, что можно было добыть в короткое мерцающее лето: серебряных сигов, красных окуней, остроносых, злых щук.
От Кривой речки па полдень еще не проложенный путь лежит. Там, за сизым хребтом, за застывшей бурными волнами тундрой, за извечной рощей сосновой — другая речка залегла. Там снова, до первых холодов, заплескаются сети в прозрачной воде и потянется дым по вечерам, пеленою зыбкой разостлавшись падь гладью извилистой речки... Там зазвучат песни...
— Мат!... ма!.. мат!..
Сходятся — недоверчиво, но сходятся па привычный зов олени. Лоснится шерсть па них: за лето на обильном корму похорошели они.
Сходятся и прядут ушами, и в темно-синих глазах ожидание. Вздрагивают спины, когда узкое седло с вьюком осторожно ложится и давит отдохнувшее тело. И качаются рога — точно тяжело голове прямо и неподвижно держать ветвистый убор... Сходятся в тесный табун. Старые самцы идут на ласковый крик, молодые — полудикие, привыкшие к свободе и радости леса широкого, неохотно крутят головами, изгибая шеи: крепко стянул их кожаный аркан.
Навьючивают оленей женщины. Их это дело: собрать и разобрать чум, в тюки и патакуй [* Патакуй — обшитый кожей берестяный ящик.] стянуть домашность всякую; в патакуй же увьючить детей маленьких, плачущих, промышленников будущих. А мужчины у горящих еще костров молчаливые, с трубками сидят. Только изредка покрикивают. И из дремоты неизменной на миг в крике, в возгласе коротком вырвутся, чтобы снова, тотчас же отдаться ей.
И когда все олени навьючены, весь скарб собран, и стоять готовые в путь чуткие животные, —- подымаются мужики-тунгусы, выколачивают полупотухшие трубки, прячут их и делают последнее дело. Последнее пред уходом с летнего стойбища.
Рядом с навьюченными оленями стоять свободные и от вьюков, и от седел. И среди них — молочно-белый, сытый красавец. Как снег среди черной тундры зимою. Он пойдет впереди всех; никто не сядет на него, никакой ноши не возложат па гладкую, как ствол молодой березы, спину. Кроме одной ноши.
Маленькое седло укрепите на нем Мультурца — старший в семье, — такое маленькое, что и двухгодовалому дитяти не усесться на него. И со строгим лицом медленно привяжет тунгус к седлу этому маленького деревянного бога — Оксари. Привяжет и поведет впереди всех. С острой пальмой [* Пальма — род копья.] в одной руке, с поводом мягким в другой.
И пальмой будет просекать путь богу своему, оленям своим, своей семье и дому.
А дальше, за боговым белым, как снег гор или свежее молоко, оленем, пойдут другие, тоже не обовьюченные. И на них мысль Мультурцы из года в год, от нульги до нульги [* Нульга — переход от стоянки до стоянки.] возлагает и возложит теперь неизменных спутников человека: заботы повезет невидимо для других па себе один олень. Радость притаится па спине другого, здоровье — у третьего, удача — у четвертого... И так вес дальше и дальше, все более — чем больше оленей у тунгуса, чем он богаче.
И стройно качаясь в медленном сперва ходе, понесут олени впереди — бога, поток извечных друзей и недругов человека, а потом уже его жалкий скарб, обвеянную ветром и дымом семью...
II.
У Мультурцы сын взрослый, промышленник полный, Шебкауль, — и есть еще подросток, несмышленыш, как лоншак — олень годовалый, Миндыуль. И, кроме жены Чемок, есть женщина в семье его Танчеук, которой минуло пятнадцать зим.
Зимою, когда Мультурца с Шебкаулем идут за пушистой белкой, кружась по непонятной и изменчивой тайге, Чемок и Танчеук прорезывают следы их прямых путем и раньше их в назначенном месте разбивают чум, раскладывают огонь, готовить горячую еду, чтобы озябшие и усталые охотники сразу нашли на ночевке и теплый кров п спокойный отдых. И когда крепкий сон уложить недвижно обоих тунгусов — женщины тихо, но быстро и неутомимо обдерут шкурки с набитых за день зверьков пушных, пересмотрят обувь и платье охотников. И у жарко, но сумрачно тлеющих угольев костра починят их тонкою серебристою жилкою. И хоть будут плохо гнуться ознобленные пальцы и будет клонить голову ко сну — но не лягут на недолгий отдых обе. И Челок и Танчеук, — не лягут, пока не сложат возле спящих мужчин сухую, целую, починенную одежду, пока нс увяжут в поняшки заспинные запасы им на промысловый день.
И изо дня в день так нульгичить принято. Так от дедов пошло — чтоб женщины безропотно тихую, незаметную, но нужную работу делали.
Но часто, ночью, Танчеук, стягивая прорез на унтах или зашивая продранный застывшими сучками санаяк [* Унты — обувь из оленьих шкур; санаяк — роль короткой дохи.], складывала па коленях работу и ворчливо, тихо, чтобы не разбудить мужиков, жаловалась матери:
— Почему ружья не дают?.. пальмы?.. я в лес пойду — я добивать стану... почему ночью спать нельзя?.. Шить, все шить... Разве женщина не может из ружья стрелять? — или на лыжах бегать? — или пальму в руках держать?..
И тоже тихо поясняла Чемок дочери, что так нужно, чтобы женщины шили и чинили обувь и платье мужчинам, которые стреляют, которые ходят от смутной зимней зари — до сумерек, весь день, по лесу. И только редко — говорила еще она — когда у женщины беспощадные харги [* Черти.] отберут ее мужа и останется она одна в чуму, — то берет женщина все оружие умершего, идет в лес — и промышляет...
Глаза у Танчеук загорались после такого ответа матери. Губы плотно сжимались, и молча уже шила она у огня...
Но в яркое лето было раздолье женщинам. Летом все вместе. У одного костра — и днем и ночью — мужчины и женщины. И не надо застывшими, окровавленными от мороза руками ставить чум среди безмолвной тайга; и не надо, слушать суровые вздохи ее...
Возятся с сетями у речки Мультурца или Шебкаль, делает что-нибудь возле чума Чемок и с нею Миндыуль: ползает вокруг, смеется или визгливо плачет. А Танчеук возьмет братово или отцовское ружье кремневое, перекинет через плечо натруску, бисером вышитую — и пойдет по озеркам задумчивым уток скрадывать.
Будет осторожно, как собака, выслеживать их сквозь тальник и поражать меткими выстрелами. Принесет к чуму набитой вдоволь птицы; бросит и, в ожиданье ужина, раскрасневшаяся от сладкой усталости, протянется на траве, закинет руки за голову и будет дремать, улыбаться во сне, бормотать что-то. И когда разбудится — долго, с недоумевающей улыбкой, оглянется вокруг.
Или — убьет одну-две утки, найдет полянку — пролесок в густом сосняке, сядет в густую траву и ощиплет мелкие цветочки, ссыпая их в колени. И вдруг задумается: забудет ружье, брошенное рядом, в траву, забудет цветы вокруг — цветы дальние, меж золотистыми стволами, как огоньки разноцветные, сверкающие. Задумается. Может быть вспоминает что-то далекое-далекое. Может быть, оживают перед ней рассказы матери или стариков, рассказы дальнего детства про всемогущую Птицу Магу, Орокту — странника, с великанами боровшегося, про Селентура-Богатыря, в соллилон [* Соллилон — панцирь.] закованного, про многое непонятное и страшное.
Но к концу лета всю голову перышками курчавыми уберет Тапчеук: от каждой птицы убитой по пучку. И братишке целую вязку твердых носков утиных навяжет для забавы. Все от своей добычи.
Потому что летом раздолье и женщинам.
III.
Вот и на новое место пришли. Мало чем от Кривой речки эта новая отличается. Но в ней еще много рыбы плещется. И — кругом нетронутый корм для оленей.
Развьючили животных. С белаго оленя сняли деревянного божка, с других невидимая ноша сама сошла, сама вселилась промеж кольев для нового чума.
Развесили по свеженарубленным и воткнутым в песок берега сохам тонкие волосяные сети... Закурился дымок над чумом, — замелькали ветви рогов меж ветвями деревьев. Все — как всюду.
Как от века.
Утомленные вечером, полегли все в чуму вокруг багряно-залитых угольев камелька. Забылись сном здоровым, полным лесных сновидений, полным гула и звуков таежных...
Утром, вместе с зарею поднялась вся семья. Только Миндыуль что-то заспался. Раскинулся на вытертой ираксе [* Иракса — постель оленья.]. Дышит часто и хрипло.
Разошлись от жилья люди: кто в речку маленькую берестянку спускает и нежные, как дым, сети готовится метать, кто около оленей что-то возится. Заглянула в чум Чемок. Скользнула безмятежно взглядом по мальчику. И дрогнуло вдруг сердце материнское. Опустилась над Миндыулем, к личику наклонялась: жаром опалило ее. Весь горел огнем недужным ребенок, весь покраснел.
Созвала всех мать. С недоумевающей тревогой показывает сына, схватила его на руки: раскрыл глаза. Мутные они — не видят людей, не видят матери...
— Харги!.. — ужасом объяло Челок: — Духи злые! — тоскливо крикнула она.
Покрутил головой Мультурца.
— Какие харги?! — заспался парень... Жаром тайга разогрела... Вот и все.
И снова ушли все, кроме матери, которая крепко-крепко прижала к груди охваченное недугом тельце...
Неподвижно в небе сверкало солнце. Обесцветило оно густую к вечеру или на заре зелень осоки, багрянец и золото вкрапило в листья багульника, в стволы и верхушки сосен. Зажгло круглые маленькие озерца зеркальным блеском.
Не дышали ветры над хребтами и перекатами, не шумели ветви, не гнулась задумчивая, изнывающая в жаркой неге трава.
Изнывающая в сладостной неге, задумчивая в легких мечтах — тихо-тихо перебиралась от озера к озеру Танчеук, выслеживая дичь. К детской еще груди прижимала узкий приклад тяжелого ружья и, вся замерев в ожидании — стреляла глухим, незвучным выстрелом.
С утра уходила до вечера короткого, летнего. Забывала семью, чум. Миндыуля больного забывала. И только в мигающие сумерки вечера, утомленная, усевшись возле входа в жилище, охватив маленькими руками колени, чувствовала она и мать, замкнувшуюся в бессловесной тоске, и стонущего брата, и деловито спокойных мужчин.
На четвертый день болезни Миндыуля с обильной добычей пришла к чуму девушка, и услыхала воющий плачь матери. И возле двери недвижно лежащего малютку увидела. А дальше, в стороне — все собаки застыли; чутко ушами двигают и нюхают воздух, и тихо взвизгивают...
Только встало утро — пошли с топорами недалеко к сгрудившимся возле чума деревьям Мультурца и Шебкауль. Меж двух лиственей, выше роста человеческого, намостили узкий помост из крепких бревен. На помост, одетого в долгий, невозвратный путь, положили потом, под вой матери и тихий испуганный плач Танчеук, умершего. А возле помоста котелок повесили, лыжи маленькие, мавт старый да ружье: чтобы там, куда Оксари уведет малютку, мог маленький охотник промысел, от дедов завещанный, продолжать...
Похоронили. Стали со стойбища сниматься: там, где духи смерть молчаливую прислали, не место живому жилью. И уже совсем было оленей недовольных с корма тучного прогнали, как вдруг слег Шебкауль.
Застонал бойе [* Бойе — парень.], от ужаса глаза широко раскрыл.
Встревожился Мультурца, отошел от оленей, оглядел сына.
— Шебкауль! — просяще заговорил отец: — не склоняйся на землю... Перебори злую... как мужчина... как бойе сильный — не отдавайся ей!...
Но молчал парень. И мутнели глаза его.
— Угони от себя болезнь! — молил Мультурца, — гони... Уйдет лето — пойдем к шаману сильному... Шаманством все сделаем. Гони, гони ее, бойе!..
Кидаясь в предсмертном огне, стонал Шебкауль и не слушал отца...
Рядом с мужем встала Чемок. Сложила руки, ломает их в страхе, в тоске.
— Гони... Ах, гони, сынок!.. — к просьбе мужа слабый стон свой присоединяет она: — оленей лучших шаману зарежем... Шаманство сильное, шаманство большое сделаем... Ах, подымись с травы!..
Не слушал Шебкуаль. Посинели губы его и глаза, как смородины недозрелые, не налившиеся, стали.. И собаки сидели в стороне, насторожив уши, вытянув морды — так же, как раньше, когда умирал Миндыуль.
А Танчеук, беспечная и пьяная от леса и гула выстрелов и предсмертного трепетания дичи, ходила меж озерами, и яркий румянец горел на ее щеках и черные косы упрямо рассыпались из-под кожаной, бисером шитой, повязки.
В сумерки, усталая, как обычно, пришла к жилищу, в котором уже снова дух смерти витал, в котором холодел холодом вечности Шебкауль...
И не ушли в этот день со стойбища на другое место: утром, рядом с могилой Миндыуля новая выросла. Не ушли ни в этот, ни в следующие дни.
И слегли в том же огненном недуге сразу и Чемок и Мультурца.
Зажглись болезнью и быстро горели. Так все, как Миндыуль, как Шебкауль...
Затихшая, уже не бродящая с ружьем далеко от чума, Танчеук села на корточки против больных и округлевшими глазами неотрывно глядела на меняющиеся лица их.
И видя пред собой беспомощных и безмолвных стариков, она мгновеньями вдруг холодела в неиспытайном страхе и звенящим голосом взывала к ним. Напрасно взывала к не слышащим:
— Ой! старики, старики... Ой, говорите... Встаньте, встаньте!.. Ой! Танчеук Неведомого боится... Ой!..
И заливалась слезами, быстро сохнувшими на горячем лице.
И много раз так взывала она. Каждый раз безуспешно...
Ушел день. Заколыхались прохладные вздохи ночи. Из долин, из ущелий, от болот и озер пришли они. Засветилось изнутри молочным сиянием небо. Потемнела зелень травы, мерцая странными — без солнца, цветами. Ушел день — ушла и жизнь.
IV.
И Чемок, н Мультурца, мучительно протрепетав в предсмертной тревоге, вытянулись, замолкли. Умерли.
Лежали оба возле чума, откуда истомленные страданьями недуга выползали они. И нелепый, расплывчатый свет озарял их сразу похудевшие, застывшие лица.
Темные тени стлались по бесцветной траве. Чудилось, что медленно, но зловеще ползут они — все дальше, все шире.
Охваченная великою жутью, Танчеук отбежала от чума и прижалась к старой, тихой сосне. Глаза девушки впивались в неподвижных — там у чума. Руки, вонзившись в шероховатую, рассыпчатую кору дерева, вздрагивали. Она стояла, вся замерев — боясь шелохнуться: там, где раньше вился дымок — признак жизни и живого жилья, — было неподвижно все, затихло все... Там, где звучали слова привычные, вскрики летали внезапные, — было пугающее, гнетущее молчание.
Без движений, без звуков стояла Танчеук. Гасли в маленькой груди рыдания, подступали к устам: так хотелось, так нужно было отчаянным, безостановочным воем и плачем лес огласить, но страшно было звуками встревожить притаившуюся тишину...
И когда устали ноги — опустилась девушка у подножья дерева, склонила голову на руки, сжалась вся в комок. Вздрагивали плечи ее, вздрагивала голова, но крепче, но ниже прижималась она грудью, лицом к коленям: чтобы не слышать, не видеть ничего вокруг.
И так заснула...
И видела во сне радужные виденья. Видела поляны без меры в длину и ширину, укрытые ярко-зеленой травой, затканные яркими-яркими цветами. Видела солнце веселое, светлое, людей шумливых, смеющихся; дымящиеся огни, детей вокруг них. И слышала песни громкие, звучные, и среди них неистовый, непрерывный и властный зов нимганги — бубна шаманского и песню его грозную, пугающую — пугающую даже под ярким, ликующим солнцем... И вдруг — и детей беспечных у костров, и людей поющих — увидела, кружащимися в пляске дикой, в хороводе быстром. Таком быстром, что голова кружилась глядеть на него и было жутко... А вместе с быстрой пляской гудел и негодовал, вздрагивая визгом и звоном, бубен: все быстрее и быстрее... Хрипя, задыхаясь, воя...
Качнувшись, вздрогнула Танчеук, открыла глаза: белела неясным сиянием летняя ночь, чернели тени и чум неподвижный без дыму над верхом, и двое, раскинувшись по земле, лицами застывшими к небу обращены, смотрят темнеющими глазами.
Еще звучали в ее ушах дикие звуки бубна, еще не встряхнулась от сна она, но вдруг выпрямилась, заломила руки, потом прянула ими вперед — вдруг, пронзительно, в трепетном, болезненном страхе крикнула:
— А-а!..
И загудело меж стволами, затрепетало по поднебесью молочно-белому... И ударялось где-то о далекий хребет и эхом откатилось назад: меж стволами, по поднебесью...
Крикнула Танчеук, и крика своего, разбудившего ночь, сильнее всего ужаса окружающего испугалась, — и отв. вновь рожденного страха снова крикнула. И кричала протяжно и беспрерывно, без слов, надрываясь, громко-громко.
— А-а... А-а!.. А-а-а!..
Потом, не прерывая крика, сорвалась с места и, спотыкаясь и не видя пути, побежала. Ветви хвойные били по липу ее, и кустарники хлестали по ногам, по груди. Заслоняли трупы давно умерших деревьев дорогу ее. Но не ведая преград, продиралась она с непрерывным — то хриплым, то звонким и чистым, как песня, криком, вперед...
Гудело и перекликалось в лесу. Шумело среди ветвей, стонало вокруг стволов...
И упала изнеможенная Танчеук. Вытянув руки вперед, упала она, и глядела куда-то остановившимся, немигающим взглядом.
С трудом уж вылетал из уст ее хриплый стон, надорванный и слабый, и затих. И вот заскулила она, как собака непривычная пред амакой [* Амакой-стариком тунгусы называют медведя.]: заскулила жалобно, и дрожали губы ее, и впивались пальцы рук в траву.
Потом замолкла...
V.
Забегали по верхушкам леса чуть приметные лучи предрассветные. Чернее и гуще прижались и забегали по земле тени. Потянуло свежестью... Вдруг свистнула где-то птица. Вдруг треснула ветка какая-то. И заколыхались деревца молодые. И в подмогу той, первой птице — отозвались другие: запели еще робко, но уж не замолкнуть, как ночью.
Разрослись, окрепли лучи предрассветные, сползли широким, ярким поясом ниже — по стволам заиграли, по кустарникам заискрились... Утро пошло поступью важною, — утро, в золото наряженное, сошло многозвучное, многоцветное...
Утро пришло.
Во второй раз очнулась из забытья Танчеук. Но было оно темное, как бездна, и потому не сразу поняла, не сразу почувствовала девушка — где она, что с ней. Увидела тайгу глухую, но не нашла чума на месте привычном; не нашла речки маленькой. И вспомнила. Поднялась усталая, тоскующая, со страхом в глазах. Нужно идти, но не знает, куда идти. Нужно к чуму вернуться: там ружья, там олени, собаки... Там те.
Оглянулась вокруг. Увидела — расступились в одном месте деревья, маленькая прогалинка недалеко ушла.
И пошла Танчеук туда, где деревья недальний простор открыли перед ней.
Пошла. А мысли — такие простые, такие неотвязчивые, ожили в ней. Точно не было страха, ночи тревожной не было, смерть властно, близко не проходила, — и нужно только одно: дорогу к чуму найти, дорогу к жилью.
Шла, осторожно пробираясь по чаще. Сначала легкая, сильная. Но вдруг кто-то ожег голову и медленно стал чем-то тяжелым наливать ноги. И все трудней, с каждым шагом все трудней стало их передвигать. Приостановилась Танчеук: сразу усталость тупая на все тело накинулась. Подкосились ноги. Села на ствол, мохом обросший. Вздохнула тяжело. И неожиданно поднялись кругом на воздух деревья ветвистые, вековечные — закружились, заплясали... Склонилась головою, поползла к земле девушка, — беспомощная легла, беззвучная...
... Увидала Танчеук: стадо сохатых по мари идете. Впереди самка большая, а за ней два лоншака. А дальше еще самка и еще лоншаки. Все ближе, ближе они, идут на нее, большие; и идут бесшумно. Вот-вот раздавят... И совсем близко исчезли все, а вместо них, люди — много людей, и тоже идут безумно, и тоже возле нее исчезают...
И увидела: снег вокруг, слепящий глаза, лежит. А она сама на лыжах по снегу этому быстро скользить, на посох слегка упираясь... Тундра необозримая вокруг, и там — далеко-далеко впереди, кто-то темный движется, кто-то красный. И к нему летит быстро Танчеук, так быстро, что разгорается тело ее, и жарко ей, — а она все бежит вперед. Уже горит тело все, нестерпимо горит, но все не может она достигнуть того — черного, красного...
И вдруг еще увидела — внезапно Танчеук: сгинула пустыня снежная. Вместо нее, тайга черная, — тайгу черную мгновенно пламенем охватило: запылали деревья, зашипела рать огненная, задрожали полосы, тучи дымные, — и все подступают — и огонь, и дым черный-черный, все подступают к ней, палят ее, жгут ее... Ах, как нестерпимо жгут, жгут!..
Крикнула дико, разметавшись на земле. Слабый — замер крик меж высокими лиственями, меж прямыми кедрами, меж черными елями...
Только раз помутившиеся глаза девушка, на миг обрели силу видеть, и успела она увидеть, как невдалеке меж деревьями быстро пробежал белый олень, а за ним другой и еще — бурые, серые, черные... Только на миг. И на мгновенье же просветлело сознание ее — и поняла и почувствовала она, что это их олени, ее семьи — бегут от обезлюдевшего стойбища, бегут в тайгу, где будут свободны, беспечны, дики... И еще успела Танчеук услышать где-то близко громкий лай.
А потом все исчезло...
VI.
Ходят по лесу вольные олени. Ходят беспечные: некому тяжелую ношу на них навьючить. И белый, как снег, как молоко свежее — тоже без ноши. Идут они все по тайге, проходят по марям, мимо зарослей вереска, мимо стен багульника, сладко пахнущего, — идут туда, где людей нет, мавтов мягких и крепких нет, седел узких, тяжелых.
Дальше с каждым шагом неслышным, от чума уходят они. От чума, где недвижные собаки воют, где — мертвецы. От чума, над которым уже вьются черные, неуклюжие вороны и рассыпают зловещие звуки: кар-р... кар-р!..
А с оленями невидимая идет Большая смерть. Притаилась на гладких спинах их, меж ветвистыми рогами залегла — в больших зрачках затрепетала.
И незримая, хранящаяся, тянется она в ту сторону, где жилье живое, где дымок сизый, где голоса и песни.
... От стойбища к стойбищу пришла, повалила всех, сожгла недугом, разогнала других оленей по лесу. И воем осиротелых собак наполнила тайгу. Долгим стонущим, предсмертным воем...
— Авгара быин?
Полный тревоги крик несется: спрашивает пришедший, здоровы ли, не пробралась ли гостьей нежданной Большая смерть, не притаилась ли она, незримая, властная, лукавая.
— Авгара?..
И затаенным стоном по тем, кто сгорел от нее в бескрайней тайге, исполнен возглас этот.
И будет всегда так звучать он, будет звенеть отзвуком стона и тоски, всегда — даже и тогда, когда с веселой улыбкой на устах, даже — когда беспечно люди кинуть его встречным людям.
Потому что Большая смерть обжигает навеки...
В БЕЗДЕЛЬНОЕ ЛЕТО.
I.
Овидирь, у которого было больше тридцати оленей, два ружья — одно кремневое и одно пистонное-турка, жена старуха и сын женатый, летовал каждый год на речке Чимчиканихе.
Твердый был старик и нарочно выбирал далекое место, чтобы к русским деревням нелегко было пройти и русское хлебосольство не тянуло бы в лето бездельное.
Тверд, тверд, но и у него было время, когда пригонял он оленей к самым поскотинам деревенским и ночью, лежа в чуму, слышал близкие крики и песни молодежи крестьянской, игры справлявшей под светлым небом белых коротких ночей.
Случилось тогда с ним такое, что надолго отбило охоту бегать по деревням, сидеть в избах крестьянских, курить молча и ждать угощения.
Ковдельги, сынишка, был еще подросток и не ходил один промышлять по лесу, да и ружье у него было плохонькое, самодельное.
Пришел в ту пору однажды Овидирь в деревню и попала па гулянку. Откуда-то приехал, издалека, сын крестьянский, а родители радость водкой заливали да пирогами угощали.
Угощали всех, попало и Овидирю. Стала выходить водка у хозяев, — начали гости в кошели лезть: кто за бутылкой, а кто и за целым штофом пошлеть.
Дошла очередь до Овидиря, — а у него ни денег, ни промысла никакого нет. Кинулся к одному другу, к другому. Как же! стыдно ему не угостить друзей.
Нашелся добрый человек.
— Давай, — говорить, — я тебе водки одолжу. Только ты гони мне оленя-лоншака. Парнишку крестить нужно, — мяса нет.
У Овидиря тогда не столько оленей было, махнул рукой:
— Ладно!..
Выпили водку, на оленя выменянную, хвалят мужики тунгуса:
— Ну, и друг... Вот это друг!.. угощает!..
Взыграло сердце у Овидиря:
— Еще поставлю!..
Еще один благодетель выискался:
— Гони оленя... Малость водки осталось у меня про запас... Уступлю другу.
— Как не уступить...
Так Овидирь оленей восемь и проугощал.
Да олени — это еще бы ничего! Оленей тогда много у тунгусов водилось...
И не вспомнил после Овидирь, как пообещал кому-то из друзей деревенских полпромысла осеннего, что до Николы наберется. То ли ведро, то ли полведра водки занял у того, да и пообещал: что добудет в осень, половину за водку отдаст, а другую половину за деньги. Ему же, а не другому.
Голова болела после гулянки этой дня четыре. Хорошо погулял! Баба ругалась. Курила, плевала да ругалась, что ее не позвал водку свою же пить. За оленей ругалась, что мужикам раздарил.
— Лучших лоншаков увели!
Олени — это еще с полгоря...
Пришла пора промысловая. Парнишка Ковдельги хнычет:
— Добудем хорошо, пойди к купцам, — ружье мне возьми...
Обещал парнишке.
А потом и вышло.
Промысел собрался такой, что раньше и не было. Ковдельги шутя помет раскидал по речке, а на его фарт лисица черная-пречерная объелась... Радости у парня было!
— Вот и ружье себе заработал!.. Вот и промышлять теперь по-настоящему буду!..
Вышел тогда Овидирь в деревню с промыслом.
Встретил его должник.
— Ага, — говорить, — вот и посчитаемся, друг... Хорошо, сказываешь, добыл! Это ладно!..
Давай считаться, — и вышло, что не только ружья парню купить не удалось, а и чаю-то и всего остального пришлось в долг до будущего промысла добирать.
Сильно рассердился тогда на себя Овидирь.
И мальчишка плачет, и баба ругается. Откуда и ругани в ней столько скопилось.
С той норы решил: летовать близ русских деревень ни за что не станет.
II.
Речка Чимчиканиха круто падала с высокого хребта, вилась по узкому и глухому распадку, то разливаясь уловом широким, то в ручеек невидный, поросший осокой и тальником с берегов прикрытый, обращаясь.
По распадку в обе стороны уходили падали и уводили они их к озерам задумчивым и тихим, то к тундрам с сизым курящимся в летний день далеким маревом.
Вечерами и от озер и от тундр сползали в распадок на Чикчиканиху прозрачные космы тумана п простирались над кустарниками, сливаясь с легким дымком жилья.
На утренних и вечерних зорях летали через речку, переговариваясь глухим кряканьем или отрывистыми криками, свиязи и чирки, чернохвостки и лутки, лебеди и гуси.
А днем, в сумрачный зной раскаленного воздуха, стояла тишина. И ярко-красным шаром, затянутым бурою дымкою, смотрело сверху солнце. Неподвижное, палящее солнце.
Олени уходили в зной далеко по распадкам, и бродили возле озер или лежали в тальниках, шумно и медленно вздыхая.
Собаки забивались в чумы, свертывались пушистыми комками и, высунув длинные ярко-розовые языки, взвизгивали от жары. Вытягивали шеи, врывались чуткими мордами в притоптанную землю пола и, отдуваясь, фыркали.
И у оленей, и у собак была пора отдыха.
Пред грядущим промыслом с длинными нульгами в стужу по заметенным снегом, чуть приметным тропам или вовсе по бездорожью отъедались они, холили тело гладкое, нежили тонкие, нервные ноги.
Пред промыслом кровавым, пред бегом быстролетным, неостановочным неустанным лежали собаки.
И, может быть, сквозь дремоту красную видели сохатого, мелькающего в марнике, чуяли теплый след его... Внезапно открывали глаза, вытягивали головы и быстро вскакивали на передние ноги...
Люди тоже, лениво развалившись, дремали под скатом пологих стен чума и неизменно дымили трубками.
Разговаривали мало. Вяло и нехотя роняли короткие слова и от безделья, не находя другой работы, поочередно ходили к речке с черными котелками, грели воду и, потея, пили горький, крепкий чай.
Но когда спадал жар и косые тени ложились на поляну пред чумом от деревьев, от огневища, Овидирь оживал. Выходил из чума, тер поясницу и кричал своим, чтобы шли ужин готовить.
Ковдельги снимал со спинки ружье и натруску, зачем-то оглядывал их и, подержав в руках, кликал к себе жену и ее посылал на озеро набить к ужину дичи.
А молодая Чургалак прятала потухшую трубку и отмахивалась руками: отказывалась брести меж озер, скрадывать уток, стрелять их.
Но вмешивалась старуха, громко бранилась, кричала, что у нее невестка лентяйка, пострелять боится. И Чургалак уходила. И скоро после ее ухода ухали короткие выстрелы, над чумом, шурша крыльями и крякая, испуганно летали птицы.
Так каждый вечер.
Поглядывая на обленившегося Ковдельги, думал Овидирь: почему это мальчишкой будучи, он так рвался к ружью, покою не давал: купи ружье, да купи, — а теперь только в промысел и берет его, а нет, чтобы походить по речке, поискать, нет ли где отдыхающего, истомленного жарой сохатого. Мясо было бы, сохатину припасли бы за покруту.
После ужина ложился старик на живот, курил долгими затяжками трубку и вслух мечтал.
Мечтал об осени, когда можно будет уйти от Чимчиканихи к русским деревням, побывать у друзей и угощаться водкой.
Старуха-мать сплевывала слюну и шумно вздыхала.
А Чургалак, съежившись под скаток чума и обхватив колени руками, угрюмо и устало глядела вперед себя и ничего но видела.
Иногда перед сном Овидирь выходил из чума и дребезжащим голосом затягивал песню. За ним выползала сначала старуха, а потом и молодая женщина. Там, под светлеющей синью неба, усаживались все трое и сплетали голоса свои в журчащие однообразные звуки. И долго пели.
Ковдельги же крепко спал в чуму...
Из распадка выползала сырость, и ветерки предутренние начинали колыхать воздух. И проснувшаяся раньше времени, разбуженная неожиданной песней, робко свистела невидимая птичка. Тогда подымался Овидирь, обрывал песню и уходил в чум. Следом за ним уходили и обе женщины.
III.
Лениво и бездельно текла жизнь на Чимчиканихе.
Водилась в речке кой-какая рыба, но ее ловила семья Овидиря мало: ровно столько, сколько для себя нужно было. Для промысла слишком далек был путь к русским деревням. Да больше на ружье надеялся старик. Славился он своим промыслом, и не зачем ему было летом плескаться в воде, метать сети, ставить морды и городить заездки.
Поэтому для него томительно было лето.
Ждал он осени с нетерпением. Поглядывал на небо, на траву, па речку. Высчитывал, сколько долгих дней и бессонных от безделья ночей пройдет еще пред тем, как зажелтится острец по краю берега, багрово зардеют плоды шиповника и закружатся мелкие листочки багульника. Высчитывал, долго ли до того времени, когда серой сетью потянутся по небу сплошные тучи, и, прорезая их, длинные вереницы перелетной птицы полетят куда-то с Тунгуски коротать хмурую зиму.
Но сочная зелень кудрявилась вокруг, пестрели цветы, а гуси и утки еще не вывели птенцов, и самки их сидели невидимо в густой траве на яйцах, опасливо покрякивая...
Кругом не было дорог летних. По Чимчиканихе можно было подняться вверх, дойти до хребта елового, перевалить его и. пройдя па запад, увидеть затерявшуюся в перевалах, в навалоках и меж хребтов Тунгуску.
А если пойти вниз по речке, то извилистое точение ее доведет до краев чужих, где живут люди иные: экольдо-якуты.
И будут там реки новые: Вилюй холодный, а в стороне, слышно было от бывалых, — совсем чужая река, текущая в необъятное озеро, по которому даже летом плавают громадные льдины величиною с хороший остров.
Нельзя было ждать кого-нибудь в летнюю нору на Чимчиканиху.
Но вот однажды утром спокойные до того собаки сорвались с места, с громким заливчатым лаем кинулись вперед.
Высыпали все из чума. Озабоченно глядят в ту сторону, куда собаки побежали. Слушают. И вот слышат, что к лаю знакомому примешались голоса чужих собак. И увидели: затемнели в прибрежных тальниках люди, и по реке тяжело плывет чей-то нагруженный плот.
— Ой, Овидирь, здорово!.. здоров ли?..
Узнал Овидирь знакомого, крякнул бабам, чтобы чай готовили, и те забегали, засуетились с закопченными котелками.
Врезался в берег против чума плоть. Вышли люди, — еще трое, кроме знакомого Шебкауля с Горнаковой речки.
Стали таскать тюки и ящики какие-то с плота на берег. И, таскал вместе с другими, Овидирь и Ковдельги зорко приглядывались к поклаже приезжих и искали заветный бочонок.
Но не было бочонка. Все какая-то поклажа, в полотнища завязанная. Твердая, крепкая поклажа.
И думает Овидирь: нет водки. Какие такие люди: купцы — не купцы. Купцам вовсе и не время к инородцам за промыслом выходить... Другие люди. А водки нет...
Таскает с плота на берег поклажу, озабоченно трудится Ковдельги, — откуда и охота взялась. Берет тючок за тючком, щупает их глазами, руками. Унося последний с плота, проходил мимо Овидиря, бросил поклажу на траву и разочарованно кинул:
— Нет водки!..
Позже только, когда уселись вокруг огня и стали угощать приезжих, один из них, постарше, с рыжей бородой и светлыми глазами, принес из большого тюка темную и пузатую бутылку, отвинтил от нее блестящий стаканчик и, булькая жидкостью, стал наполнять его вкусно пахнувшим напитком.
Овидирь первый отведал угощенье. Степенно поднес он к губам холодный край стакана, поклонился гостям, с приездом поздравил их и медленно, медленно, чтоб ни единой капли не пропало, выпил обжегший его радостным, желанным жаром спирт.
Ковдельги выпил быстро и жадно. И жадными глазами уставился на поблескивавшую темную флягу.
Поели приезжие, стали укладываться па отдых, потому что уже садилось солнце и удлинялись тени на зелени травы.
Шебкауль отвел в сторону Овидиря, закурил трубку, выждал, пока раскурится она у старика, и стал рассказывать.
Пришли на Горнакову речку с Тогурцей... Говорят: веди до Овидиря!.. Идут так, зря. Что-то меряют, траву рвут, цветы. В стекла смотрят в какие-то... Водка есть у них, только промыслу не берут. Подарки делают... Веселые... Веди на Лисий хребет. Там курейские нынче стойбищем стоять... Веди!.. И к тебе привел, ты веди к курейским, Овидирь!
Овидирь выслушал Шебкауля, губами пожевал, переспросил:
— Подарки, говоришь, делают?
— Да, да! Муки дадут, табаку. Маленько товару бабам... дадут!..
— Водкой, говоришь, поят?
— Мало-мало... В полдень — малость, в ужин — чашку... Тогурца до Горнаковой речки довела, бутылок пять, а то и больше дали, я к тебе, на Чимчиканиху привел, тоже домой увезу водку... Ты на Лисий хребет поведешь, обернешься к стойбищу с гостинцем.
— Ага!..
Овидирь выколотил трубку, хлопнул Шебкауля по плечу и засмеялся.
— Поведешь? — спросил Шебкауль.
— Бабам нужно сказать... Чтоб за оленями доглядели...
Вернулись к огневищу. Утомленные приезжие крепко спали, раскинувшись под светлым небом. Бабы сидели у входа в чум и тихо разговаривали.
Ковдельги кружился вокруг тюков и тороков, выгруженных на берег, щупал веревки, гладил брезенты, похлопывал по углам ящиков.
IV.
Заспались приезжие. Утром соскочили с постелей бодрые, смеющиеся.
Пока хлопотал один из них с завтраком, другие двое какие-то палки полосатые из тюков повытаскивали, треножник желтый и на нем что-то блестящее, круглое. Стали один против другого поодаль, что-то делали.
Тунгусы столпились возле них, разглядывали, любовались блестящей штукой.
Кончили непонятную работу, — старший, с рыжей бородой, в книжечку записал немногое.
А потом пошли завтрак горячий есть.
За завтраком сговорились с Овидирем, чтоб вел на Лисий хребет. А сговорившись, всем по стаканчику водки подали.
Развеселившийся от вина Овидирь давай разговаривать с гостями. Плохо по-русски говорил, все же понять его можно.
Штука блестящая понравилась ему, а непонятная. Что такое? Что значить?
Старший, что с рыжей бородой, велел принести штуку эту. Отвинтил ее от тренога, показывает.
Видит Овидирь и другие, и вместе с другими и Ковдельги: по круглому полю с черточками по краям бегает длинная палочка. Штуку блестящую и в ту и в другую стороны повернешь, а палочка все в одну сторону смотрит, все туда, где осенними ночами встают Великие Столбы и идут по небу, колыхаясь и горя цветными огнями.
Объяснили приезжие, что штука эта им служит для того, чтобы дорогу находить, чтоб в тайге незнакомой не заблудиться.
Охали тунгусы от изумления, хлопали в ладоши п приседали к земле бабы. Горделиво посматривал на сородичей Шебкауль.
Решено было, что поведут приезжих оба Овидирь и Ковдельги. Сначала сплавят на плотах до Ыргиса, что на Лисий хребет ведет, а там сухой ногой дойдут до курейских тунгусов, навьючив поклажу на оленей. На плотах пойдет Ковдельги, оленей погонит Овидирь.
Бабам оставили собак, муки, ружье. Семь оленей с собой взяли, остальных тоже под присмотр женщин оставили.
Еще одну ночь переночевали. Долго сидели у яркого огня. Прощались с Шебкаулем, который приезжим песни пел... Выпили угощение и схондирили впятером. Весело провели ночь.
И вот утром ранним тронулись в путь.
Покачиваясь на учеке, брел по бездорожью Овидирь, и вслед за его оленем, прискакивая, бежали остальные.
С веселыми криками плескались на плотах Ковдельги и приезжие.
Испуганные утки вылетали из-под самых ног. Отлетали на несколько шагов вперед и, глупые, непривыкшие к людям, — снова мягко садились на воду.
Изредка кто-нибудь из приезжих или Ковдельги убивал их одну за одной и складывал меж поклажи на будущий ужин...
Старшего из приезжих звали Петром Захарычем, других — одного Семеном Ивановичем, другого Максимом.
Петр Захарыч па поворотах реки приказывал останавливаться, вперед берегом уходил Максим с длинной пестрой палкой. Где-то вдали он маячил ею, а здесь, с плота, наводили блестящую штуку, в которую глядели попеременно то Петр Захарыч, то Семен Иваныч.
И все что-то записывали.
На недоумелые, изумленные восклицания тунгусов, смеясь, показывали длинную бумагу, на которой узенькая полоска вилась, как Ыргис в тайге.
— Это дорогу записываем мы, чтобы потом самим суметь к Лисьему хребту путь найти!..
Крутил головой Овидирь.
— Чудно!.. Тунгус, когда ему путь обратный нужен, засеки зарубает на молодых сосенках пальмою. И по белеющим пятнам ищет выхода. А тут!.. Чудно!..
Блестели глаза у Ковдельги...
Для ночных привалов выбирали широкие поляны. Раскладывали большие костры, собирались все пятеро к веселому огню и, поужинав, покурив, долго толковали.
Петр Захарыч расспрашивал про жизнь таежную, про нравы звериные, про шаманов. Про все узнавал. Тунгусские слова записывал. Но больше всего любил он слушать сказки.
Долго-долго слушал нехитрую речь Овидиря. Уже на угли костер сядет, и, кряхтя, таскает Ковдельги новые дрова, а все тянется сказка про Икондай-хребет, про чайников [* Разбойников.] старинных, про тунгуса и семьдесят семь врагов его...
Уже высыпятся в высоком небе щедрой рукой брошенные звезды, и мертвым блеском друг странников — Сохатый замерцает, и самоцветными огнями вспыхнете Орион, — а все слушают трое сказку стародавнюю.
Слушают молча, вглядываются в темь, в незнаемый простор неба.
Ковдельги, дремля на ложе из свеже-нарубленной пихты, лениво недоумевал: какой толк приезжим из сказок стариковых. Разве, думал он, каждый ребенок тунгусский не знает их, эти рассказы бабушек беззубых?.. Разве в русских деревнях не умеют рассказывать позанятней?
Ковдельги недоумевал. Но сквозь недоуменье часто вспыхивала в его сознаньи мысль одна настойчивая.
Занимала его блестящая штука, с которой в лесу не заблудишься, верную дорогу в бездорожье найдешь.
Жмуря глаза, соображал он, как ловко пойти промышлять с ней, не тратя лишних трудов на засеки, не держась одного следа. Идти далеко-далеко, где богатый промысел и безлюдье...
И думал он, пока еще смутно думал, что приезжим, которые сказками занимаются да неведомо зачем на Лисий хребет идут, — совсем не нужна эта блестящая штука. Вот ведут их он и отец, доведут до места, — там, если захотят дальше идти, курейские след проложат. Зачем им штука, в тайге нужная?..
Потрескивал и жарко дышал костер ночной. Ночью огонь костров клонить ко сну и, родив мысль, тревожит ее бессменно, нераздельно с другими...
Так ночами под говор Онидиря копил в себе что-то Ковдельги.
А путь позади оставался все длинней и длинней. И недалек уже был Ыргис, которым, бросив плоты и навьючив поклажу па оленей, дойдут до стоянок курейских.
Иссякли сказки у Овидиря. Вяло и нехотя, напрягая старую память, путал он рассказанное с тем, чего еще не поведал, слагал сказки в своей голове, — неуклюжие, однообразные сказки про лесного дедушку, про шайтана, про шаманов...
И вот пришли.
В полдень запахло дымом впереди. Лаем встречали чужие собаки. Люди незнакомые, щуря глаза, вглядывались в приезжих и бормотали обычные приветствия.
V.
Пьяный Овидирь покачивался в седле. Посох то и дело терял опору и он едва-едва не падал с учека.
Пел старик песни, отплевывался. Был доволен дорогой, был рад возвращению к стойбищу родному, там, на Чимчиканихе. Был рад подаркам, прочно навьюченным па оленей.
Покачивался сзади и Ковдельги. Песен он не пел. Но смеялись глаза его, залитые весельем. Часто прижимал он руку к груди, гладил что-то спрятанное за пазухой.
Развели огонь для первого ночлега в обратный путь в небольшом распадке. Сварили ужин из убитой утром тетери.
Любовно поглядывая на бутылку, налил Овидирь полную чашку вина сыну и потом себе.
Пили оба в затихшем лесу — отец и сын.
Тряслись руки у Овидиря. Не мог путем разжечь трубку и просыпал зря свежий табак, тоже подарок приезжих. Тряслись руки, а сердце было радостно.
— Хорошие гости!... Ай, хорошие, — хвастался он пред сыном. — Сказки, говорят, Онидирь, пожалуйста, сказывай! Сказки, говорят, мастер рассказывать!.. За сказки, ишь, чего надавали. Гостинцев всяких... Ай, хорошие люди! Тунгусов таких не бывает... В лес по что-то пошли, пишут что-то, штука у них не простая. Видел? — торжествующе громко спрашивает сына.
— Видал! — важно тянет тот — Штука хорошая... В самый раз охотнику. По лесу ходить...
— Вот, вот!.. — восхищенный, поддакивает Овидирь.
— Такую только промышленнику: не надо засек делать. Иди себе да иди.
— Правда... правда! — крутил головой старик.
Ковдельги помолчал. Сунул руку за пазуху, порылся там, что-то достал оттуда и чем-то сверкнул пред глазами отца.
— Кажи, кажи! — обрадовался тот, — чего это ты припас?
Ковдельги протянул блестящее старику: увидел тот в руке у сына штуку блестящую, заманчивую, ту самую, у которой по кружку бегает палочка, бегает, но все против полдня показывает.
Изумленный, взглянул Овидирь на парня.
— Дали?.. — спросил он, — дали тебе ее?..
И, не дожидаясь ответа, еще радостней, чем прежде, рассмеялся:
— Ах, и люди!.. Ай, да гости!..
Но услышал ответ иной.
— Какое — дали! Дадут!.. Никогда не дадут. Вес самим надо, все самим... Сам взял!..
— Сам... — протянул Овидирь и смолк. Полез за кисетом. Снова трясущимися руками зря рассыпал свежий табак, гостинец приезжих. О чем-то вздыхал. Тянул, тянул в себя терпкий дым плохо разгоравшейся трубки. Сплевывал. — Сам? — хмуро переспросил и опять вздохнул.
Ковдельги молчал. Придвинулся ближе к огню и разглядывал добытую вещь. Горел глазами, весь радостный , но радостный какою-то омраченной радостью. Глядел на белое поле с неизвестными знаками, на богатый блеск коробки медной. Трогал какой-то винтик, отчего-то замирала палочка, то трепетно и тревожно кидалась из стороны в сторону, не уклоняясь от полдня...
Заслонив себя дымом от раскурившейся, наконец, трубки, Овидирь подполз к сыну. Чрез плечо заглянул в непонятную, но занятную, но полезную вещь. Пожевал губами.
— Кажи-ка! — тихо попросил сына.
И, приняв у того из рук круглую коробочку, тоже озабоченно трогал винтик и любовался игрою живой палочки.
Потом нехотя отдал ее обратно Ковдельги и, выслушав какое-то замечание его о штуке дорожной, в спор с ним полез. Вырвал снова из рук, заскорузлыми пальцами по стеклу водил. Вскакивал на ноги и рукой указывал то на темнеющий лес, то на пройденный путь.
И загорелся Ковдельги, тоже спорил, тоже, размахивая руками, показывал то па лес, то на темную, простертую впереди даль.
Утомленные, почувствовав призывы сна, улеглись подальше друг от друга. Запрягал Ковдельги драгоценную вещь у себя на груди...
... Ночью кто-то вошел в душу Овидиря и сказал слово.
Смутное слово сказал, а, может быть, и не одно, а много-много слов.
Старик проснулся. С трудом разгибая натруженную в долгую жизнь спину, взглянул он на спящего сына. Посидел, безмолвный, темнеющий в предрассветном мерцании.
Потом разбудил Ковдельги.
— Вставай, вставай!
Тот беспокойно вскочил на ноги, долго приходил в себя, чего-то тревожась, чего-то пугаясь.
— Заспался! — хмуро укорил его старик. — Собирайся... собирай оленей... Уходить надо. Уходить домой.
Ковдельги понял. Хоть и не хотелось сон спокойный разрывать, но быстро и оживленно скликал он оленей, сгоняя упрямых мягким мавтом. Навьючил поклажу. И тронулись дальше, оставляя после себя потухающий костер.
Опять качался впереди па учеке Овидирь. Качался и думал:
Там, на Лисьем хребте остались люди. Завтра пойдут они дальше, к неизвестным рекам, в неизвестные хребты. Там, знает Овидирь, нет людей. Курейскими стойбищами кончаются жилья людские. Давно, когда Овидирь еле ружье подымал худенькими руками, рассказывали старики про безлюдную страну, лежащую за стойбищами курейскими. Про безлюдную страну, где властвует амака властью необъятной.
Завтра пойдут люди приезжие в страну амаки. Поведут их немного курейские, а потом бросят, вернутся к чумам и скажут:
— Мы не знаем путей в тайге бескрайной, кроме дорог амаки. Мы не знаем путей в тундре, на которую опирается край неба, кроме дорог амаки, — идите сами. Идите одни!..
И люди приезжие, незнаемо зачем идущие по тайге, по тундре, уйдут одни. Смеющиеся, с песнями веселыми, делая работу странную, — уйдут одни. Будут веселы оттого, что знают: есть у них вещь волшебная, дорогу ищущая. Но ошибутся, ах, как ошибутся! И в сердце тайги, где сплелись кустарники чащи непроходимой, где потемнели стволы дерев и толстым покровом лежит на корнях многолетний мох, — в сердце тайги, где погибель им, где смерть верная, — узнают они, что вещь волшебная исчезла. И обожжет их страх непомерный. К голове прильет кровью горячей, обессилит ноги и криком вырвется из уст.
Тогда вспомнят они Овидиря-сказочника и сына его Ковдельги. Вспомнят и поймут, что Овидирь и Ковдельги погибель нагнали. Что Овидирь и Ковдельги унесли волшебницу, путь указывающую. И скажут они:
— У одного костра ели мы с друзьями нашими, у одного костра пили вино, у одного костра разговоры разговаривали, песни пели и сказки слушали. Гостинцами наделили мы друзей наших, радостно смеясь, расстались, разошлись по дорогам своим — мы и друзья наши. А что сделали они? — друзей обманули, друзей погубили... Разве это друзья? — Нет. Разве это хорошие тунгусы? — Нет!..
И будут просить они Оксари, чтоб наказал он за вероломство Овидиря и Ковдельги. Наказал всей силой своего гнева...
— Стой! — крикнул Овидирь. Был бледен и тяжело дышал.
— Стой! Ковдельги!
Спешились, сгрудили оленей вокруг себя.
— Почему кричишь?
У Ковдельги лицо растерянное, глазки беспокойно бегают.
— Поедем назад!.. Заворачивай оленей. Поедем назад!
— Зачем поедем?.. Зачем?
Но уже заворачивал старик учека, а за ним, покорные, поворачивали и остальные олени.
Тогда Ковдельги все понял.
Куда, старик, поворачиваешь? Не надо! Зачем отдавать?.. Зачем хорошую вещь отдавать?!.
Но Овидирь, держа в одной руке повод, подошел к нему и сказал одно слово:
— Давай!
Бледный, обозлившийся Ковдельги сжал кулаки, но молчал.
— Давай! — визгливо крикнул старик. — Отдать надо... Друзей обманул. Отдать надо!
И подскочил к сыну, тормоша его за руки, за грудь.
Ковдельги толкнул отца, сунул руку за пазуху, схватил оттуда, что нужно было, и кинул в Овидиря и, кинув, чуть не плача от злости, кричал ему, задыхаясь кричал:
— На, на!.. Давись! Иди, неси своим русским! Один неси! Один иди к ним!... На, на!
Старик бережно поднял, слабо, медным блеском сверкнувший предмет, сунул его далеко за пазуху, поправил за плечами ружье, оперся на посох, вскочил на оленя.
Отъехав несколько шагов от сына, вспомнил о чем-то, остановился и уже миролюбиво крикнул ему:
— Лыжи мои прошлогодние камасом новым подклей. Камасом с лоншачка, что весною били...
Ковдельги тоже сидел в седле. В ответ на отцовский окрик он кинул какую-то ругань.
И оба разъехались...
VI.
А на Лисьем хребте, у курейских тунгусов, переполох стоял.
Приезжие, громко разговаривая меж собой, что-то искали. Перерыли все на поляне, вокруг огневища, развязали тюки и вьюки, — не находили и снова искали.
Нужно было совсем уже трогаться в путь, а тут задержка.
Петр Захарыч несколько раз подходил к тунгусам, спрашивал их, не видали ли они вещи одной: круглая такая, блестящая. Но те крутили головами, руками отмахивались:
— Нет! Ничего нс видали. Ничего.
А Максим злобно сплевывал и, точно радуясь чему-то, громко говорил:
— Беспременно, это парень... Непременно, он утащил!
Семен Иванович ходил растерянно вокруг чума, вокруг огневища и охал.
— Что будем делать с одной буссолью? А вдруг испортится?!
Поискали, поискали и хмурые стали собираться в дорогу.
И слышали курейские тунгусы, понимая из пяти слов, может быть, только два, что приезжие гневаются на Овидиря и Ковдельги, что приезжие спорят меж собою: один говорит, что все тунгусы такие обманщики да лукавые, а другой только старика с сыном ругает.
Когда уж совсем собрались к уходу с Лисьего хребта и за прощальным чаем Петр Захарыч наказывал своим товарищам:
— За поклажей поглядывать нужно. Лучше поглядывать! — лаем встретили кого-то, еще невидимого, собаки.
И на усталом олене подъехал Овидирь. Соскочил с седла, ни с кем не здороваясь, прямо к Петру Захарычу подошел и подал ему штуку. Подал и в сторону отошел, к оленям...
Обрадованные, окружили приезжие Овидиря. Расспрашивают его, как нашел.
Молчал старик, но не выдержал своего молчания.
— Парень мой, Кондельги, за пазуху руку сунул, а она там!.. Откуда и взялась! Такая уж, должно быть!.. Сама к парню полезла!
Хохотали приезжие радостно и громко. Держали в руках штуку найденную и разглядывали ее.
Хлопали старика по спине. Ласково хлопали и хвалили.
Потом потчевали водкой. Потом водкой одарили и на дорогу.
Стали разъезжаться в разные стороны, подошел Овидирь пьяный и грустный к Петру Захарычу, взял его за руку, трясет ее.
— Друг! Ох, друг!.. Правда, правда, сама к парню полезла... Правда!
Петр Захарыч смеялся. Ласково щуря глаза, смеялся и тоже тряс старику руку и говорил своим товарищам:
— Ну, что поделаешь с такими детьми!
И все остальные смеялись.
---
Ехал Овидирь по сосновым боркам, кружился, объезжая колодник, вокруг дерев, пугал пестрых кукш и крикливых дятлов.
И внутри его все пело.
Была радость и от водки и еще от чего-то. Кружилось пред глазами светлое лицо с рыжей бородой и с ясными глазами. А на лице этом горела добрая улыбка. Такая добрая, что и не упомнит Овидирь, когда он еще такую видал.
И в радости своей разговаривал он и с кукшами-насмешницами, и с хлопотливыми дятлами. И вон с той голенькой, глупой белкой, которую в зиму снежную подкараулит и найдет хитрая пуля.
В радости своей, хихикая, говорил им:
— Тунгус сам дорогу в лесу найдет... Тунгусу ничего не надо. Ружье да пальма да кремень. Вот!.. Штукой этой волшебной, шаманскою, пусть русские владеют. Пусть!.. Им она дорогу покажет. А тунгус — нет!..
Говорил соснам молчаливым, где-то в вышине с небом безмолвно переглядывающимся, и птицам-непоседам.
А борки ползли все назад, и вставал все ближе и ближе хребет, возле которого притаилась родная Чимчиканиха.
Медленно, словно нехотя, уползал сияющий день. Вечер грядущий уже таился у подножий сосен длинными, синеватыми тенями.
VІI.
У стойбища все по-старому. Только в стороне, на тундре, тремя оленями меньше пасется.
Погибли они в тот день, когда Ковдельги один возвращался с Лисьего хребта.
Ехал он медленно, спокойно. Ни откуда не чуял беды. Как вдруг — встрепенулись олени. Беспокойно затрепетали ушами.
Не успел Ковдельги оглянуться, затрещало что-то сзади. И врассыпную кинулись олени по лесу. Кинулся вперед и учек, па котором сидел Ковдельги.
Понял парень, что сзади учуял их амака бесприютный. Обмерло сердце у него. Нужно за ружье хватиться, но несет без удержу олень, ломая кустарники рогами, несет, обезумев от страха...
Позже, далеко от того места, где треск слышен был, остановился олень. Привязал его Ковдельги. Изготовил ружье. Насторожился. Долго выжидал. Потом пошел искать остальных оленей.
Двух поймал мавтом. Дрожали они дрожью предсмертной: так были испуганы, что без труда накинул па их тонкие шеи мягкий аркан.
Еще двух нашел Ковдельги бездыханными. Лежали они с перебитыми хребтами. И в полузакрытых глазах тускнела непомерная жалоба.
Последнего оленя Ковдельги не мог найти. Полакомился им, наверное, шатень голодный.
Так с тремя оленями и прибыл парень к стойбищу.
Старик приехал на завтра. Застал огорченных женщин и сумрачного Ковдельги. Но не омрачился Овидирь.
Распоил привезенную водку и все хлопал сына по спине, хлопал и многозначительно приговаривал:
— Ага, бойе!..
А потом у стойбища стало все по-старому.
Но кралась осень. Легким золотом подернулись тальники, и в травяной ковер вплелась еле заметная краснота.
Уже оперились и окрепли птенцы утиные и летали над озерами удивленные, радостью. Уже сыростью веяло по ночам, и темнело небо, и ушли белые ночи — царственные почи Севера.
Совсем обмелела Чимчиканиха, обнажив золото своих песков.
А на том берегу, где прихотливо перемешались листвени и кедры с осокорем, с березой — молодая березка раньше всех вздрогнула под жгучим поцелуем осени и оделась в яркий, светло-желтый плащ и тихо осыпала свой новый, свой последний наряд...
Овидирь оживал. Раздувая ноздри, как сохатый, почуявший врага, предвкушал он белую зиму.
Но еще оставались праздные дни. И наполнял он их думами.
И думал он о людях, которые идут где-то к Великому Озеру, покрытому плавающими круглый год льдинами; о людях, которые обладают волшебною вещью, указывающей им верный и прямой путь.
И думал он о могуществе людей этих, которые за один только помысел отнять у них вещь волшебную, наказывают жестоко.
Которые наказали Ковдельги, послав на него амаку, погубив у него трех оленей, испугав его в безмолвной тайге.
Только за один глупый помысел, нарушивший закон гостеприимства...
ЗА ЧТО ОН ИХ УБИВАЕТ.
I.
Если с Тунгуски свернуть на хребет, пробраться на Чайку и идти спиною к полудню пять дней, то за большой тундрой, там, где громоздятся отроги хребта с обильным мхом и лишаями, можно найти чум Баркаула из рода Ангаракайльского.
Около самого чума вьется серебряный ручеек и впадает в Чайку. Далеко вокруг чума темнеет тайга. Только летом нет туда дороги: болотистая тундра да мелкие озера тянутся на несколько верст. Зимою же морозы сковывают болота, снег ложится гладким покровом от чума до сплошной стены леса, — и тогда легко скользят лыжи Баркауля и оставляют слабый след по тундре, по озеркам...
Всего две зимы, как пришел сюда Баркауль, и зажил с молодой Ашиттой. На день пути от его чума остались его сородичи. На три дня пути остались сородичи Ашытты.
В первую зиму снарядился он на промысел и оставил Ашитту одну. Была пурга вокруг зимнего чума, но весело вспыхивал камелек п трепетным блеском скользили отсветы его по покатым стенам. Глядела Ашитта па раскаленное золото огня, слушала, как сердится пурга и бьется о чум тучами снега, и воет сотней голосов. Слипались глаза у молодой тунгуски, и сквозь дремотный туман где-то колыхалась пред ней фигура Баркауля и с ним много собак...
Потухал камелек, делалось холодно — тогда просыпалась Ашитта, подкладывала к тлеющим уголькам новых дров, лениво глядела, как жадно хватается огонь топкими пальчиками за сухой сосняк. И так коротала время, ожидая Баркауля.
А тот после первого промысла, ушел в русские деревни, сменял белку на много разных товаров, покрутился [* Совершил мену. Покрута — вымененный на пушнину или на деньги товар.] с другом, и возвратился домой. И весело было Ашитте встречать его, глядеть на подарки, что он навез, слушать рассказы про промысел, про русских...
После первого промысла собрались к Баркаулю в чум сородичи, пили привезенную им водку и хвалили его ловкость, похлопывая по коленям, по спине. Вечером разложили большой огонь на берегу речки, на снегу, и вышла молодежь к костру петь и плясать — «ехондирить». С ними пела и плясала и Ашитта, а Баркауль со стариками глядел на пляску, слушал песни и радостно думал о том, что Ашитта пляшет лучше всех, поет тоньше всех...
ІI.
На второй год вышел Баркауль на промысел раньше — решил уйти подальше, чтоб набить побольше белок, да хорьков, да горностаев, потому что «другу» своему должен был много за прошлое заплатить: за водку да за товар...
Снова осталась Ашитта одна. Слушала вой пурги, трубку курила и смотрела на огонь — и ждала Баркауля.
Смотрела на огонь — и сквозь зимний шум за чумом прислушивалась к чему-то новому, что чуть слышно трепетало у нее внутри, под сердцем. Вздрагивала и сладостно жмурила глаза, почуяв в себе новую жизнь, и порою пугливо оглядывалась на побелевшую дверь.
Раньше ничего не боялась — ни воя пурги, ни чьих-то отдаленных завываний, а теперь вдруг охватить какая-то жуть и оторопь — и складывает она свои смуглые, в ссадинах руки на живот: точно защищает.
Долгими вечерами ждет Ашитта мужа. Дремлет она и грезится ей Баркауль и рядом с ним маленький илле [* Человек, тунгус.]. Видит она, как снаряжает их обоих на охоту, унты сама шьет легкие, парку [* Унты — зимняя обувь; парка — короткая оленья доха.]. Собаки бегают вокруг них: ждут охоты. Много собак... Видит — как приходят они оба в чум, и много яшны, чаю, сахару и водки привозят на оленях...
Просыпается — обводить сонными глазами вокруг: правда ли это, или духи водили ее далеко — в тундру, в горы?.. Придвигается Ашитта к огню, греет живот: пусть «ему» теплее будет. И снова грезить под шорохи и треск огня, под свист и вой пурги.
Утром выйдет она из чума, отгребет нанесенный за ночь к стенам и дверям снег. Багдама (Белый) вьется около, прыгает на хозяйку — есть хочет. Весело Ашитте с ним. Старый он, верный; знает лес, зверей хорошо чует. На снегу лежит — не видать его, такой белый. Баркауль оставил его, чтоб веселей было...
Разгребая снег, разговаривает она с собакой: — Баркауль приедет гостинцев навезет, много... Баркауль приедет — мясо будет, — водка будет, чай будет... Маленький илле будет. Вырастет — хороший бойе (парень) станет, охотник. С тобой в тайгу ходить будет, белку добывать, сохатого, хорька, горнака добывать.
Глядит Багдама па хозяйку, пасть раскрыл, красный тонкий язык высунул и тихо-тихо поводить пушистым хвостом...
Потом оба в чуме около огонька рыбу едят... Много рыбы наловили за лето — вот теперь ее и едят, как хочется. Мерзлую, снегом обсыпанную, или на жердочке насунутую да изжаренную. Только мерзлую Багдама лучше любить.
И оба у камелька свернутся и дремлют, — оба чуткие к каждому шороху, каждому звуку...
III.
Второй раз родилась уже луна с тех пор, как ушел Баркауль. Все вырастала, наливалась желтым блеском, ярче горела на голубоватом бездонном небе — а потом начала таять, кусочек за кусочком отпадать и становилась все тоньше и тоньше, пока совсем не умерла. И вот родилась без Баркауля во второй раз...
Уходила Ашитта с собакой за тальником; — дрова вышли, за сосновыми ходить далеко, в лес. И опять садилась к огню, слушала звуки леса, прислушивалась к нарастающей жизни — там, внутри себя...
В один вечер, когда длинные резкие тени от чума и леса легли на голубой снег и яркие крупные звезды блестели ровным и мягким блеском, Ашитта почувствовала себя нехорошо. Схватившись рукою за сердце, она, пошатываясь, вышла из чума и присела на снег. Багдама выбежал за ней и вертелся возле нее, заглядывая в глаза.
Ашитта дышала с трудом. Какая-то волна подступила ей к горлу и чьи-то острые когти впились в виски и давили и жали голову. Зеленые и красные круги плавали и таяли — и вновь собирались перед глазами. Отовсюду шел мелкий, трепетный звон — то замолкавший, то с новой силой врывавшийся в уши...
Над хребтом выплывал тонкий серп луны. Не было пурги, и только чьими-то вздохами — долгими и легкими — сходили с гор слабые порывы ветра. Этот ветер немного освежил Ашитту. Но она не входила в чум. Боялась, чтобы не стало хуже.
И так ей вот теперь, сейчас захотелось, чтобы возле был Баркауль, чтобы ярко вспыхивал камелек, чтоб гудели вокруг чьи-нибудь рассказы и пахло дымом...
Посмотрела на собаку. Багдама отбежал шагов на двадцать от нее в сторону, туда, где чернел кедровый бор.
Длинная, полупрозрачная тень тянулась от собаки по снегу. Тень эта не шевелилась.
Ашитте сделалось еще тоскливей. Жуть охватила ее. Видно, почуяла кого-то собака. В чум бы войти, — там не так страшно. Огонь разложить: с огнем веселее. Но не может она подняться, ослабла. Попробует привстать и снова запрыгают желтые, красные круги, снова загудит, заколыхается легкий звон.
Вдруг Багдама залаял. Подбежал к Ашитте, остановился около нее — зовет. Потом снова кинулся вперед, и злобно заливается звонким лаем, который отдается в далеких хребтах...
Тяжело Ашитте. Быстро-быстро бьется сердце и замирает. Не может она подняться, отяжелела, обессилела.
Из лесу донеслись треск и топот. К чуму прыжками, задрав голову, с тяжелым развесистым кустом рогов, несся олень. Хотела Ашитта остановить его:
— Мат! Мат... Мо!.. — слабо зовет она. Но олень в несколько прыжков унесся дальше, ломая тальник, взрывая снег.
Поняла Ашитта, что сзади за оленем идет смерть. Испугалась, жутко ей стало одной. А собака уже не стоит неподвижно, — близко она и лает еще злобнее, и лай слился в дикий прерывистый вой...
Из чащи, по следу оленя быстро бежал большой черный медведь. Дойдя близко к собаке, ненадолго остановился он; крикнул коротким, густым ревом, потянул в себя морозный неподвижный воздух. Почуял человеческий запах и повернул к чуму, прямо на Ашитту.
Слабо крикнула она. Замер голос — нет звука. Все силы собрала, одной рукой оперлась в снег, другую прижала к чреву: хочет защитить маленького илле. И частые слезы закапали по побелевшим щекам — закапали и застыли...
Вихрем закружились короткие, быстрые мысли... Баркауль, сородичи... жаркое лето... веселые крики, лай, громкий лай....
Прямо на Ашитту пошел медведь. Кинулся ему под ноги Багдама, затрясся от ярости; зубами впился в ногу. Остановил старика — и забыл, что нет Баркауля, нет его пальмы или меткого ружья. Встряхнулся старик, отшвырнул собаку и шагнул и снова отшвырнул, и так подвигался вперед к замершей Ашитте. Видно, голоден был, или — шатень бродяга ищет пищи. И не хочет попуститься вот этой, на которую набрел...
Тонкий, протяжный и трепетный вопль раздался и задрожал и ударился вглубь тайги о кедры, о сосны, и ударился о горы, о камень... Раздался — и погиб...
Яростным ударом вырвал старик из чрева Ашитты маленького илле, и глухо заворчал от жадности, от радости. Хотел кинуться па него Багдама, — нужно было ему впиться в старика, прокусить его мохнатую, длинную шерсть; но сам Багдама лежал окровавленный, с разбитым хребтом. Сам умирал...
IV.
Пришел Баркауль к чуму. Видит: вся в крови, на ясном, белом снеге лежит Ашитта. Кровавый след тянется по изрытому снегу, далеко, в тайгу и там теряется. И в стороне — мертвый Багдама.
Кинулись к нему собаки, что вернулись с хозяином. Визжат, шерсть на них шевелится.
Сбросил с себя Баркауль лыжи, пальму и ружье. Стоит — нет мыслей. Ближе подошел к Ашитте — совсем мертвая она, и нет в ней маленького, илле, и замерзшими клочьями перемешалась одежда с мясом.
Втащил он труп в чум, уложил на ираксу [* Оленья шкура, служащая постелью.], закрыл чум...
Сам сел возле мертвой обессиленный и бледный.
Сидел и думал. Знал, что медведь это сделал: убил и Ашитту, и Багдама, и дитя вырвал и унес. Рассердился на что-то старик, отомстил. Только не знает Баркауль — за что. Обводит он мутными глазами закопченные скаты чума. Тоскливо здесь стало, холодно.
Огонек не потрескивает, не светит; Ашитта не смеется, не расспрашивает про промысел. Тоскливо...
Взял ружье и лыжи Баркауль, кликнул собак, и пошел к сородичам рассказать о том, что сделал старик с Ашиттой.
К утру другого дня, пришел он к чумам. Веселым лаем встретили его собаки; выбежали сородичи, кричать. Рады ему. Поглядывают на него, ждут подарков, водки.
Ворчит отец-старик, завидя, что с пустыми руками пришел она:
— Стариков не любишь!.. Не уважаешь. Ой, смотри, тунгус, — молод, молод!..
Рассказывает им Баркауль, что случилось. Завыли бабы, ребятишки за ними, хоть и не понимают, в чем дело.
Отец молча попыхивает трубкой и сплевывает...
Разнесли сородичи весть о смерти Ашитты по окрестным стойбищам. Сошлись тунгусы хоронить погибшую. Пришел и шаман. Баркауль отложил по десятку пушистых белок да по два хорька шаману и русскому попу. В русскую деревню поедет — скажет священнику, что умерла Ашитта...
Много выли бабы; мужчины и старики пили водку, да жареную оленину ели.
Так и похоронили Ашитту...
Когда вытрезвились сородичи, пришел к ним снова Баркауль, говорить им:
— Люди! Старика обидел меня, сильно обидел... Не трогал я его, ходил промышлял белку, горнака, хорька да соболя, убивал сохатых, ловил рыбу по речкам. Не за что было старику сердится на меня, не за что мстить... Скажите, люди, — справедливый это старик?
Стали разговаривать тунгусы. Трубки курили и сплевывали. Раздумывали: за что обижать было дедушке Баркауля? Помолчали. Потом говорить старый Накша:
— Ни за что обидел, зря...
Другие тоже подхватили:
— Ни за что. Ни за что... Несправедливый медведь!..
Тогда сказал им Баркауль:
— Не трогал я раньше старика, не выгонял его из берлоги зимою, не стрелял в него летом. Теперь обидел он Ашитту. Сам сказываете несправедливый... Теперь пойду в тайгу. Где встречу старика, там стрелять его буду... Вырвал старик из Ашитты маленького илле — буду губить стариковых детей. Встречу старика — не знаю: тот ли, что Ашитту погубил, всс равно буду убивать... Пойду в тайгу...
Спорили сородичи Баркауля — дело ли он задумал. Допили вею водку, что принес он с собой. Решили: пусть Баркауль идет в тайгу, пусть мстит старику и стариковым детям...
V.
Оставил Баркауль свой чум. Сородичам отдал все, что было в нем, — ничего ему теперь не надо. Сшили старухи ему пушистые мохнатки [* Рукавицы.] из шкуры Багдамы, — чтоб помнил о хорошей собаке.
Стал рыскать тунгус по тайге. Где услышит, что ходит медведь, — идет туда, ищет встречи с ним.
Две собаки с Баркаулем. Набрели на след стариковый. Долго шли за ним, продираясь по дебри; топором дорогу прокладывал тунгус. Нашли. Матерый медведь, черный как соболь.
Быстрее забилось сердце у Баркауля. Думает — этот погубил Ашитту. Этот съел маленького сына...
Глубоко вонзилась пальма в медведя... С треском, ломая кустарник, повалился старик на снег....
Сдирает Баркауль мягкую, еще теплую шкуру. Собаки с жадностью рвут медвежье мясо.
И думает тунгус: «Вот убил старика. А что же Ашитта с ребенком?..» Тоскливо сжимается сердце. А кругом тихо-тихо. Стоять узкие высокие кедры, недвижные, скованные морозом. Лежит на всем вокруг яркий, несравнимо белый снег и голубеет вверху небо. На сотни верст ищи человека, вряд ли найдешь. А здесь груда мяса, собаки с окровавленными мордами, веселые от сытой кровавой пищи — и безмолвный Баркауль...
Убив медведя, понес Баркауль шкуру купцам, выменял на порох и водку. Опять пошел к сородичам. Поминать Ашитту.
Пели тунгусы унылые тягучие песни, плясала молодежь на снегу, возле чума; похлопывали старики Баркауля по коленам, по спине, хвалили — за то, что водку принес, Ашитту поминает.
Сидел Баркауль. Отяжелела у него голова от водки. А все же соображал, что утром, когда выпьют всю водку, пойдет он сызнова искать старика, убьет его, — опять водку выменяет. И снова сородичи будут пить, все пить... Будут поминать Ашитту...
Загорелись звезды. Только слабо. Потухали. Из-за лесу подымались огненные полосы, забирались они пода самый небосклон, и там сводом нависали над лесом, над замерзшей землей. Всеми цветами радуги вспыхивало небо: то зловещий пурпур бороздить глубокое небо, то нежные бирюзовые ленты плавно вздрагивают, точно передвигаясь и пропадая в розовых переливах.
Кто-то вышел на небо и забавлялся бесчисленными небесными цветами, и тихо колыхал небом...
Загорелись Великие Огненные Столбы — и все вокруг — тайга вековечная, каменные хребты, болотистая тундра — все сделалось маленьким — незаметным...
... Маленький Баркауль приостановился в самом сердце тайги, взглянул на сверкающее величественное небо — и пошел дальше, пошел искать нового «старика», пошел мстить за Ашитту...
ТЫРКУЛ.
I.
Остановились и застили в леденящем холоде ветви деревьев молчать.
Белым убором нарядилась тайга, запорошились тропы и иргисы (охотничьи тропы), затихли ручейки.
Пригнулись широкие руки елей к самому снегу, к подножью их, где летом бархатятся мох и лишаи. не качают верхушками, не встряхиваются.
С кручи на кручь, с переката на перекат, — от одной речки до другой — всюду пробралась белая зима.
На маленьких равнинках, в перелесках, где ровная пелена снега лежит непробудно, маленькие лапки наплели узорчатые следы.
Выбежит на простор из чащи веселый хорек, присядет, оглянется и пойдет через долину опять в чащу, опят в глушь.
Выскочит заяц и ну — прыгать, взрывать снег и плести свою хитрую, обманную сеть следов...
Вот блеснет черной бархатной спинкой маленький соболь.
Потом скроются все. И выйдет ласковая, неторопливою поступью, ярко огненная или иссиня темная лиса. Обойдет следы и, ровно, осторожно ступая, — прорежет след заячий, след соболиный, след хорьковый...
Издали заколеблется в воздухе чей-то свист. И снова тишина.
Встрепенется на мгновение морозь и треснет мертвым деревом, и гулко, таинственно гулко, отдастся треск этот там, где-то далеко. И снова тихо.
Пройдут по небу сероватые тучи, остановятся, взглянуть хмуро на равнины, на лес, увидят следы, узором разбежавшиеся по белому ковру, увидят голую вершинку ели или кедра, или желтой печальной лиственницы, — и засыпят следы, подновят убор деревьев белым, пушистым крупным снегом...
Но не засыпать хмурым тучам звериных следов. Что из того, что снег заровняет их? — разве не привычен глаз у Тыркула, разве не ведом ему звериный нрав?..
От речки до речки, от вершины до вершины, вместе с холодной зимою Проходить он — зоркий и чуткий, — и знает, где кроется остромордая лиса — пусть не заметает она свой след, видят, куда прошел маленький хитрец, горнак, который спорить белизною своею с самим снегом, слышит — где прыгает беззаботная белка... Он читает по белому снегу непонятные, чуть видимые знаки — и щурит свои узенькие глаза и хитро смеется: о, он знает, он знает —где они все...
С Тыркулом идет его собака Ниру. Изредка остановится она возле дерева. Отрывного залает и заскребет когтями кору: белку нашла, белку держит.
Проберется Тыркул к этому дереву, присядет, вскинет ружье. И дальше идет. А за поясом у него, уже бессильно повиснув лапками, качается вместе с другими темно-серая белка, и маленькие капельки малиновой крови чуть заметно прорежут темными точками зимний покров, уйдут глубоко до самой земли. Напоят ее...
Далеко в стороне осталось стойбище Тыркула. Нить туда пути чужому: погибнет среди извечного леса хребта пришлец.
Там, у речки, затерявшейся среди тайги — но такой веселой летом, — там льется дымок его чума.
На полдень, и против солнца — и в другие стороны уходить зимою Тыркул. А когда кончится промысел, — обвешанный пушистыми шкурками придет он к русским деревням — и там перехватит его друг, с кем покручался он, обогреет его жгучей русской водкой. Обогреет и возьмет весь промысел...
С хребта на хребет пробирается Тыркул... Вышел в пролесок, — колодник кругом, высокие снежные бугры. Теснее обступили вокруг высокие кедры. Занесенная снегом речка заслонилась от бурь и пурги тонким тальником. Затерялись куда-то мелкие следы, точно оборвались. Укрылись лесные жители.
II.
Остановилась собака, поджала хвост: ушами поводить и тихо взвизгивает. Остановился и Тыркул. Слушает треск, идущий из полумрака тайги. Понимает: «старик» это идет — бродяга медведь, бездомный шатень ходит. Не улегся в берлогу. Злой, ищет тепла и мяса.
Забеспокоился Тыркул. Не боится он его. Есть ведь верный глаз, винтовка дедовская — хорошая; сколько белок стоит. Есть пальма [* Род копья или рогатины.], тоже от дедов родовая. Тут же и верный Ниру. Чего бояться! Разве не встречался он раньше со стариком?..
Только не ладно. Не хорошо с ним встречаться, примета плохая: к худу...
Волнуется Ниру. Полает — и взглянет на Тыркула: готовься, мол.
Близко. Озабоченно готовит тунгус пальму, воткнул рукояткой в снег, нагнулся. Ладно... Готов.
Захрустело совсем близко. Посыпались хлопья снежные. Выпорхнуло несколько испуганных пташек. В стороне свистнула белка: дразнит Ниру. Тот сердито огрызнулся на нее: не уйдешь, голубушка... Дай со стариком справимся...
Пуще затрещали ветви. Идет старик. Злой — ишь, как ломает. Почуял теплый запах живых. Вышел на проталину. Увидел обоих Тыркула и Ниру. Ага, двое... Пошел на них, и дико рычит: и радуется, и трусит.
А Тыркул приготовил пальму. Видит это собака, понимает, что надо делать. Стала дразнить старика. Подскочить к нему — залает с визгом, громко, задорно — и отскочить. Клубком подкатится под ноги старику, зубами за шерсть ухватится, рванет.
И остервенел медведь. Пошел быстрее на Тыркула... И напоролся на пальму...
ІII.
Сидит Тыркул на корточках возле убитого медведя. Широкой полосой хлынул на снег поток темной крови. Застыла черная лужа.
Сидит Тыркул на корточках возле самой головы стариковой, смотрит в полузакрытые глаза и говорит:
— Дедушка! Это не я тебя убил. Другой — русский — злой человек убил тебя, дедушка... Тыркул тебя не убивал... Не сердись на Тыркула: русский худой человек убил тебя...
Слушает Ниру, как разговаривает хозяин с убитым великаном. Знает: это хитрый Тыркул обманывает старика, что, мол, другой убил. И старик за то не будет мстить Тыркулу.
Уговорил Тыркул старика, снял с него шкуру. Большая, мохнатая. Вырубил наскоро сруб, спрятал в него шкуру. Обратно пойдет — заберет. Мясо оставил: мясо не надо есть. Будешь стариково мясо ест — старик тебя самого съест...
Кончили со стариком, вспомнил Ниру насмешницу белку; кинулся к дереву, к другому. Сыскал. Лает на нее, радуется: что, теперь видишь? Старик-то готов, — вот и тебя сейчас!..
Еще одна шкурка беличья болтается у Тыркула за поясом...
Уходят они от этого места. Ищут маленьких зверьков, слушают тишину тайги. И все дальше и дальше идут они. Дальше, в глубь леса. Тихо пробираются; но только слышать их лесные жители: прячутся. Лисица забилась в нору, ворчит — «убили старика; обманули. Еще сюда придут...»
Стоят неподвижные кедры. Порою сгрудятся меж ними юные елочки — шепчутся под снежным навесом, гнутся к земле. Потрескивают веточки. Сыплется белый пух: то ветер потрепал мимоходом чью-то вершинку.
И тихо, тихо...
ПРАВДА.
I.
Морозная мгла распростерлась над деревней. От хребта, через застывшую реку к дальнему лесу, над укрытыми снегом пашнями, легла белая пелена тумана. Чуть темнеют избы и изгороди. И почти недвижны белые столбы дыма.
Тихо. Нет голосов людских.
Даже собаки притихли.
Большой мороз...
Два тунгуса вылезли из нарточки и шумно отряхиваются и разминают отекшие тела. Далеко ехали. Привыкли к холоду, а тут чуть не озябли. В крайнюю, купеческую избу входят. Распоясываются, шапки снимают, долго крестятся.
Одного зовут Митрофаном Саладкиным, другого — Сергушкой. Так, без всякого иного прозвища — Сергушкой, да Сергушкой.
В тепле хорошо. Гудит огонь за раскаленными стенками железной печки. Весело отдаются человеческие голоса, — хорошо в тепле...
По разным делам приехали в волостное село тунгусы.
Сергушка покруту забирать. Дело небольшое. Но у Митрофана случай поважнее будет. По большому делу приехал он.
Большую обиду нанес ему дальний купец, Степан Николаевич. Весною приплыл он к Митрофанову стойбищу, привез водку да сразу же и выдал ее много — по четверти на человека. Не понастовал [* Не ухаживал.], не доглядел, чтоб тунгусы толком пили: помаленьку, чтоб зла какого не вышло. Сразу залились вином тунгусы, одичали, озверели. В ножи пошли друг на друга, чумы подожгли. Чуть убийства не сделали. А Степан Николаевич промысел у перепившихся забрал, да и уплыл. Не понастовал — а уплыл...
Сколько времени после того лечиться Митрофану пришлось: в ожогах весь пришел к фельдшеру, да и бабу свою едва-едва не убил, спасибо, убежала она. Тридцать верст лесом бежала, дитя свое к груда прижимая.
Озлился тогда Митрофан на друга своего — Степана Николаевича.
Пришел в село, человека хорошего нашел:
— Пиши, — говорит, — как дело было. Жаловаться надо. К большому начальству добиться — пусть Степана Николаевича накажут!..
И вот теперь вызвали Митрофана. Дошла жалоба до большого начальства.
Только времени прошло с тех пор, как обидел Степан Николаевич, много. Отошло сердце у Митрофана. Нет в нем обиды, нет злобы на того.
Вот и думает теперь: «Пошто человека губить? Засудят Степана Николаевича — кто в тайгу по стойбищам покруту повезет, водку»?
Кто?
И с крепкой мыслью приехал Митрофан: кончить дело миром.
Разве водки малость у обидчика на примирении выпить, — как не выпьешь, — непременно подаст!..
Тепло в избе. Гудит железная печка. Слипаются глаза. От холоду перенесенного, от долгой езды, от мыслей клонить ко сну...
II.
Вызвал Митрофана урядник. Здоровый такой, рыжий, голос грубый, громкий, — глазки маленькие, хитрые. Говорит ему:
— Мировой судья тебя, Саладкин, допрашивать будет — ты не смей неправду говорить... К присяге тебя приведут, а ежели после присяги да ты соврешь, то плохо тебе будет... Туда тебя турнут, где допрежь тебя и тунгусского духу не слышно было. В тюрьме сгниешь, с голоду подохнешь, побоев натерпишься!.. Вот как...
— Смотри — не ври... Коли даже единое слово неправды скажешь — и то помни!..
Отпустил Митрофана. Вышел тот на мороз — голова закружилась. Еще не сознает, отчего это — голова кружится да сердце захолонуло, — не чувствует, что пришло что-то нехорошее, такое нехорошее, какое раньше никогда с ним не случалось. Идет по деревне — впереди его густые клубы мороза вьются.
Идет и недоумевает:
— Как так? Пошто это урядник кричит? Какую правду велит сказывать? Разве не ему, Митрофану, нанес Степан Николаевич большую обиду? — разве не он, Митрофан, волен делать, как хочет: наказать за обиду, ил простить?..
Идет — недоумевает Митрофан.
Тревога хватает за сердце: как бы чего не вышло...
На квартире долго разговаривал он с Сергушкой. Тот качает головой, неодобрительно чмокает губами: — Худо, бойе, худо!.. Правду сказать — Степану Николаевичу большое зло будет, — правду скрыт — самому еще того хуже... Ах, худо!
Горячится Митрофан. Хоть чувствует, что зря горячится — только себя подбадривает.
— Моя обида!.. Я могу прощать... Захочу — за бутылку самое большое зло прощу... Моя обида...
— А присяга? — Сергушка хитро прищурил глаза: — Присяга, бойе?
Потускнел весь Митрофан, сжался. «Верно! Верно — а присяга?»
А Сергушка надрывает сердце, справедливыми речами творит тревогу.
— Оксари-то, он, бойе, не спустит — накажет за присягу обманную. В тайге надеть, в тундре... в каждом глухом углу найдет, огнем спалит, болезнью изведет, амакой [* Дедушкой, медведем. Оксари — Бог.] обернется — накажет...
— Ох!.. глухим стоном вырывается из Митрофановой груди. — Ох... что делать? что делать?..
А в жарко натопленной кухне люди весело разговаривают; красные лица, блестящие глаза. Из горницы в кухню бегают, носят бабы закуску, водку. Весело в жарко натопленной кухне.
Следит за быстро веселыми движениями их Митрофан и тоскливо соображает: — кто поможет? кто научит?
Хитрый Сергушка прерывает думы. Умен он — понимает как быть, что делать...
— Прокопья Егорыча спросить нужно. Он научит...
Точно по голове кто шарахнул. Как не догадался раньше? Кто же, кроме Прокопья Егорыча, научить. Хоть и не у него покручается Митрофан, а все же частенько дела они ведут. То, крадучись от друга, пушнину лишнюю, на пропой внеочередной припасенную, Митрофан ему сдаст, — то сходнее у Прокопья Егорыча кой-какой товар купить. Знакомы. И, не откладывая намерения, идет Митрофан па чистую половину. Как раз там и Прокопий Егорыч. Окликает оп его. Хочет спросить.
Отводить его в сторону купец. Не любить он с тунгусами при людях о чем-нибудь разговор вести. Опустив голову, слушает внимательно, ни слова не проронит. И выслушав, раздельно, четко и вразумительно говорить. Но как-то не все слова понимает Митрофан: будто и по-русски говорит Прокопий Егорыч, а слова не те, слова незнакомы.
— Ого, брат, дело не такое, как ты думаешь, — слышит Митрофан. — Тут, братец, уголовщина, криминал. Понимаешь?.. По юстиции-то оно не так, как по-твоему... Не ты волен прощать, — правов тебе таких закон не даст... Правосудие оно, братец, не посмотрит, что ты зря простить хочешь... Виноватый будет наказан — и строго. А против закона и юстиции не пойдешь, потому что оберегает их присяга на кресте и Евангелии святом... Понял?..
И отошел Прокопий Егорыч от Митрофана.
Не все слова понял тунгус. И потому, что не все уразумел, исполнился он еще большей тревогой — теперь уже не безотчетной, как прежде.
Мелькают в голове, звенят в ушах только что услышанные слова: «закон», «юстиция», «присяга»... «накажет строго». И не совсем ясные для его мозга, они обретают зловещий смысл, — пугают большою бедою, что кроется, дразнит за их непонятностью...
Спрашивает Сергушка:
— Как дела? — Но молча махает рукою Митрофан и отворачивается.
Сергушка не отстает. Хитер он, вкрадчив, мягок.
— Ну что, бойе?.. Зачем совсем горевать?.. Лучше достанем водки, выпьем. Легче, бойе, будет. Легче!..
Легче!.. Митрофан точно просыпается. «Верно, верно — с водкой в человека входить кто-то веселый, — в голову мыслями смешными, в ноги пляской вползает...»
Развязывает он деньги, дает их Сергушке: «достань, мол, водку...»
Сидят за столом оба тунгуса. Пред ними нарубленная кусками строганина, соль, хлеб и водка. Пьют стаканчиками, хмелеют. Лица красные — разгорелись. Глаза смеются. И оба говорят, говорят...
— Степан Николаевич пришел, — громко рассказывает Митрофан Сергушке, давно уже знакомое тому, — пришел и говорит: ты меня, мол, Митрофан Сппридоныч, прости... Я тебе на весну приплавлю водки полведра, сахару, сукна — все даром... даром. Ты прости... — Ну, я простил. Как не простить? мужик хороший... Полведра... Вот и прощу. Самому большому начальнику скажу: прощаю Степана Миколаича... прощаю!..
Громко отдается в кухне голос Митрофана.
Сидят по лавкам, у стен молчаливые крестьяне. Поглядывают на пьющих тунгусов. Слушают.
Потом по одному подходят к столу. Сначала с краешка присаживаются. Потом вплотную придвигаются к тунгусам и наливают сами себе тунгусову водку. И пьют.
И то поддакивают пьяним речам Митрофана и Сергушки, то вступают в спор. И разгораются. И пьянеют...
— И врешь! — говорит один старый: — врешь, паря! Не смеешь ты прощать... Не дадут тебе. Не допустят.
— Врешь! — поддакивают другие. И только немногие держать сторону Митрофана. Говорят, что, верно, — волен он простить свою обиду — и никто ему в этом перечить не смеет...
Спорят мужики меж собой, а в пьяной голове Митрофана нет веселья. Тяжело только — клонит ее на стол, а радости нет. Веселых мыслей нет...
Долгую зимнюю ночь пьют мужики с тунгусами. Полегли уж Сергушка да те, кто до дому дойти не смог. Только сидит один Митрофан и бормочет что-то воспаленными губами.
III.
Так сидя, он и уснул. И на утро поднялся с тяжелой головой, с тяжелыми мыслями. Оделся и ушел бродить по деревне.
Билый мороз охватил его горячий лоб, поцеловал ледяным поцелуем желтые щеки. Белый мороз освежил отяжелевшую голову, но тяжелых мыслей не разогнал.
Ходить Митрофан один по деревне. Вышел на дорогу, извившуюся по реке. Один он, — а мыслей с ним много.
И все вокруг одного вертятся те мысли:
— Беда! и так беда, и так беда!
Простить Степана Николаевича, да перед большим начальником неправду сказать — урядник накажет, Оксари накажет... сказать правду про Степана Николаевича — совесть замучить: мужику слово дал, что простит... И будет совесть в тайге ходить по следу, будет путать след, будет заводить не туда, куда нужно, будет совесть пугать в темной тайге криками страшными, воем несказанным, хохотом диким...
Ходил, ходил тунгус по дороге, вернулся в деревню. И первый, кого встретил он, был вчерашний урядник. Стоит перед ним, громко говорит:
— Скоро вызовут тебя, Саладкин, — говори правду, а не то...
Не сказал он, что будет, если не скажет Митрофан правды, но почувствовал тот в сердце своем небывалую слабость. И еще больше почувствовал он эту слабость оттого, что скоро, совсем скоро, предстанет он перед большим начальником и должен будет говорить тому правду... А какую правду скажет?
С мороза входит Митрофан в жаркую избу, — из избы снова выходит на мороз. Тяжело тунгусу — места себе не может найти.
И долго так томясь, вдруг смутно ощущает он новую мысль:
— Нужно что-нибудь сделать!
Скоро, ох очень скоро позовут, прикажут говорить правду. Скоро!
— Нужно что-нибудь сделать!..
У человека мало мыслей: все они вокруг двух вертятся — вокруг жизни и смерти.
Истомясь мыслями, натолкнулся Митрофан на одну: — Смерть.
Точно в тумане развязал он спой патакуй, переодел рубаху, шубу подпоясал новым кушаком. Нарядился, точно на свадьбу.
Смотрят окружающие на Митрофана и соображают: «на суд идти готовится тунгус, наряжается...»
Вишел Митрофан из избы.
Не оглянулся. Пошел.
И твердый шаг был у него: по знакомой дороге шел он. За деревней, у гумен он остановился. Присел на корточки у стены. И задумался.
И ровными рядами прошли перед ним мысли.
Вспомнился лес густой, укрытый снегом; вспомнился чум родной с веселым огоньком, со вкусным дымом. Вспомнилась баба с ребенком. Веселая речка, бегущая с хребтов. И тальники гибкие, и вереск пахучий, и мох мягкий... Вспомнились чуткие олени и собаки верные... Все вспомнилось. А потом пошли другие мысли.
Вой и крики, и удары бубна. Шаман, заклинающий духов, Оксари, которого нужно просить, который грозою в лесу и пожаром приходит, мором и болезнью и страшным зверем карает... Церковь освещенная и пение молитв...
Вся жизнь...
А потом стало пусто па душе. Не стало мыслей, которые гнетут и пугают.
Тогда поднялся Митрофан па ноги. Вытащил из-за пазухи припасенную бечеву. Пополз по столбу на редкую жердяную кровлю, и там одним концом укрепил эту бечеву.
И другой конец связал свободной петлей...
Потом ощупал он рукой, освобожденной от теплой рукавицы, шею, надел чрез голову петлю, и сидя па крыше, опять одел рукавицу.
Весь встряхнулся. Взглянул на деревню. Поднялся. Прыгнул...
И обожгла голову какая-то великая, необъятная, как весь мир, мысль... Обожгла и улетела...
Тихо качаясь на бечеве, весь вытянувшись, висел Митрофан. Было лицо у него спокойно и руки вытянуты вдоль тела. Был он праздничен, как жених...
Тихо качался в морозном воздухе.
ЗЛЫЕ ДУХИ.
I.
Злые духи уже давно вошли в Анну. Еще до замужества погуляет бывало с ребятами в какой-нибудь праздник — ну, духи-то и начинают ее мутить. Сколько раз на себе все разрывала, под руку что попадет изломает. Беда...
Все-таки замуж она вышла. Отец Анны калыма взял за нее мало, а сам выдал много: оленей, муки яшной, водки па гулянку-свадьбу; да всякой мелочи вдоволь. Вот мужик-то и нашелся. Хороший тунгус. Промышлял богато, ружье хорошее.
После замужества духи редко сперва трогали Анну.
Только разве потрясут ее малость, да отпустят. Но все же не выходили из нее совсем.
Три раза приходил старый шаман, все выгонял из Анны духов. Может он все — шаман. Три раза — каждый раз — оленей черных резали, Анну кровью шаман мазал: лоб, чтобы в голову злые духи не ударялись, руки — чтобы зла ими не сделала. Не помогало. В третий раз, кроме оленей, велел шаман собаку черную привести. Всю черную, чтоб нигде не блестела светлая шерсть. Дали ему собаку черную. Зарезал и ее, как оленей, да кровь собачью пил.
Но и на этот раз не помогло. Тогда ушел шаман, сказал:
— Сильны духи; еще не пришло для них время; еще будут в Анне.
Так и осталась Анна со злыми духами. Кругом — в тайге по тундрам — народу много ходило — и все без духов. Никого не трогали они — злые духи. И только Анна одна угодна им стала.
Стала Анна женой Ермила-тунгуса, будто духи и отпустили ее. Только ненадолго. Придет праздник, наедут тунгусы, водку пьют, песни поют. Выпьет и Анна, а как выпьет — побелеет, закружится по чуму, дико кричит, на всех бросается, — насилу уймешь. Увидит топор — за топор схватится, — увидит ружье — к нему бежит. Все нужно от нее прятать: не спрячешь — беда придет.
А отойдет Анна, отпустят ее злые духи, — затоскует, темная, молчаливая ходит. Тяжело ей. К Ермилу подсядет, если он дома, вздыхает. Жалко ей его. Жалко, что вместе с нею взял он к себе в чум и злых духов.
Родился у Анны первый ребенок. Мальчишка вышел черноволосый, черноглазый, крепкий мальчишка.
Повеселела тунгуска. Нянчит ребенка, кормить его, не нарадуется. Еще совсем он крошка, не смыслить ничего, а она о том думает, что охотник хороший растет из него, и красивый то он будет, да богатый, да удалый...
Только злые духи не дремали. Еще году мальчику не было, приехал поп крестить тунгусских ребят, покойников отпевать. Раз в год ездил, так всех, кто за год народился или помер — в раз и поминал и крестил.
Покрестили и Анниного мальчика. Миколкой назвали, хоть Анна его уже раньше по-своему окрестила: Джаличи, что значить — умный.
На крестинах водку пили; батюшка о. Савватей всегда с собой водку по стойбищам в угощение тунгусам возил.
Выпила и Анна. Снова духи овладели ею. Стала опять на людей кидаться, кричать. Чуть маленького Миколку не зашибла. Увидев, что делается с тунгуской, батюшка говорить:
— Эх, припадочная... Лечить нужно. Лекарствами.
Качают головами тунгусы:
— Какая припадочная? Духи поселились в нее. Вот и мутят. Шаман ничего нс поделал. Какая припадочная...
Нахмурился батюшка. Осердился.
— Опять с шаманами путаетесь... Крещеные — а с шаманами. Не хорошо, не хорошо... Бог ей не поможет.
После этого разу, как очнулась Анна, стала она грустить еще больше, чем до рождения ребенка... Сядет в чуме па корточки, смотрит на сына, как тот возится, пыхтит. Смотрит и не улыбается. Потемнела вся, исхудала; всякого стука стала бояться, вскрикивает. С ребенком стала по-новому обходиться. То схватит его па руки, целует головку, ручки, крепко к себе прижимает. Песни ему поет. Никому на руки не отдаст... А то: не подходит совсем, будто боится его. Издали смотрит на него, руки ломает, пальцами хрустит, да про себя что-то бормочет...
Говорили родные Анны шаману:
— Плохо с бабой... Лечи...
А шаман, злой станет, глазами водить: — осердила, говорит, Анна духов. Нет ей помощи... — Потом губы злобно скривив, прибавит: — с попом говорили... Зачем говорили? злили духов сильно.
Так Анна и жила. То выйдут из нее духи. Злятся. То спрячутся — нет их. Где и прячутся?.. То крепко любит ребенка — можно бы и меньше, а то и не смотрит на него, уходит, боятся дитяти.
II.
Осенью, еще снегу не было, тепло удержалось, схватили духи Анну. Выбежала она из чума. Глаза круглые сделались, остановились, лицо побелело, как снег. Мечется она по пожелтевшей траве и кричит. И крик у нее острый, как нож.
У чума на поляне играл Миколка. Ползая, траву ручонками рвал, к глазам подносил и счастливо смеялся. Увидела его Анна, точно приостановилась, а потом к нему.
Миколка потянулся к ней, бросил траву. Потом вдруг заревел и стал пятится обратно. Может быть, увидел глаза у Анны, — может быть и духов почуял. Дети знают... Анна тоже что-то, видно, почуяла и побежала от него. В чум ворвалась, стала метаться, как подшибленная. Все по чуму разбросала и поломала.
Попался ей на глаза топор — блестел он над тлеющим камельком. Красноватым пламенем блестел.
Схватила его и па улицу. Тут уже люди бегут на крик. Увидела их Анна, топором машет, хрипит: нельзя разобрать что. К Миколке подбежала. Только раз топором взмахнула и отпустила. Расколола головку.
Схватили люди Анну, держать. Крик кругом стоит, вой.
— Что, Анна, сделала?.. Миколку зарубила!
Грохнулась тунгуска на траву, — память у ней отшибло...
После этого, как отошла Анна, — ничего не помнит.
Старухи рассказывают ей:
— Джаличи ты своего, баба, убила. Топором... крови-то, крови сколько вышло, — страсть... как из оленя... Шибко, шибко духи тебя, баба, доняли...
Услыхала Анна — молчит, только белее ее и снега не бывает. Шепчет что-то, скулит тоскливо, как голодная собака.
Старухи испугались.
— Пошто не воешь? Вой, Анна, вой...
Потемнел и Ермил. Тоже молча ходит. Не говорит ничего Анне. Тяжело видно ему...
Приехал шуленга [* Родовой староста.]. Говорит Ермилу.
— Везти в волость бабу нужно.
— Повезем завтра.
На завтра и повезли.
Все молчала Анна. Бледная, глаза впали, а молчит. Но Ермил дорогой тоску с сердца согнал и ругается.
— Скоро белочить идти надо; время пропадет... Мальчика нет... белки не добудешь, — беда...
В волости тоже молчала Анна... Только, когда спрашивать стали ее — записать нужно было, как Анна ребенка своего, своего Джаличи убила, — только тогда она говорить стала...
Плакать и говорить...
Смеялись волостные над тем, что, мол, духи убили Джаличи... духи, а не Анна. Очень смеялись.
И вздыхал Ермил.
После допроса велели Анне в волости остаться — домой, сказали, нельзя отпускать: преступница она большая.
И Анна осталась.
Остался Ермил. Куда пойдет? Как оставить Анну? а если духи снова овладеют? да и тоскливо ей одной... Боязно...
Вечером выходила Анна на крыльцо, — пускали ее... Садилась на ступеньки, голову руками подопрет и качается из стороны в сторону, и что-то невнятно бормочет.
Ермил сядет возле нее, глядит на небо, губами чмокает. Говорит:
— Белочить пора. Ах, пора... Время уйдет — беда. И до поздней ночи сидят они оба.
До самых утренних звезд...
НИКОЛАЙ-КРЕСТИТЕЛЬ.
I.
Как только приплыли купеческие шитики с товаром к низовым тунгусам, вместе с другими пришел и Юхарца с дочерью Чупалой. Старики древние — обоим лет полтораста будет. Лица сморщенные, темные, рты беззубые, глаза выцвели.
Зашел старый на шитик, робко вслед за ним и Чупала. Низко кланяются, часто встряхивают седые головы, гнуть разбитые спины.
Хозяин... Николай Гаврильич! — окрикивает старый приехавшего купца.
— А! за покруту принес? — оборачивается тот и слабое подобие улыбки скользить по скуластому опухшему лицу:
— Давай, давай...
— Покрута... это как же, Гаврильич! покруту надо, надо! — торопливо говорит Юхарца; а в голосе его дребезжащем, и в глазах мигающих трепещет беспокойство, какое-то недосказанное желание.
Но не слушает его Николай Гаврилыч, не замечает стариковского замешательства. Берет он белку из рук Чупалы, быстро считает ее, привычным движением, отбрасывает в темную груду белок. Некогда ему. Долги собирает с тунгусов.
Знает это старый. Конечно, не надо мешать. Молча сходит с шитика, идет по берегу, садится на молодую травку и закуривает. Рядом с ним садится и Чупала. Тоже развязывает кисет. Тоже курит. Молча сидят оба старые и ждут. О чем-то думают, выпуская из беззубых ртов сизый дым. Щурят глаза, сплевывают, слюняво сосут трубки...
Возится Николай Гаврилыч с принятой белкой. Вместе с приказчиком Ларионом набивает он ею большие кули, зашивает их и складывает под брезенты.
Разошлись по берегу тунгусы, унесли за собою все, что нужно было, пьют где-то водку, поют однообразные песни и громко с визгом ругаются матерными словами.
Снова подходят к шитику старый с дочерью. Нерешительно останавливаются пред Николаем Гаврилычем.
— Хозяин!... Миколай Гаврильич! — говорит он опять. — Маленький деля говорит хочу...
Смеются Николай Гаврилыч с приказчиком: дело! какое дело у старика такого? Промышленник он уже теперь плохой, сам ничего не добудет за покруту и то сородичи насобирают, надают. Какое дело?
Тихо подтверждает и Чупала.
— Деля сказать надо... деля!
Тогда перестает смеяться хозяин.
Важно выпячивает он нижнюю губу, грудь вперед выставляет:
— Говори дело-то! да толком.
Обрадовано торопится старый сказать. Путает привычные тунгусские слова с тяжелыми русскими, заикается, брызжет слюной:
— Шаманство мало-мало другой надо... Оксари [* Бог.] ваш хочу... Микола Годник... Мой шаманство совсем худой, совсем ничего не может... Твой ая-какун [* Очень хороший.]... всегда может...
Кончил старик. Все, что надо было, сказал, и нет больше слов в старой голове.
Лицо Николая Гаврилыча расплывается в широкую улыбку. Нос вздрагивает — так хочется без удержу расхохотаться; кривится и Ларион: веселым смехом зажигаются его глаза. Но оба сдерживаются.
Гладить рукою подбородок свой Николай Гаврилыч, вздымает глаза к небу:
— Да-а, — тянет он, — что правда, то правда. Николай-то Угодник почище твоего шамана будет... Это верно... да ненадежнее!..
Гадостно кивают старые головы: ах, верно! ах, верно говорить Гаврильич!..
— Только совсем ли ты готов принят таинство крещения? — медленно и веско продолжает Николай Гаврилыч. — Приготовился ли ты, старик?
Никнуть головами и Юхарца и Чупала.
Запинаясь, отвечает старый:
— Будто готовился, хозяин... Мало-мало белка есть. Бунта два будет, а то и больше...
Горят и переливаются искорки в глазах купца и приказчика. Уже не смех ползет по лицам их. Щурятся веки и губы складываются, точно глотают.
— Ага, — удовлетворенно мотает головой Николай Гаврилыч, — что ж, креститься можно. Вполне даже можно.
Радостной надеждой оживает лицо старика. Придвигается он ближе к купцу, дышит на него запекшимся ртом.
— Крести, Гаврильич, ах! крести пожалста!..
И, точно заученное, упорно заученное, тянет за ним Чупала:
— Крести, пожалста... Крести...
... Желтые старые тела. Сбежалась и отвисает ненужными складками иссохшая кожа на выступивших угловатых костях. Зябнут старые тела в холодной весенней воде. Но покорно склонились головы. Глаза глядятся в зыбкую воду и следят за изломленными чьими-то лицами там, внизу.
Над нагими, погрузившимися в воду, стариками, на самом краю берега, стоит Николай Гаврылыч и читаег «Отче наш». Рядом — приказчик Ларион с зажженной стеариновой свечкой в руках испуганно крестится и шепчет беззвучно молитву. А немного в стороне маленькая кучка пьяных тунгусов. Глядят они на стариков, на Лариона, и в их глазах отражаются отсветы стеариновой свечи, трепетные отсветы...
Кончил Николай Гаврилыч молитву.
— Вот, кончено! выходи, — коротко командует он. Покорно выходят старые на берег, отряхиваются, жмутся, дрожат. Но спохватился Николай Гаврилыч: он забыть что-то.
— Годите!.. Имена-то вам другие нужно дать... — Задумывается он не надолго. Толстые морщины силятся удержаться па лоснящемся лбу. — Ну вот... ты теперь будешь Псоем, а ты... Неонилла...
Подходить приказчик Ларион, подает два медных крестика... Ласково обхватывают гарусные гайтаны старые жилистые шеи.
Одеваются старые. Меж собою о чем-то говорят. Оправляют на груди холодящие тело кресты.
Отдали белку Николаю Гаврилычу. За крещение. Смотрят, учатся, как нужно крестное знамение творить. Непослушные пальцы неуклюже складываются в щепоть. Рука прыгает по лбу, по плечам, по животу...
... Отъезжая с шитиком обратно домой, Ларион конфузливо говорить хозяину:
— Как бы, Миколай Гаврилыч, тово... греха не вышло от духовенства?..
Долгим взглядом окинул его хозяин с ног до головы, долгим взглядом, в котором отчетливо, без слов начертано: «молод... несмышленыш!..»
II.
Ревет и трещит весенняя гроза. Носится буйно грозовой ветер по тайге. Мгновенным пожаром зажигает молния лес. Шумит крупный дождь, бьет о бересту чума, ручьями скатываясь на землю. И жадно впитывается ею, еще не согретой, еще помнящей пленение зимней стужею.
Против Юхарцы в полутемном чуме сидит Николай-тунгус. Молчит старый и слушает долгую речь молодого. Голову опустил старый: точно учите его Николай-тунгус, молодой Николай.
— Обманул, обманул, Гаврыльич!.. Как же. Крестить разве так нужно? Эхе-хе... Попа нужно — шамана русского: шамаск [* Шаманское облачение.] на нем весь золотой — так и горит. Волосы долгие, крест в руках большой, укладня больше будет, тоже блестит... Песни петь должен поп-то долго, долго... Вот как!.. Тогда хорошо... А Миколай Гаврильич обманул... совсем обманул.
Складываются в старой голове громкие слова, — в понятную мысль складываются: «верно, обманул, обманул».
— Мазать голову нужно... — не останавливается Николай-тунгус, — пахнет хорошо, чем мажут-то... Вот как!.. Чашкой медной на цепочках качать во все стороны: и на солнце, и позадь себя, и по обе руки... Огонь жечь в чашке да серу вкусную сыпать на него... Вот как... вот креститься нужно как!..
Горит ярче, все ярче горит, обидная мысль: «обманул... совсем обманул!..»
И в темном углу чума, за инмоками и патакуями [* Ящики из бересты, оклеенные мягкой оленьей шкурой.], за оленьей постелью, копошится Чупала и тянет плаксиво:
— Обманул!..
Свернулся на постели старый Юхарца, голову от огня отвернул в темноту. Слышит он вздохи Чупалы и кипит злобой. Болью и обидой ударил по сердцу обман Гаврильича. Болью и обидой. И белки даром пропали, и к русскому Богу не перешел...
Слышит грохот и вой грозы. И не знает старый, кто это гневается: шаманские духи или русский Бог, Микола-Годник? и за что гневается?.. И не знает старый, кто огонь сверкающий посылает сверху, чтоб покарать старую голову?.. Страх заползает в потревоженную душу.
Чего бояться? Разве впервые гроза весной приходить? Разве погас огонь, и нет вокруг покатых стен чума?.. Непонятный страх вползает в душу.
И в отчаянии пытается старый Юхарца вспомнить шаманские заклинания, пугающие злобных духов... И в отчаянье силится он пальцы сложить в щепоть, чтоб оградить себя от страха крестом. И неумело крестится старый иссохшей, трясущейся рукой...
Свернулся Юхарца в комок... А старые кости плохо гнутся. Весь обвеян он страхом. Большим страхом. Большой обидой...
---
Поит водкой Николай Гаврилыч отца Митрофана. Каждый год так заведено — попа угощать. Уже много выпили оба. Красные, глаза осоловели.
Вдруг хохочет Николай Гаврилыч. Вспомнил что-то. Смешное, должно быть.
— Бать, а бать!.. — окликает он пошатывающегося батюшку: — послухай... а я ведь заместо тебя тунгусов двух окрестил. Ей-Богу!.. ха-ха-ха!..
Смеется о. Митрофан. Трясется черная борода, прыгают волосы со лба на глаза, с глаз на уши.
— Здорово!.. Ты, брат, этак харч мой весь отобьешь! Смеясь рассказывает Николай Гаврилыч, как дело было. Смеясь, слушает о. Митрофан. Только изредка одобрительно басить:
— Ловко! ловко, брать!.. Ай-да Николай Креститель!.. Толпятся в избе крестьяне. Тоже слушают: занятно Гаврилыч рассказывает. Тоже смеются.
Выходит из толпы мужичонко. Совсем паршивый мужичонко: борода в клочьях, решменка изодрана. Пьяный. Только глаза блестят не по-пьяному. Выходит и матерным словом, большим матерным словом бросает и в попа и в Гаврилыча.
А потом уходить из избы.
И слышно сквозь окна, сквозь стены слышно, как яростно кричит он:
У-у, гадины!.. У-у, язви вас!., и веру-то опачкали!.. Сквозь окна, сквозь стены несется яростная матерная брань...
СМЕРТЬ ДАВЫДИХИ.
I.
Рано добралась Давыдиха до хребта, где сосновый лес кончается. Здесь уж можно и отдохнуть. Место известное: каждую зиму выходят сюда навстречу друзья-купцы русские. Белку берут, соболя, горнака, сохатину...
Развьючила Давыдиха оленей, сложила на снег патакун, сумы и иссохшие, застывшие па морозе сохатиные шкуры. Снег разгребла поближе к прилеску, чтоб ветром меньше хватало. Холодно с ним — с ветром. Скоро запылал и костер. Старуха набрала в котелок снегу, поставила на огонь и закурила трубку, глядя на длинные огненные языки, взвившиеся вверх в морозном воздухе. Неподалеку присели все ее три собаки.
Зимние сумерки только-только стали надвигаться и заволакивать лес. Еще желтела на западе яркая полоса, в которой вспыхивали красные блестки. От собак и Давыдихи, освещенных мигающим светом костра, который заканчивался где-то высоко клубами серого дыма, ложились по снегу синие тени. Изредка тихо визжали собаки, зевали и били обледеневшими хвостами по снегу.
Думает Давыдиха: «конец промыслу. Хороший нынче он. Вот у ней много белки п горнаков. Есть и соболь. Один только. Ушел теперь соболь подальше от людей. Раньше — в молодые годы Давыдихи — больше его было. Зато купцов меньше было, денег и водки меньше давали».
Усмехается старуха: вспомнила — как она, еще девкой будучи — асаткан, все удивлялась — зачем купцы приезжают за белкой и соболем, — почему сами не промышляют. «Разве — думала она тогда — нет ружей у них и мало пороху? разве не у них покупают все иллель [* Тунгусы, вернее — люди.] ружья и свинец, и порох?.. Или мало места в тайге — и не хватить для всех пушного зверя?..
Теперь Давыдиха сделалась большой он-око [* Старуха.], — состарилась — все поняла, все узнала, все видела. Многое-многое. Разве кто другой по Чайке больше видывал, чем старая?
Умер Давид, взяла она его ружье, его пальму — пошла сама промышлять. Чум оставила; ребятишки в нем маленькие — да им что? Они вырастут сами, а она пойдет промышлять... Узнала Давыдиха многое. Да. И купцы ее знают. Сама Палагея Митревна покрутилась с ней — навстречу ей выходит с водкой, — много водки выносит, потому знает, что Давыдиха не с пустыми руками тоже придет с промысла...
Вот и теперь, белку сдать — нужно взять орошмы [* Ржаная мука.] побольше, яшну [* Ячменная мука.], соли, чаю. Красный товар нужно тоже. И больше всего — водки.
На все хватит! — и торжествующе глядит старуха в ту сторону, где лежат патакун и сумы. Темно там, сгрудились тени, покрыли все. Тихо, только олени чутко стоят и поводят ветвистыми рогами — слушают.
Вскипела вода в котелке. Долго пьет Давыдиха горячую воду: чай давно вышел, мало его было. Выпила воду, опять задумалась. Много раз разжигает трубку. Затягивается — клубы вокруг разбрасывает, всю себя дымом загораживает.
Маленькие мысли у Давыдихи: все лес — только он один в голове. Каждая тропка оживает, каждая речка. Точно живые. Может и впрямь живые...
Подошла одна собака. Ткнулась мордой в колени, хвостом помахивает... дремлет Давыдиха...
II.
— Ой, ниру [* Друг.]... Здравствуй!..
Ожил лес от крика. Прыгают собаки, лают. Только не сердито: точно здороваются с чьими-то чужими.
Поднялась старуха; заспалась немного. Глядит — сама Палагея Митревна «покручника» своего встречает.
Хорошо живет Митревна: толстая, жирная. Лицо круглое, белое...
— Здравствуй, — говорит Давыдиха. — Садись к огню.
Пошла коня отводить к стороне, смотрит в нарточку: много ли водки Палагея Митревна привезла. Много! Повеселела старуха. Хлопочет около купчихи.
— Холодно нынче. Греться будешь? Воду кипятить будем. Ладно?
Сидят обе женщины возле костра. Поодаль собаки; пять их теперь с чужими. Ярко горит сушина, потрескивает. Кругом костра нависла темнота. Слабо синеют деревья. Только иногда, — как пыхнет от ветра огонь, — выхватит он из тьмы ряд уснувших деревьев, осветит на миг. И опять спрячет. И кажется — тут они, вот близко, и — не близко.
Пьют обе старухи водку. Больше налегает Давыдиха. Залоснилось широкое лицо, глазки блестят: хорошо! Не слушает, что ей говорит Палагея Митревна. Только головой поматывает:
— Да, мол, белка есть, много нынче белки. Вышла она... хорошая. Подпали мало...
Пьет Давыдиха. Отошла от нее гостья в сторону. Роется в тюках, по потакуям, — пушнину отбирает, в нарточки к себе переносит. А из нарточки новую бутылку водки несет — крепкую, чистый спирт...
Маленькие мысли у Давыдихи; думает:
«Ой, баба — Митревна!.. все с работником ездила покручников встречать. Теперь — одна... Никого не боится. Водку крепкую привезла. Хорошая баба... Белку возьмет. За белку много, много водки можно взять... Много!»
Залаяли собаки. Подошли к Давыдихе, глядят, то на нее, то на гостью, которая в дорогу собирается; лошадь обряжает, дохой поклажу прикрывает.
— Пошто едешь? — лепечет Давыдиха.
Тяжело у ней в голове, слова плохо на язык идут. Тянется за Палагеей Митревной, не может подняться: «ишь, как водка греет!»
Засмеялась старуха — заливается от хохоту. Весело. Да и светло кругом. Жарко стало — пояс силится развязать, чтобы охладиться. На собак кричит — пронзительно, с хохотом же. А все светлей кругом, да светлей. И собак уж нет, и лес-то другой — точно на Чайке. Чум. Люди ходят — тунгусы. Ребятишки смеются — звонко, так что в ушах отдается, ползают, хватают Давыдиху за унты, за руки, за лицо... Весело... Кружится все. Кружится — быстро так...
Собаки обступили Довыдиху. То одна, то другая ткнет ее мордой в грудь, в колени. Одна лицо лизнула. Проголодались собаки — трогаться в путь пора. Солнце — зимнее, тусклое солнце уже трогает верхушки леса, побелило пролески. Костер чуть тлеет... Не подымается Давыдиха, вот уже и снегом ее стало порошить — заносить.
Жалобно скулят собаки, поджимая лапы...
III.
Утром Палагея Митревна работнику говорит:
— Поехать надо, Прокопий, — Давыдиха уж, однако, вышла.
Снарядились, водки взяли. По целому снегу поехали, до места добрались. Ахают.
— Ах ты, — беда! Замерзла Давыдиха. Водки где-то достала — опилась... Белка цела, — мало она нынче набила. Ах ты, беда!..
— Хороший покручник был!..
Собаки воют возле мертвой старухи. Лают па Палагею Митревну, — злые.
Домой приехали, Палагея Митревна рассказывает про горе:
— Замерзла Давыдиха... Дети у ней, у бедной, остались на Чайке. Ну ладно!.. белка вот осталась от покойницы, хоть и мало ее, да все ребятишкам, да родичам кой-что и наберется.
Стоят, слушают другие тунгусы — покручники Палагеи Митровны, думают:
— Умная баба — Митревна. Хороший друг: ребят Давыдихи жалеет, вспоминает. Добрая баба...
МЕСТЬ.
I.
Накурца свистнул собак, оглянул вокруг чащу, усмехнулся и громко, протяжно крикнул:
— Степан... О-эй. Степа-ан!
Три раза повторил свой крик, и издали, в затишье леса, протянулся, слабый ответ.
— Иду! иду-у...
Тогда Накурца скинул с плеча ружье, прислонил его и пальму к тяжелой листвени, грузно насевшей над мелкой зарослью тайги, и закурил.
И пока Степан, изредка подавая о себе криками знаки, медленно подходил к нему, он все в последний раз обдумал, крепко привязавшись к мысли, беспокоившей его вот уже несколько дней...
Вышло это так просто.
Степан — друг. Пошли вместе белочить, сохатить. Накурца знает места, Накурца нрав звериный чует. А Степан в этой тайге не бывал еще. Как другу не помочь? Промысел пополам разделить, в Каче, в деревне Степановой, погулять бы после жизни лесной, после нульгичанья [* Нульгичит. — делать дневной переход.]. Так бывает. Часто так сходятся крестьяне с жителями таежными. Почему и Накурце не сделать так? Вот и пошел с другом.
Только неладное что-то пришло.
У Накурцы жена молодая, Тугарила, в чуму у огня сидит, женскую работу справляет. В безлюдном лесу, среди деревьев молчаливых у двух мужиков женщина одна. Плохо это. А еще хуже — Степан дружбу ломает. Степан на готовое пришел, на мужнюю жену заглядывает...
Зачем три дня назад больным сказался — в чуме остался, не пошел с ружьем? У Тугарилы лицо почему огнем горело вечером, когда Накурца с промысла пришел?... Плохо это!
Вспыхивают гневом глазки у Накурцы. Сопя, раскуривает трубку: искры сыплются из нее.
А Степан уже близко. Прибежали его собаки, виляют хвостами, вертятся вокруг Накурцы...
— Зачем звал?
Глядит тунгус на Степана. Рослый, в решменке новой, натруска бисером шитая, шапка ушанка. А из-под шапки лицо широкое, задорное улыбается:
— Пошло скликал?
Лениво подымается Накурца с места.
— Будем одним следом промышлять... Место тут хорошее... Так добыть можно, что и подумать не подумаешь... Разойтись малость надо. Пусть Степан в сторону подастся, па полдень. Там три листвени близко сошлись, братья, должно быть, а от этих лиственей хребет пойдет. Подле хребта речка извилась, Дюкдялякан. Вот по ней-то и идти нужно. Там промысел...
Слушает, улыбается Степан. Маленько привык он по незнакомому месту ходить. Дюкдялякан найдет. А где сойдутся они к закату вечернему?
И пояснил Накурца, что по речке Дюкдялякану будет долинка — разбегутся там хребты подальше от берегов, и на марнике увидит Степан побитую грозою сосну. Там пусть ждет вечера, ждет товарища...
Покурили, помолчали. Все сказали друг другу, что нужно было. Теперь можно уйти к хорошему промыслу...
Разошлись.
II.
Целый день попромышляв, отправился Накурца к стойбищу. Молчаливые собаки забегали вперед, приостанавливаясь и глядели на хозяина. Они чуяли, что в стороне от их тропы не вьется другая, не идет утомленный Степан.
Накурца несколько раз прикрикнул на них и они, покорные, трусцой плелись к жилищу.
У самого чума, где они подняли радостный лай. Накурца задумчиво остановился, потом сердито рванул полог двери и вошел в тепло.
В сумраке чума, слабо озаренного огоньком костра, Тугарила готовила ужин. Па шум обернулась, взглянула па мужа, побледнела.
И он, не глядя па нее, сорвал из-за пояса связку набитых за день белок, ширнул ее ей в лицо и громко, по-русски, матерно изругался.
Тугарила вскочила па ноги, отбежала под пологий скат жилища и забилась там, крепко зажав руками лицо.
Медленно скинул с себя Накурца теплые одежды, по обычному развесил на место оружие, подошел к огню и вытянул руки ладонями вниз над камельком.
Потом зевнул, кряхтя уселся на корточки и благодушно, усталым голосом, кинул в угол, туда, где замерла жена:
— Где у тебя еда, кушка?..
Женщина торопливо выползла на свет. Суетилась, подавая маленькие колобки, сушеное мясо, жареную на деревянном рожне куропатку. И беспокойными, обманными, покорными глазами побитой глядела на мужа, наблюдала, как он ест, желая предупредить его желания.
Подложила дров в камелек. Раскинула ираксу, взбила подушку — приготовила мужу постель.
Вышла из чума, чтоб за оленями доглядеть, но остановилась неподалеку на полянке, в той стороне, откуда должны были вернуться двое — муж и Степан, а пришел только один, и пристально глядела в чащу тайги, терпеливо ждала.
Но не дождалась, вошла в чум обратно с охапкой свежих, светло желтевших дров и застала там Накурцу уже засыпающим, докуривающем пред сном последнюю трубку.
Собрала к себе на колени сырую и изорванную одежду мужа, переглядела ее при свете ярко вспыхнувшего пламени. Забылась в привычной работе. Изредка только отрывалась от нее, подымая голову и застывая в ожидании.
Слышала шорохи извне, различала обманные шаги, шага того, кто не придет.
Изредка украдкой взглядывала на спящего мужа, и тогда в глазах у нее на мгновение вспыхивало негодование. И заскорузлые пальцы сжимали судорожно иглу.
В полночь Накурца неожиданно поднялся. Позевывая, почесал он поясницу, покрутил головой и подошел к сложенной, уже высушенной н починенной одежде.
Сумрачно поглядел он на Тугарилу, застывшую над какой-то ненужной работой у огня.
— Спи! чего не спишь!..
Женщина молча вздохнула и поползла на ираксу.
Накурца оделся по-охотничьи, наполнил порохом натруску, потрогал пальцем лезвие пальмы, которое сине блеснуло над огнем.
Видела забившаяся на мягкую постель Тугарина, что муж собирается куда-то далеко. И не могла она понять: па доброе или нехорошее идет он.
Если на доброе, зачем тогда бросил где-то Степана, друга, а если злое замыслил, так почему лицо у него такое озабоченное, и злости вовсе нет на нем, а мелькает одно лишь беспокойство.
И не могла она понять, а сердце сжалось у нее — больно и томительно.
И когда выходил он из чума, наклонившись перед низкой дверью, испуганно и робко окликнула она его.
— Куда поздно с ружьем идешь?
Задержался на мгновение Накурца для ответа, обернулся бистро:
— Спи, лисица...
Так и крикнул громкое: «хулаки» [* Лисица.], обиду горькую...
На морозе Накурца оглянулся. Темнело осеннее небо с редкими звездами и белой пеленой па севере — отблесками Великих Столбов. Шумели деревья обнаженные, и гул вековой над тайгой стоял.
Подумал тунгус: «Лучше и не надо ночи, чтобы заблудиться...»
Надел пистон па капсюль, тихо щелкнул курками! погладил ствол, слабо запотевший на холоде.
Отчего-то вздохнул. Опять подумал:
— Не маленький... Огонь раскладет. Собаки с ним. Ночь промается, а днем выйдет куда-нибудь.
Но поймал себя: никуда не выйдет!.. Жилья живого не найдет.
И еще вспомнил, большое, важное, что может быть, и не забывал: А хлеб, хлеб-то из поняшки кто у него вытащил тайно? А есть что будет?..
Решил Накурца, что пропадет в тайге, в бездорожье Степан, друг, что неоткуда ему помощи ждать. И жалко стало товарища. Таки же жалко, как и в чуму, на ираксе, когда, обессиленный бессонницей, встал он, снарядился и вышел сюда...
Но в жалость воспоминанье злобное впилось.
Зачем Степан Тугарилу захотел? Зачем на чужую жену польстился? Накурца, когда к Степану в деревню приходит, — не льстится на Степанову жену. Накурца в Степановом жилище хозяина не обижает, крова гостеприимного не сквернит! Не хорошо!..
Только — не хорошо и друга на погибель отправлять. Сказал ему дорогу верную — прямо в тайгу темную, как медведя в кулему заманил. Обманул.
— Не хорошо!..
Постоял еще немного тунгус. Трубку успел выкурить. Трубку выколотить успел да в кисет завернуть, да кисет за пазуху положить.
И надумался. Быстро зашагал во тьму ночи, в чащу леса.
IIІ.
Вышел Степан, идучи на полдень, к трем лиственям. Долго пришлось идти, а добыл он мало. Не видно стало белки. Уже солнце забагровело и низко опустилось над лесом, касаясь краем своим верхушек дерев, и только тогда вышел он к трем лиственям.
Отдохнул немного, оглядел: видит, хребтик небольшой стороной ушел. По этому хребту и направился Степан. Там, знал он, — внизу речка Дюкдялякан тянется.
Но прошел немного, и ровным скатом сравнялся хребтик с тайгой окрестной. И впереди вырос другой. Тогда призадумался Степан. Уже с тревогой в сердце поднялся он на новый хребет, перешел его и, радостный, пришел к реке. Крепко веря, что это Дюкдялякан...
И убедился в этом еще больше, найдя небывалый промысел: по две, по три белки на одном дереве.
Но не замечал он, увлеченный счастливой охотой, что речка неведомая ушла от хребта, где-то петлями да курьями извилась и затерялась в дебрях. И что с другой стороны выпала другая речка — обманная; вдоль которой, не сознавая, пошел он себе па погибель, теряя путь, отдаваясь власти тайги...
Когда же, увидев солнце, трепещущее красным заревом сквозь свет деревьев, повернул он обратно, пошел к чуму, где радостный огонь и заслуженный отдых, и, пройдя долгий путь, не нашел знакомого хребта, — то понял Степан, что блудит, что завела его хитрость лесных извилин и троп в беду.
Огляделся беспомощно вокруг. В памяти прикинул, — как шел, какие борки перерезал, как речку огибал. Кинулся в одну сторону, загораясь надеждой, что это верная. Но версту прошел, другую — и незнакомо п неприглядно кругом. Снова остановился, снова выбрал путь. По нему пошел. И опять обманулся.
Так метался из стороны в сторону, теряя пройденное, запутываясь в хитром однообразии леса, как в тенетах, как в сети.
И обессиленный опустился Степан у подножия седого кедра. Прислонил подле себя ружье. С тоскою глядел па собак, жалобно скуливших, глазами просивших отдыха, пищи.
Снял из-за плеча поняшку, развязал котелок, вытряхнул мешок, где хлеб лежал да чай, да ложки, да табак. Но и ложки выпали — две заскорузлые деревянные, потемневшие, и кисет запасный, табаком набитый, выкатился, а за ним обмызганный кусок черного чая, но не оказалось хлеба... Хлеба и соли...
Изумленно перерывал несколько раз Степан поняшку, все тут, а хлеба нет, хлеба!..
И внезапно понял он, что не случайно блуждает в глухой тайге. Что кто-то толкнул его нарочно на погибель. одного в незнаемое место, без хлеба.
Исполненный страха уже не пытался он пойти искать выхода к людям, к огню. Знал, что если пожелает кто из лесных людей закружить человека по тайге, то заведет в самое сердце леса, не хуже лешего заманит...
Но кто? Кто обманно заманил в глухие дебри?.. Тугарила, Накурца?..
Не могла Тугарила, — так покорно ласкала его, так радостно служила ему. И звонко смеялась... Не могла она обмануть...
И Накурца... Разве впервые крестьяне у тунгусов жен отбивают. Разве первый он — Степан, в лесу бесследном, по женщине стосковавшись, на тунгуску позарился?..
Накурца!.. Он сам показал место гиблое. Хитрый, безжалостный. Отомстил...
Сорвался с места Степан. Собаки задремавшие испуганно вскочили за ним.
Ах! Нужно искать, искать дорогу к жилью. Только бы хребтик тот найти, только бы па речку ту набрести!.. Искать, искать!..
---
Перед рассветом, совсем разбитый усталостью и отчаяньем, Степан сознал, что ему не выбиться к жилью. Голова у него горела, а по телу проходила сильная дрожь.
Он устал ходить, устал кричать диким и протяжным криком. И в натруске оставалось уже мало зарядов, много их израсходовал он, стреляя в воздух, слабо надеясь, что кто-нибудь услышит...
Но жажда жизни горела в нем. И он осипшим голосом изредка кричал. И был его крик похож на далекий рев раненого медведя, на крик смертельно раненой медвежьей самки...
После одного отчаянного призыва он, не веря в возможность спасенья, — прислушался. И вот обостренный слух его различил далекий, неясный вскрик.
Не веря себе, — крикнул он вновь. И прислушался. И ничего не услыхал в ответ.
Но собаки заволновались. Собаки повскакали с мест и кинулись туда, откуда неясно расслышал Степан голос чей-то.
Громко залаяли. Радостным, взволнованным лаем.
И сквозь отчаянные переливы их голосов услышал Степан долгожданное, радостное, небывалое:
— О-эй!.. Иду-у!.. О-эй!..
... Двое шли по узкому борку, мелькая телами среди тоненьких оголенных стволов молодого сосняка.
Впереди, сейчас же за собаками, угрюмо шагал Накурца.
Сзади усталый, но радостный Степан тихо волочил за собой пальму. На бледном лице его сверкали необъятная радость и солнце — розовые лучи утреннего солнца...
У самого чума Накурца задержался немного, подождав Степана. И когда тот подошел, хрипло и устало, не глядя на него, сказал ему:
— Другом будешь... Зло помнить — не помню. — Сказал и быстро скрылся в чум...
Так Накурца отомстил за бесчестье. Но выходя из тайги в Качу — Степанову деревню, как и прежде, всегда останавливается он у друга своего Степана, с ним по неделе гуляет, ему промысел отдает. Ему в пьяной ласке открывается.
— Ох уж и друг... Бо-льшой ты мне, Степан, друг... Больш-ой!..
И собирается осенью снова взять с собой на промысел Степана — на хорошие места, где белка десятком на одном дереве сидит...
ПУТЬ ИХ ЛЮБВИ.
I.
Порванной тетивой, извилинами дрожи, застывшей навек, протянулась Нижняя Тунгуска. Течет к Турухану — холодному и дикому. Моет мутновато-соленой водой своей песчаные берега, питаясь редкими притоками.
Справа принимает в себя веселую Непу, рожденную из Ики. А над Икой каменным трупом застыл Икондай-крутой и могучий яр, весь в морщинах и впадинах, весь поросший молодым ельником и увенчанный старыми-старыми кедрами.
В глухую древность на Икондае кочевали тунгусы рода Лонтогирь. Был невелик, но дружен этот род. И целых сорок чумов стояло один возле другого в его стойбище. И было тогда многолюдно и весело на Икондае. Плескалась Ика о берег, мыла смуглые тела веселых, шумных ребятишек, полоскала тонкие волосяные сети, — обильной рыбой сверкала.
Род Лонтогирь, был мирный род. Самострелы и пальмы, и тутоки [* Ножи.] были только против зверя пушного и птицы.
И больше всего ловили Лонтогири рыбу. Серебряной чешуей был усеян берег стойбища их, — и было ее вдоволь, кишела ею благодарная Ика. И, кроме рыбы, на Икондае было вдоволь мху и травы, — мху и травы оленям рода Лонтогирь.
Звонкие песни часто носились над Икондаем уходя в чащу леса, простираясь над гладью лениво-веселой Ики. А вечером старые деды садились возле костров и под звуки поннюкаунов [* Особый музыкальный инструмент.] заводили древние нимиганканы — старые-старые сказания. Такие же древние, как и они сами.
И пляска, и песни, и веселый смех долго дрожали под сводами белой летней ночи, будя уснувших зверей и птиц, — шорохом отдавались в чаще.
В Ике водились крупные налимы и сиги. И Лонтогири изредка, тщательно ободрав с костей мясо, искусно вырезали из них разные узоры, или же целыми очищенными костяками вешали на окружающие стойбище деревья...
Среди сорока чумов, был один чум старой Киргалак, жившей вдвоем с сыном Былганч. И стоял еще чум из ярко-желтой свежей бересты, — чум старшего в роде Лонтогирь — Атарба-Дыглучина, у которого была большая шумная семья: была молодая Эвгалак, только-только увидевшая семнадцатую луну.
И хоть от чума Былганч до чума Эвгалак было много ходьбы: — пусти быстро-летную стрелу от одного чума, не воткнется в стену другого, — а была протоптана молодыми ногами тропинка.
На Икондае были веселые поляны. Росли на них летом огневые жарки, и синие колокольчики, и пахучая ромашка, и много других ярких и благоухающих цветов. На этих полянах часто сходилась молодежь всех сорока чумов. Веселые, ловкие игры затевались здесь. Сильные тела разминались, крепкие ноги упражнялись в беге, крепкие руки ловко натягивали тетивы и с воем летали стрелы и тутоки, пущенные в цель.
Часто, в разгаре игр или песен, сходились где-нибудь па окраине поляны, там, где рос густой тальник, Билганч и Эвгалак, и вели тихие беседы.
У низкой Эвгалак был крепкий и гибкий стан, маленькие ручки, черные-черные глаза и две черных же змеи кос обвивали ее голову и шею. И еще был у нее полураскрытый ротик с губами, рдевшими, как спелый шиповник, и заслонявшими маленькие, как у белки, белые зубы. Звонкий голос был у Эвгалак, и песни ее звенели среди песен других девушек рода Лонтогирь серебряной тетивой. И звонкий смех ее журчал, как ручей по разноцветным круглым камешкам.
И оттого Былганч протоптал длинную дорожку от своего чума к жилищу Эвгалак, и не казалась ему эта дорога длинной. И оттого на игрищах на Икондайских полянах чья-то сила тянула его к Эвгалак, под тень тальников, на край, подальше от чужих песен, чужих глаз.
Но и сам он был ловкий бойе. Верный глаз его пускал стрелу и не давала она промаха. Послушный нож летел туда, куда бросала его твердая рука. И легко, и вольно, и весело скользили ноги его в лыжах, — легче пуху он был тогда.
Но одни только молодые ноги топтали узенькую тропинку от чума Былганч к жилищу Эвгалак. У старого Атарба-Дыглучина не лежало сердце к той стороне, где чум старухи Киргалак стоял. Был крепок сердцем старый. Большое стадо оленей ходило у него, хорошие, золотом украшенные, принесенные еще предками из-за дальних гор самострелы увешивали стены его чума, и одежда у всех в его семье была крепкая, новая, нарядная.
А Былганч? — у него были только руки, правда, верные, твердые и у целые руки и несколько оленей.
Но что значат суровые глаза старика, ворчливая речь его, — злобная, недоверчивая?.. Что значат они против молодого сердца, зажженного ясной, солнечной весной?!
Ходили по своей тропинке и сходились Эвгалак и Былганч. И все шире, все торней, все заметней становился путь их любви.
Звенела Ика своими светлыми водами. Шумел лес в весеннем наряде, буйной радостью благоухая. Мирно стояли сорок чумов тунгусского рода Лонтогирь.
II.
Где-то в стороне и от Икондая, п от Непы, и от самой Нижней Тунгуски ходили тунгусы чужих родов. С далекой несравненно-светлой Ангары шли они на север. Нульгу за нульгой [* Дневной переход.] ближе подвигались к стране Белых Ночей. Топтали мох их олени, съедали корм — и шли дальше и тянули за собой тунгусов. Чужих ангарских тунгусов...
В необъятной тайге много места, много простору людям. Где и сойтись? Но мало людям таежного простору, узка им широкая тундра: сами идут туда, где есть другие люди, сами ищут, где бы найти друг друга — и тогда верной стрелой или каленым ножом кто-нибудь из двух кровь другого прольет. И жадно пьет коварный мох свежую кровь...
Мирно живут тунгусы из рода Лонтогирь. Увешаны все деревья вкруг чумов их стойбищ налимьими костяками и узорами из рыбьей кости.
И не слышали старые почерневшие кедры Икондая еще никогда шума и криков побоищ.
Но с запада, оттуда, куда по вечерам скатывается яркий круг солнца, — оттуда летний ветер гнал ненастные тучи.
И, вздыхая и хмурясь, стал шаман часто посылать туда свои заклинанья. И старики качали головами, боязливо поглядывали на золото и кровь заката.
Молодые ничего не знали. Они не чуяли. Беспечна юность — в песнях и играх быстро течет она. Бегут в стороне от нее заботы и не хмурят ясных не морщинистых лбов.
Только Эвгалак с некоторой поры засиживалась долго по вечерам у входа в чум своего отца. И изредка пела грустные песни. Без слов, без мыслей пела она их. Но каждый, кто слышал ее вечернее пение, никнул головой, туманился грустью и становился подобен коротким летним сумеркам, над которыми пал багровый закат.
От Эвгалак грусть перекинулась к Былганч. Любовь прокладывает крепкий путь меж сердцами.
Стал задумываться бойе. Бывало, что дрожала рука, опуская стрелу с туго натянутой тетивы, и коварно и лживо летело оружие мимо цели, журча на лету насмешливым рокотом.
Блестела на солнце Ика серебром... А вечером белела, как молоко. Но часто в блеске и белизне ее вод скользили струи крови: отсветы заката.
Пела Эвгалак грустные напевы, сидя за женской работой. Вышивала бисером, принесенным от чужих людей — не тунгусов. И на тонкую жилку нанизывала она то каплю крови, то ясную слезинку, то белую искорку молока...
Поздно вечером однажды сошлись Эвгалак и Былганч, на тропинке их любви.
— Боюсь я! — грустно сказала девушка. — Вот тут болит: — показала она на свою невысокую девичью грудь.
— Чего боишься? — спросил ее Былганч.
— Не знаю! — был тихий ответ: — Не знаю... не знаю... Как вздох, звучало в трепетном неясном свете ночи:
— Не знаю...
III.
Когда олени съедали мох в одном месте, все сорок чумов снимались и шли нульгичить. Находили новое стойбище со свежим, сочным мхом здесь же, на Икондае, вбивали колья, устанавливали чумы. И так жили, как прежде — до новой нульги.
Вот собрались раз перейти к новому корму, новому промыслу. Длинной цепью потянулись олени, навьюченные домашним добром. Длинной цепью, весело перекликаясь и шумя, потянулись все жители сорока чумов, все из рода Лонтогирь. Бряцали торбола, кричали олени, звенели песни и ухали крики.
Уже далеко прошли от старого стойбища. И спохватилась старуха Киргалак, что оставила она там хороший ровдужный мавт [* Аркан из оленьей замши (ровдуги).]. Жалко ей стало его. Нужно вернуться, взять забытую вещь.
Повернула она свой учек [* Передовой олень.] на шее которого глухо брякало торболо. Знакомой обратной дорогой проехала она. Уже близко к брошенному стойбищу.
Вдруг почуял что-то ее олень, вытянул шею, прядет ушами, ноздри раздувает.
Забеспокоилась старая: что там? — худо ли, хорошо, — там впереди? И смекнула она, что если худо, то не нужно, чтоб ее кто почуял. Слезла с высокого седла, клок мха выдернула из-под первого дерева и заткнула торболо, чтоб не выдало оно чужим, что кто-то идет.
Оставила оленя привязанным к сосне, сама поползла вперед — осторожно, как соболь.
И вот увидела: на брошенном стойбище много людей. Костры горят, вокруг костров ходят, лежат и сидят тунгусы, чужого незнакомого рода. И некоторые из них с любопытством и изумлением разглядывают налимьи костяка и узоры из рыбьей кости, развешанные по ветвям.
Обмерла Киргалак. Бьется у ней сердце тревожно. Быстро ползет назад. Уперлась на посох, прыгнула на учека, помчалась за своими, быстро, быстро. Догнала. Пробралась к старшим в роде: тормошит их:
— Старики, старики! худо! беда! Чужие пришли: чужие на стойбище старом огни жгут... беда!..
Не верят ей старики. И раньше водилось за нею, что прибавить от себя что-нибудь: увидит старый медвежий след — скажет, что самого медведя видела, — в реке заплескается мелкая рыбешка, а она расскажет, что целое юро [* Табун.] сигов больших видела. Не верят ей старики. Ни божбе ее, ни клятвам, ни дикому, испуганному лицу ее не верят.
Смеются: пригрезилось старой, привиделись чужие люди.
И спокойно дошли до нового стойбища. Установили чумы, разожгли костры...
Нежно и крепко материнское сердце. Нежнее одуванчика, что разлетается в прах при легком вздохе ветра, и крепко, как кремень.
Ураган материнской любви, вспыхнул и забушевал в сердце Киргалак.
Как ей быть? Погибель идет сзади. Погибель идет по пятам. Нога в ногу пойдут чужие олени по следу оленей тунгусов рода Лонтогирь. И чужие люди — злые, ах, видела старая, что злые — погубят всех. И вместе со всеми — ее любимого, единственного, ее ловкого Былганч. Но, как и все, не верить ей он сам — любимый сын ее. Смеется с другими безрассудными и беспечными надо ее страхом. Смехом ранит ее сердце.
Материнская любовь подобна змее, что кроется в камне хребтов: руби ее на части, но она живет. И творить она хитрость. Острую хитрость, слитую с ложью.
Смиренная подошла Киргалак к сыну.
— Былганч! — говорит она: — есть невдалеке от нового нашего стойбища два озера, по имени Багдама-Ысаль: пойди туда вместе со старым Намкич; возьмите с ним сети, закиньте их в эти озера. Будет свежее варево из золотых карасей...
Послушен Былганч. Сын должен быть послушен. Снарядился, пошел туда, куда отправила его мать.
Старый Намкич — хороший охотник. Стар, а ловок. Знает старуха, что с надежным человеком отправила сына.
Ликует материнское сердце.
IV.
В первый день на новом месте всегда весело.
Собралась молодежь ехондирит. А люди постарше окружили шамана, творят шаманство. Освящает шаман новое стойбище: добрых духов просит быть милостивыми и посылать благополучие, а злых заклинает.
Носятся крики над Икондаем. С одной стороны, звонкие песни и крики, и хохот молодежи; с другой — вой и дикий напев шамана, зловещие удары нимганги [* Бубен шаманский.]...
И ничего не слышно за громкими криками. Брошены самострелы и ножи. Зачем они? — Разве не веселье, не шаманство здесь?
Не слышат Лонтогири шума чужих шагов. Не чуют близости беды.
И вдруг оборвались песни. Замолк бубен. С воем и криком кинулись подкравшиеся враги. Дождем летят стрелы и разят безружейных беспечных тунгусов рода Лонтогирь. Мечутся обитатели сорока чумов без толку, как полоумные. Как стадо оленей, застигнутое внезапно медведем, кидаются из стороны в сторону и криком страха кричат:
— Ара! Ара!.. Ара!..
Налетели враги, и впереди их шаман. В железном панцире, в соллилоне одет он. Стрелу за стрелой выпускает он из изукрашенного самострела. Летят стрелы.
Падают, падают мужчины рода Лонтогирь. Сжимая обезоруженные руки, умирают они.
Только у старого Атарба-Дыглучина в руках самострел и мало стрел. Только он один сражается против коварного врага. И вот попали стрелой в его голову. Устоял старик. Нажал костяной спуск, выпустил последнюю стрелу свою. Вырвал вражескую из раны, и пустил ее во врагов. Обвел помутневшим взглядом все побоище, зашатался и упал... Упал старший в роде Лонтогирь.
Падают и падают сраженные насмерть тунгусы рода Лонтогирь. Свистят стрелы. Они не разбирают, куда лететь, в кого впиться.
Вот охнула Эвгалак. В стороне с другими женщинами стояла. В стороне от побоища. И вражья стрела, неверно пущенная, потому что в старину не убивали женщин, даже женщин враждебного рода, — вражья стрела вонзилась в стройное плечо Эвгалак. Побледнела девушка, схватилась за рану. Опустилась наземь.
Уже не стреляют враги: не в кого стрелять, одни женщины рода Лонтогирь остались.
Подбежали победители к женщинам. Ходят меж ними. Видят: ранена девушка. Легкая туча пробежала по радостным лицам победителей. Плохую примету увидели.
Приводят в чувство Эвгалак. Перевязывают рану ее мягкою ровдугою, ухаживают за ней, как за малым ребенком...
Кончилось побоище. Погиб род Лонтогирь. И па стойбище, где только что носились веселые песни, хохота, и бубен гудел в честь Оксари, — стали хозяевами новые пришлые люди. И дикие звуки победной песни испугали окрестную тайгу.
Сбились в кучу осиротелые женщины и дети рода Лонтогирь. Воют и льют слезы. Горюют, оплакивают павших родных. Горюет и Киргалак. Но на заплаканном морщинистом лице ее горят глаза. Горят дикою радостью.
Материнская любовь жестока и жадна, как рысь...
Отдохнув после битвы, пришлые люди согнали женщин и оленей вперед и пошли дальше. Покинули разрушенное стойбище рода Лонтогирь.
И отойдя короткий путь, расположились на новом стойбище, на своем стойбище.
V.
Попромышляв на озерах Багдама-Ысаль, Былганч и Намкич вернулись к своему стойбищу. Нашли разрушенные чумы, помятую и залитую кровью траву и много трупов.
Золотым дождем посыпались наземь наловленные караси.
Как охваченный тяжким, огненным недугом, заметался Былганч. От трупа к трупу кинулся. Видит все полегли. Весь род Лонтогирь. Опустился бойе на траву, впился пальцами в землю, рвет ее, исступленно скрежещет зубами и скулит, как больная собака.
Хмурый Намкич тронул его за плечо.
— Будет бойе. Вставай... думать надо! Бабы все у чужих, уведут их, вместе с оленями, уведут, угонять...
Встревоженным насмерть молодым оленем вспрыгнул на ноги Былтанч. Невыносимую мысль родил в его голове возглас старика:
— Эвгалак там! Эвгалак у врагов!..
Встревоженным насмерть молодым оленем вспрыгнул бойе.
— Пойдем, Намкич! Пойдем, старый, пойдем, — быстро заговорил он, умоляя старого. — Пойдем за ними... возьмем обратно... пойдем... пойдем...
Молчал старик. Глубокими бороздами ходили морщины по его лбу. Думал он.
— Горячую голову, тунгус, охлади, — сказал он сурово, — сердце огневое потуши... Хитрость и повадку лисицы вот что попроси себе у Оксари. Тогда пойдем... Тогда сделаем, что надо...
Сдержал ссбя Былганч, затаил в сердце скорбь и нетерпение: опять ловок и силен он и горит отвагой. И тогда, осмотрев тетивы и стрелы, и ножи, повел его старик следом за врагами, в ту сторону, куда увели Эвгалак. Куда сердце Былганч рвалось, как пленный дикий олень.
Был осторожен старик. Был мудр. Вел молодого так, как нужно.
И скоро уже почуяли оба близость стойбища: легкий ветерок нагнал на них струйку свежего дыма. Тогда шепнул старик молодому:
— Стой, Былганч... жди здесь; я поползу вперед, я сделаю все, что нужно...
И уполз.
Остался один молодой со своею тоскою, разбуженною близостью к Эвгалак, — к Эвгалак, которая у чужих, у врагов...
VI.
... Был жаркий день. Склонялось солнце к уходу па покой, по было жарко. На стойбище врагов было тихо. Отдыхали после побоища и после перехода пришлые тунгусы. Не спали и бодрствовали лишь захваченные в плен женщины. Тесной кучкой придвинулись они одна к другой и молчали.
Бедная Эвгалак сидела с краю. На ее плече была повязка. Опустив голову, думала девушка о покинутой тропинке, где сходилась она с Былганч. Закипали слезы в ее груди, подступали к горлу и давили, давили.
Вдруг шорох, непохожий па другие шорохи, коснулся ее ушей. Зашипело что-то в траве. Эвгалак взглянула в ту сторону: ничего нет. И только что хотела она снова отвернуться, снова предаться власти мучительных мыслей, как чей-то неожиданный, но знакомый голос прошептал:
— Сиди и слушай!
Не был звучен и нежен этот голос, но какой необъятной радостью ударил он по изболевшемуся сердцу!
— Сиди и слушай, — продолжал невидимый;— враги спят. Завтра утром они пойдут на полдень. Утром подрежь у всех вражьих лучков тетивы. У всех подрежь так, чтоб казалось, что упруги и крепки по-прежнему тетивы, а спустить с них стрелы нельзя было... Но помни, не подрезай тетивы у шамана. Он почует. Духи скажут ему... у него не режь...
Сидела девушка. По это уж не была та Эвгалак, что, сраженная тоскою, незадолго до того опустила голову. У этой поднята голова, у этой — блестят глаза. И пылают румянцем смуглые щеки.
Сидела девушка, а в душе с весенним цветком расцветала надежда.
VII.
Еще только вставало солнце из-за темного хребта, еще спала птицы, а уж поднялись двое и пошли на полдень. Старый и молодой. Шли густым лесом и молчали. Только оглядывался по сторонам Намкич, что-то примечал.
И у одного дерева, у стройной золотистой сосны, у подножья второй приютился целый лес вереску, благоухающего, густого вереску, — он остановился.
— Вот здесь, — сказал он Былганчу, — мы заляжем. Здесь они пройдут.
Молча кивнул Былганч головой. Молча, потому что не было слов у истомившегося бойе.
Хитро и неприметно укрылись оба в вереске у самой сосны. Укрылись, — точно не было никогда двоих: хитрого и осторожного старика и нетерпеливого, тоскующего молодого...
Поднялось солнце над темным хребтом, запели птицы, поднялись с ночлега вчерашние победители. Пошли своей дорогой. Впереди всех шел с пальмой в руках старый, закованный в соллилон шаман.
Часто взмахивал пальмой и больно ранил встречные, попутные деревья: так зарубал он затес.
У золотистой сосны, подножье которой густо проросло вереском, старый шаман также взмахнул пальмой. И тогда чья-то стрела, откуда-то взявшаяся, впилась ему в подмышку, там, где разошелся панцирь, где не было железной защиты. Закачался старый, выпала пальма из ослабевших рук, грохнулся он на землю.
Подскочили остальные тунгусы. Быстро выхватывают самострелы, вкладывают стрелы. Но — что это? Падают стрелы обратно, не летят туда, куда посылает их рука стрельца.
А возле сосны уже стоят двое и посылают они стрелу за стрелой во врагов, и у них стрелы послушны, их стрелы несут с собой смерть...
Небывалыми испугом опалило тунгусов — тех, что пришли с запада, тех, что перебили всех мужчин из рода Лонтогирь. И вместе с испугом пришла для них смерть. Так бывает всегда...
Одолели двое — последние из рода Лонтогпрь — врагов, одолели...
Кинулся Былганч к женщинам. Глазами отыскал свою Эвгалак. К ней кинулся. Мимо старой женщины, сжавшей горестно губы: материнская любовь терпелива, как муравей.
Поднял он Эвгалак крепкими руками и целовал ее лицо, ее глаза, ее голову. Жадно целовал и смеялся коротким смехом. И весь трепетал...
Пошли обратно. К старому стойбищу, к трупам отцов, братьев, супругов. И была необычайная эта нульга: много оленей побрякивало торболами, много добра несли на себе, много женщин шло позади — и только двое мужчин, старый и молодой, шли впереди.
Впереди всех женщин шли Киргалак и Эвгалак. У старухи в руках болталась седая, когда-то черная, коса. Это у вражьего мертвого шамана отрубила она ее, и готовилась справить ею поминки по павшим...
Пришли к разрушенным чумам, к трупам.
Выли бабы, рвали на себе волосы, падали на трупы. И помотали потом Былганчу и старику строить могилы. Рубили деревья, мостили наскоро помосты меж двумя соснами — и клали погибших. И каждому давали с собой в царство духов его самострел, его нож, его кремень...
Похоронили...
Тогда бросила старая Киргалак косу шамана па утоптанную траву. Сверкая глазами, шепча заклинания, рубила она ее на части, на мелкие части. И разрубив, собрала и высыпала кусочки в костер. Жадный огонь охватил пламенем остатки косы.
И когда сгорели они дотла, развеяла старая пепел по всем четырем сторонам, чтобы вражий шамань не мог вредить роду Лонтогирь, чтобы потерял он свою силу колдованья и в стране Оксари был бы бессилен.
Так погиб род Лонтогирь...
Выли бабы, догорали костры, гасла на западе вечерняя заря...
А Эвгалак? А Былганч?.. — Тропинка их любви затерялась: она не нужна им больше. Они пойдут широкой дорогой, рядом один с другой. Они восстановят погибший род Лонтогирь.
И, верно — они восстановят его.
Но Икондай обезлюдел. Ушли отсюда, дальше, оставшиеся в живых и впереди всех — Былганч и Эвгалак. Ушли к дружеским родам тунгусским, бродящим по другим речкам, нульгу за нульгою идущим в той же необъятной тайге, — только в другой стороне. Там, где порванной, застывшей в мгновенной дрожи, тетивой течет Нижняя Тунгуска...
ОЛЕНЬ.
I.
У людей много врагов. То придет — возьмется откуда-то большая напасть, повалит всех — от мала до велика, — жарким огнем распалить их, по телу пятнами разбредется. То от сырой тундры да от тайги темной туманом поднимется, свалит оленей. То пожаром по тайге пройдет — угонит белку да горнака, спугнет голодом сохатого... Много врагов у людей.
Небо —велико, тайга — огромна, тундра — необъятна, напасти велики и сильны, — а человек мал. В чуме своем только велик, около камелька. В тепле... И маленькому человеку трудно — ох, как трудно! — с великими врагами своими бороться.
Но борется он. Идет по тайге с ружьем и пальмою, с шаманским бубном и медным крестом, — делает нульгу за нульгою через малые и большие тундры, оставляя за собою след, оставляя после себя кучку золы да повырубленные деревца, да вытоптанный мох...
Нульгу за нульгою делает — идет зимою по тайге Спиридон. Добывает белку, бьет сохатого. Попромышляет в одном месте, видит, что нет уже добычи, — соберет оленей, разберет чум, всю рухлядь свою по вьюкам соберет — и переходит в другое место, за новой добычей. Весело бегут впереди собаки, обгоняя одна другую, коротким, отрывистым лаем перекликаясь. А за ними — быстроногие олени, покачивая ветвистыми рогами, везут легонькие нарточки с поклажей, с семьей, с самим Спиридоном...
Летом вбивают колья — чум ставят поближе к русской деревне. Летом — какой промысел? Можно тунгусу и от стойбища своего отойти. Только сохатого искать. А все время ходи в русскую деревню, водись с друзьями, гляди — не привез ли кто водки, нет ли где праздника.
Летом чум долго стоить на одном месте. Разве мох весь олени съедят — тогда кочевать в другое место нужно. А то стой на одном месте хоть до самой осени. Тогда и отдых тунгусу. Вся семья сидит у огня, и мягкой дремой связаны руки и ноги. Слипаются глаза. Медленно тянется безостановочная речь старой Варвары — матери Спиридона. Только изредка остановится, разговаривая, старуха, трубку изо рта вынет и сплюнет в сторону.
Говорить старуха много. Может быть, так это она, для себя, говорит. Много лет прожила на свете, много лесу исходила, — вот и вспоминает о том, что было.
Ребятишки — Мишка и Соломонидка — жмутся к бабушке. Старый с малым везде друзья. Слушают о «дедушке», который не любить, чтоб беспокоили его, о слове, которое нужно знать, чтоб больше белок добыть, о шамане, который «дедушку» не боялся и с бубном против него ходил... О многом слушают. И глядят в маленький огонь, потрескивающий посреди чума. Глядят и вспоминают, что зимою, в тихий мороз огонек этот блестит сильнее, разгорается ярко-ярко. И знают: теперь, средь жаркого лета, горит огонь в чуме, потому что нет жилья человеческого там, где огня нет. Так — со старины...
За чумом зеленые своды лиственницы. Разбежалась лужайка, а на ней пестреют синие, жаркие, белые цветы. Дальше за лужайкою мхи. Мелькают стройные олени, покачивая рогами. Щиплют мох, чутко прислушиваются к каждому лесному треску, гордо выставляя грудь: вот-вот кинутся прочь от неведомого врага...
У Спиридона пятнадцать оленей. И среди пятнадцати есть один, которого любит Мишка, которого назвал он — Монгума, что значит Серебряный.
И от рассказов старухи Мишка уходить только сюда, ко мхам, где отыскивает своего любимца, гладить его теплые рога, его трепетную шею и нежные-нежные губы...
У человека мало друзей. И среди них лучший друг-олень. В зимнюю стужу несет он на себе быстро — так, что дух захватывает, — на новое место, где промысел, где свежая пища, где отдых. Он же детей тунгусских молоком своим поит. А ровдуга, из которой одежду всякую сошьешь — от рукавицы до шинели! А камасы для теплых унтов! А постель из мягкой шкуры его!
И кроток он, доверчив. Большими глазами своими так ласково смотрит он. Не моргнет. Точно думает. И понимает все, о чем вокруг говорят: и по-тунгусски, и по-русски...
Когда деревья, после снежной зимы, ненадолго начнут одеваться в зеленые одежды и только-только развернутся маленькие листочки, когда вылезет из влажной, еще мало прогретой земли робкая ярко-зеленая травка; когда зашумят быстрые ручьи, бегущие с хребтов, — в это время солнцу жалко расставаться с веселым днем; в сторону уходить оно и украдкой глядит, не налюбуется на радостную весну, крепнущую под его поцелуями. И вот тогда, когда солнце поглядывает украдкой, со стороны, — бывает белая ночь. И в такую ночь Мишка вылезает из чума. Тихо приподымает берестяную дверь. Идет в ту сторону, откуда несутся мерные звуки: жуют и дышут, и вздыхают олени.
Улыбаясь, вполголоса говорит Мишка одно слово:
— Мо!
И слово это бежит средь белой ночи к оленям и тревожить их. Поднимают они головы, прядут ушами. И только один из них легко подымается с земли, сперва па передние ноги, потом вскакивает, выпрямляется весь, — стройный, облитый белым светом украдкой светящего солнца. Стоит, ждет.
Подходить Мишка. Прижимается тельцем своим к мягкой шерсти. Смеется сдержанным смехом и все заглядывает в большие синие глаза.
И рассказывает другу своему обо всем, что слышал от старой бабушки. Рассказывает быстро, быстрее, чем старая Варвара.
Мишка знает, что друг его поймет все. И с ним ему так хорошо...
Однажды Спиридон застал ночью Мишку возле оленя. Он прогнал мальчика в чум: зачем по ночам в лесу ходить? И мать Мишки тоже ругала его. Ругала за то, что ходит ночью, когда люди должны спать. Старая же Варвара ворчала на них. А Мишка по-прежнему ходил целыми ночами по мягкому мху к другу своему Монгуме.
II.
Стойбищем стали в это лето возле деревни Кедровой. Четыре чума поставили рядом один возле другого. Иргисом идти до деревни всего верст двадцать.
У Спиридона в Кедровой много знакомых крестьян. По нескольку дней проживает он там и возвращается пьяным. Изредка приносить водку в чум для матери — старухи Варвары. Не принесешь — ворчать будет, коситься; у огня сидеть будет, ни с кем не вымолвя ни слова. Но удается Спиридону принести водку не часто. В этот год скоро зимний заработок пропили да прожили. Уж и хлеба мало. А друг Спиридона живет далеко, — когда еще поплывет с товарами. Приходится и поголодать.
Голодный человек — злой человек. Варвара щурить узкие глазки и злобно плюет в золу.
Ну и времена! Раньше разве так было? Раньше разве хороший тунгус сидел без орошмы, без яшны, на одном чаю? И водку пили, и ели хорошо.
Мишке тогда озлобленная старуха не рассказывает своих старых историй. Не глядя ни на кого, она бросает слова, хрипя и закашливаясь переливчатым долгим кашлем.
— Собака есть, ружье есть почему муки нет, почему водки нет?.. Почему шамана позвать нельзя пошаманить по-хорошему? Новое, новое захотели... Хе! Имена тунгусские свои забыли... Варвара, Мишка, Спиридон!!.
— Тугаль, Мультурца, Чегарила — чем худые имена? Хе!..
На корточках, подперев ручонками щеки, сидит поодаль Мишка и слушает, как злится старуха. Он знает: это всегда, когда бабушке выпить хочется, она начинает старые тунгусские порядки хвалить. Но и ему самому его тунгусское имя — Тугаль — нравится больше, чем Мишка. И потому зовет он старуху «бабушка Чегарила», а она его зовет Тугалем...
Но раздобудет Спиридон где-нибудь немного водки — оживает старуха. Долго тянет в себя разбавленный спирт, причмокивает, что-то невнятное про себя бормочет. И только в глазах ее таит и сверкает, так переливается: «хорошо!..»
Напившись, она ложилась у огня и пела. Старый голос — как продранный шаманский бубен. Но поет она о том, что видит. И Мишке, слушающему с неизменным вниманием ее песни, кажется, что с ее пением оживает все вокруг.
Старуха поет:
— Огонь горит. Дым идет...
— Старой хорошо. Малый слушает...
— Дрова трещат... Чум стоит...
Так, знает Мишка, поют все: и сам Спиридон и в других чумах: и пьяные старики и парни тунгусские с девками, когда ехондирят.
Но в старухиной песне ему слышится что-то другое. Вот пропела она, что огонь горит, глядит мальчик в маленькое, желтоватое пламя, вьющееся вокруг хвороста, видит, как оно трепещет и вьется, как жадно хватается за дерево и губит его, губит...
С Соломонидкой, которая младше его на два года, Мишка почему-то не любит связываться. Он играет всегда отдельно от нее, в другом углу. Бабушка Варвара смеется:
— Ай, Тугаль!.. Тунгус настоящий... С бабой не связывается. Настоящий тунгус!..
Не знает ни сам Мишка, ни остальные в чуме, почему он не любит ее, сестренку. Может быть, за оленя.
Видел Мишка однажды, как Соломонидка подплелась к лежащему оленю, ухватилась ручками за рога и стала тянуть за нежные отростки, тянуть долго к себе. И видел он, как поднял его олень свои синие глаза и взглянул на Соломонидку и на него, Мишку.
Мишка избил тогда сестренку... Только не знает он: за это ли он ее не любит?
III.
И мать, и бабушка, да и сам Спиридон, по-видимому, любят Соломонидку больше, чем Мишку. Ее целуют, берут на руки, раскачивают, поднимают высоко-высоко в чуму. Когда гуляют, чаще подносят к ее губкам водку. Чаще, чем Мишке.
Но не за то не правится Мишке его сестренка. И все-таки не любя ее, он не делает ей зла: не отнимает у ней обрезки ровдуги, берестяные чумашки да потакуйчики, которыми она играет. Не бьет ее, когда старшие не могут видеть этого. Он только уходит от нее подальше. И издали вскидывает на нее свои глаза. Глядит и думает. И никогда потом не помнить, о чем думает, глядя на Соломонидку-сестренку, которую не любит...
У человека много врагов. Забрался враг в чум Спиридона. Все не видно было это; и — вдруг разгорелась жаром Соломонидка. Красная, как огонь, на постели оленьей лежит, разметалась. Стонеть.
Заохала мать; позвала бабушку Варвару:
— Беда! девчонку схватило!
Подошла старуха. Щупала голову девочки, брюхо щупала. Заглянула в глаза. И потом наклонилась к личику, от которого полымем пахнуло на нее, — наклонилась и дунула несколько раз в открытый ротик. Только и это не помогло. Тогда позже сказала старая Варвара:
— Шамана звать надо. Шаманить нужно... Лечить.
Понабрались в Спиридонов чум остальные тунгусы из трех других, стоящих рядом стойбищем. Тоже говорят:
— Лечить надо.
Собрался Спиридон, пошел за шаманом. Далеко чум шамана стоить — по ту сторону Кедровой, верст за тридцать.
Цветущим лесом идет тунгус. Пахнет вереском и багульником. Густо дышит хвойный лес, и тонет нога во мху.
Бегут впереди собаки. Кружатся вокруг деревьев, нюхают воздух, нюхают землю.
Худые мысли у Спиридона. Пугает его то, что вошло в его чум, болезнью Соломонидку схватило. Помнит, — как давно, еще мальчишкой непромышленным был он тогда, — вот также пришла злая напасть. Из чума в чум перекатывалась. Много тунгусов погубила, больше половины. Куда больше!..
Помнит, как бежали от этой напасти, побросав и чумы и все, что было в них, в тайгу... Оспой звали ее — эту напасть, эту худую болезнь... Только ведь теперь и оспенник есть у тунгусов. Как же! На руку ее — в кровь пускают... И все же пришла напасть, — может, и другая, — прокралась в его чум.
Тоскливо Спиридону. Жаль девочку. Вдруг умрет?
Прибавляет он шагу, спешить. Спешить нужно. Шаман придет: он знает, он выгонить болезнь. Его боятся...
В Кедровой Спиридон знакомым крестьянам рассказал про свое горе. Мужики встрепенулись.
— Ты, тунгус, лучше за фершалом ступай — в волость. Он те вылечить. Чего шаман поделает?
Рассмеялся Спиридон:
— Шаман-то ничего не поделает? Хе... — Но за фельдшером пошто не сходит.
Подрядил он крестьян под будущий промысел, — чтоб дали знать в волость, чтоб фельдшера привели в его чум. А сам отправился дальше. За шаманом.
IV.
Сидит Мишка на мягкой оленьей постели и смотрит на разгоревшееся лицо сестренки. Глаза у той стали большие. Не мигают — и все смотрят вокруг, — кого-то отыскивают. Смотрит Мишка, и не узнает сестренку: такая сделалась красная, большая. Жутко ему. Кто подменил Соломонидку? А старая Варвара еще больше жути напускает. Все о ком-то злом говорит, — о злом, который обманом прокрался в чум, беду принес.
И от жути этой чаще уходить Мишка из чума, весь день бродить около, разговаривает со своим другом. Рассказывает ему про злого, который обманом вошел в чум.
Большие синие глаза глядят печально. Они точно говорить Мишке:
— Ах, плохо, плохо, бойе! Злые — сильны... Злые — все могут. Все сделают. Ах, плохо!
И тогда Мишка начинает тихо плакать, припав головой к теплой шее. Мягкие губы тихо трепещут у него на лбу. Мягкие губы целуют его...
Но вот пришли Спиридон и шаман Догнонца. Знает его Мишка. Не раз он шаманил у них в стойбище. Высокий, седой тунгус. Глаза блестят и губы плотно сжаты. Принес с собой и бубен и все, что нужно для шаманства.
Погалдел Догнонца на Соломонидку, — ничего не сказал — и ушел к соседям в чум. Завтра будет шаманить.
Оживилась старая Варвара. Хлопочет, свои патакуи раскрывает, оттуда лоскутья всякие достает. Рада она шаманству. И Мишка тоже рад. Любят они оба, — больше других любят, когда шаманство идет... А Соломонидка, разметавшись на постели, тяжко дышит, хрипло стонет. То затихнет, то вдруг сразу начнет стонать, точно в неудержимом порыве отчаянья и боли...
Утром достал Спиридон самый лучший нож свой, стал его па бруске направлять.
Знает Мишка, зачем это. Оленя для шаманства резать будут. Всегда оленей режут. Повеселел он сначала. Радостно ему, что мяса свежего дадут поесть. Много мяса. А потом сразу загрустил. Вспомнил, что ходить его олень среди остальных, с ними вместе мох ест, с ними разговаривает, по ночам, прижавшись к ним тесно, с ними чутко спит. Жалко ему, что одного товарища возьмут у Монгумы.
И, точно жалуясь ему на готовящуюся несправедливость и обиду, в это утро глядел на Мишку олень грустно-грустно. Глядел долго.
Вечером, когда солнце готовилось уйти в сторону, чтоб оттуда, крадучись, выглядывать на тихую тайгу, Спиридон и старая Варвара пошли за чум и там закололи оленя. Догнонца же набрал полный чум свежей еще дымящейся оленьей крови.
А Мишка, увидев отрезанную голову с помутневшими глазами, с закушенным языком, торчащим меж губами, громко заревел, упал на траву и бился ногами и головой о шелковый весенний ковер.
Дальше от чума, где паслись остальные олени, царило беззвучное беспокойство. Ветвистые рога маячили в воздухе, и ноздри с шумом втягивали в себя лесной воздух. Чуяли олени недоброе, и тревожно мерцали их глаза...
На поляне перед чумом собрались все от старого до малого.
Догнонца, весь обвешанный лоскутками ровдуги, сукна разноцветного, в шитом бусами нагруднике и набедреннике, сидит на корточках среди остальных и медленно бьет в бубен. Ударит раз и скажет несколько слов, ударить еще раз — выкрикнет несколько других.
Не глядит он на людей, все в огонь смотрит, все в огонь глаза его устремлены. Чем дальше — все быстрее бьет он в бубен и громче поет священные песни. Чем дальше — все согласней голос нимганги [* Бубен шаманский.] с голосом Догнонцы...
Разгораются глаза стариковы, сыплют искрами, и оттого огонь в костре разгорается сильней и приобщается к таинственным заклинаниям Догнонцы. И уже подымается он на ноги, встряхивает бубном над головой, в такт напева притопывает ногой, раскачивает бедрами, плечами.
Воет, стонет и смеется, смеется тонким и злым смехом священный нимганги...
Так началось шаманство.
Горят у тунгусов глаза. Следят они за движениями Догнонцы. Качают головами согласно, мирно, в ритм с его движениями.
Принесли маленькую Соломонидку, положили перед шаманом. Между ним и костром. В быстром вихре движется Догнонца вокруг дитяти, гремит бубном, поет... Дикую, громкую песню поет. Гонит прочь злых духов, прочь, в чужие края, к чужим враждебным людям...
Кропит Соломонидку красной оленьей кровью. Кропить голову, грудь и живот. И поет, поет в быстром вихре шаманского танца своего...
Из-за спин старших выглядывает Мишка. Большие глаза впились в суровое, мелькающее лицо Догнонцы. Большие глаза следят за каждой тенью на этом лице, за каждой морщинкой. Молчит Мишка. И только, когда липкие капли оленьей крови падают на голову, на грудь, на живот Соломонидки, только тогда взгляд больших глаз отрывается от лица шамана, вздрагивают они, и детский крик несется и тонет в песни Догнонцы, священной песне шамана...
V.
Уехал шаман. Съели оленье мясо. Не выздоравливает Соломонидка. Уже не стонет: перехватило у нее в горлышке, и вырываются оттуда с болью надрывные хрипы.
Ждет Спиридон фельдшера. Ходит каждый день по окрестному лесу. Ищет добычи, чтоб была удача фельдшеру... Немачит [* Особый обычай, по которому все убитое на охоте дарится тому, кто набредет на охотника непосредственно после удачного выстрела.] с ним хочет. Добудет что к приезду того, значить счастливый он, значить будет ему удача, выздоровеет Соломонидка и пойдет ей на пользу русское течение русского фельдшера.
Каждый день приносить что-нибудь Спиридон. То пальника, то рябчика. А все нет фельдшера. И тает Соломонидка, теряет силы. Умрет, видно, скоро...
...Лежит друг Мишки, Монгума, жует нежными губами мягкий мох. Прижался к нему сам Мишка и шепчет — рассказывает о том, что было. Вздрагивает тоненький голосок его, от обиды вздрагивает.
Дня через три после того, как уехал шаман из стойбища, пошел Спиридон в лес и вернулся с пустыми руками: никто ему не попался на маленькую свинцовую пульку. А под вечер, еще солнце бодро держалось на западе, приехал русский фельдшер.
Стал он осматривать больную. Глядел на язык, в горло засматривал, руку зачем-то держал в своих руках. Дал Соломонидке чего-то съесть. Мазал ей рот чем-то. Лечил.
И сурово поглядывала со своего места па фельдшера старая Варвара. Ворчала по-тунгусски:
— Ишь! Совсем неудачливый!
И Спиридон с женою тоже хмурые. Тоже не верят в силу фельдшерского лочения. Но ухаживают за приезжим, угощают его. Как же! Он гость, он пришел со стороны, чужой он, нужно его угостить.
Видит Мишка, шепчутся о чем-то старшие. Не понимает он в чем дело, но все же замирает в нем сердце, какую-то беду черную чует.
И только ночью, лежа около бабушки, понял он, о чем шептались с ней старшие. Из старческой воркотни понял он.
Укладывая поудобнее старые кости на ираксе, хриплые слова кидала в стены чума старуха:
— Хе! второго оленя колоть!.. Шаман пришел, ему надо, а этому?.. Хе!.. Много их — оленей? Как же!..
Сжался в комочек Мишка, в темноте раскрыл широко глаза, стиснул зубы. Но не может их так сжать, чтоб стоны не смели выйти наружу. Вырвались.
— Чего ты, бойе? — беспокойно спрашивает старая. — Какой злой тебя тревожит?
Притворился Мишка спящим. Дунула на него Варвара и успокоилась. Уснула...
В полночь выполз мальчик из чума, к оленю своему побежал. Монгуме жалуется, горько жалуется на злых. Ручонками сжимает длинную морду друга. Мысли свои ему передает.
Мыслей у Мишки много. Вот возьмет он отцовскую пальму и заколет ею чужого, ради которого еще одного оленя бить хотят. Но нет, чувствует Мишка, что не осилит он, не подымет тяжелое оружие. Закипают в груди его горькие слезы обиды. Ах, бессилен он!.. бессилен! — Другое, другое... Вот возьмет он пылающую головню из камелька, поднесет ее к легкой бересте чума; вспыхнет жилище, трескучим пламенем охватит все, — охватит чужого, с которым идет новое горе для Монгумы, для Мишки, и сгорит этот чужой... Но старая Варвара, но другие?..
И снова он бессилен с замыслом своим, снова беспомощен.
И вдруг... мысль!.. Взобраться па гладкую спину Монгумы, ухватиться за его шею, тихо сказать ему, чтоб уносил он дальше, дальше отсюда.
Горят детские глаза пламенем новым, огнем отважных предков, может быть, не знавшим преград в бесконечной тайге, в безмерной тундре...
Сел Мишка па спину оленя. Тревожно и изумленно смотрит Монгума: что это? ведь ночь? Ласкает его мальчик, шепчет ласковые слова, — шепчет, что нужно уходить отсюда...
Вот поднялся на ноги олень. Легким трепетом размял застоявшиеся члены, оглянулся на Мишку, точно смотрит, — крепко ли держится у него на спине и легкими, неслышными шагами идет.
Идет от чума, — туда, где чернеет тайга. Все быстрей и быстрей его шаг. И вот уже мчится он, продираясь сквозь чащу. Только свист и треск стоить у Мишки в ушах.
Чрез колоды и хлам лесной, по тропинкам, по девстепному мху — быстрее стрелы несется Монгума, а на его спине, ухватившись смуглыми ручонками за шею его, лежит Тугаль, и в его глазах горит торжественный огонь...
Быстрей, все быстрей мчится олень...
---
Только чрез день нашел Спиридон своего Мишку. В самой чаще леса лежит олень с разбитыми ногами, окровавленный и с отчаянием в больших синих глазах. А возле него — бездыханный Мишка...
У человека много врагов. И самый сильный, самый страшный враг себе — сам человек...
ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ.
I.
Селентур на своем коротком веку умирал три раза.
В первый раз, когда только что вымененная па шкуру черного медведя, турка после первой же пробы взорвалась и засыпала полгруди и бедро полным зарядом дроби. Во второй раз старая смерть взглянула на Селентура ласковым взглядом, когда в осенний сохатинный промысел перебродил он хребтовую речку. Правда, речка была никудышная — всего по пояс в самом глубоком месте, но горячая немочь повалила тунгуса и трясла его добрых три промысловых месяца. И только старуха с Чоны да свой шаман выходили Селентура.
В третий раз смерть подошла к чуму Селентура вот теперь.
Случилось это так.
Кирилла Степанович, друг Селентура, доставлявший ему всю «покруту» и забиравший весь его промысел, каждую осень выходил к Селентурову стойбищу и здесь производил с ним мену.
Время это бывало самое счастливое в жизни Селентура. Можно сказать, невыразимый праздник.
Чего уж лучше: неделю или две пили и ели гостницы Кирилловы. Неделю или две песня кружилась вокруг чума и пугала умирающую тайгу.
Потом друг уезжал и оставалась ровная жизнь. Оставалась тайга, привычная, покрывавшаяся снегом, раздольная, своя.
Приезжал Кирилла Степанович как раз перед первыми заморозками. Еле-еле успевал сплавиться на плотах или шитиках по речке, а обратно уходил в новеньких берестянках, нарочно приготовленных Селентуром.
Место Селентурова стойбища было глухое, и никакие другие друзья, кроме Кирилла Степановича, не рыскали здесь.
Мену Селентур с другом своим вели по-старинному. От дедов так осталось, так повелось у Селентура, чтобы к нему друг выходил с покрутой в тайгу, к месту назначенному. Не то, что нынче: перебродит тунгус тайгу из края в край, наломает ноги, ознобит и лицо и руки, а потом идет друга искать, гонит оленей в русские деревни, разрушает стойбище зимнее, тушит огонь очага.
Из года в год житье было ровное и однообразное: Селентур с семьей ловили рыбу, били зверей и копили пушистый мех, на который так жадны и Кирилла Степанович и другие, чужие друзья. Потом однажды в год приезжал друг, потчевал водкой, оставлял свинец, порох и муку — и уезжал, чтобы на следующий год, в урочное время, снова приехать. И так из года в год, пока не случилось неожиданное.
По всем расчетам выходило, что Кирилла Степанович должен придти сегодня-завтра. Уж веяли холодные ветры, блекла трава и точно свинцом подернулись воды. Уже опустели жестянки из-под пороха и маленькие обгрызки свинца валялись в углу чума. И в патакуях светилось дно: последние выскребыши муки на колобки изводила жена Селентура.
По всем расчетам выходило, что Кирилла Степанович недалеко и вот-вот прибудет.
Но шли дни. Сильнее блекла трава, свистели ветры в оголявшихся тальниках, хмуро и пасмурно глядело небо, редко-редко улыбаясь солнечным лучом. И не приезжал друг.
Пришел день, когда, охнув, жена Селентура перевернула последний патакуй. в котором еще вчера оставалась мука, и из него не вылетело ни пылинки.
Остались без колобков. Ели уток, набитых для гостя. Съели весь запас. Пришлось Селентуру и старшему парню идти поохотиться в близлежащих озерах. Но приходилось скупиться на выстрелы, так как натруски становились все легче и легче.
Начинала закрадываться тревога в Селентура, в домашних.
— Где друг? Почему не едет?.. Ведь скоро и совсем нельзя будет пробраться сюда, где же он, зачем время обычное упускает?..
Тревога росла. Она насела на собак, — и они, жалобно воя, бродили вокруг стойбища голодные и угрюмые. Не было муки, чтоб сделать для них вкусную колотушку. Мало было потрохов, потому что и дичи самой было мало.
Несколько раз Солентур с сыном выходил по Ыргису на запад, откуда должен был придти Кирилла Степанович. Но не было друга. Где-то застрял он. Где-то беда держит его и не пускает сюда.
И вот настал день, когда в сердце Селентура родилась уверенность, что друг не придет.
Сидя пред веселым огнем в чуме, громко высказал он домашним:
— Беда... Нет друга, нет Кирилла Степановича.
Испуганная жена вскрикнула. Широко раскрыла она глаза, в которых испуг смертельный.
— Муки, мужики, нет!.. еды не будет! — жалобно откликнулась она.
— Пороху и свинца нет! — также испуганно прибавил старший парень.
Маленькие забились под скаты жилища и молчали.
Селентур помолчал. Он озабоченно порылся за пазухой и крякнул.
— И табаку совсем не осталось, — добавил он.
Так коротко и немногосложно выяснила вся семья Селентурова свое положение.
Женщина было захотела поохать и простонать, но крикнули на нее мужики, и она замолчала. И в тишине, возле огня, тягуче, не торопясь и долго обдумывая каждое слово, Селентур обсудил, как быть.
Велел парню сосчитать сколько зарядов осталось и неодобрительно покачал толовой, когда узнал, что всего и пороху и свинцу выстрелов на двадцать осталось.
— Ах, плохо!.. Совсем плохо! — вырвалось у него. Потом посмотрел на чуманы берестяные, где икра сиговая — гостинец Кирилле Степановичу — припасена была.
— Давай гостинцы чужие теперь есть. Завтра начнем! — Потом бросил совещание и вышел бродить вокруг чума. И там долго что-то ворчал, пролезая в тальники и смородинные заросли. Искал остатки ягод — и не нашел: неурожайный год выдался на грех.
III.
Над чумом нависло молчание. Если бы не воющие от голоду собаки — нельзя было бы и предположить, что здесь жилье человеческое — так тихо, точно таясь от кого-то, зажила семья Селентура.
С неделю пробились всякими остатками, вытряхивали чуманы и патакуи, скребли в них остатки муки, пищи.
Беда была с собаками — для них не находилось никакой пищи.
Но еще горшая беда была впереди. Наступали радостные прежде дни осеннего промысла. Уже бегают по тайге и по окраинам тундр и на прогалинках в любовном томлении великаны сохатые. Нужно уже собирать собак, ковать пули — много пуль, туго набить натруски ружейным запасом и идти искать добычу. Тогда будет сытая зима. И уйдет тревога из жилища.
Но сколько не искали по чуму, сколько не вертел Селентур натруски в руках, и свинцу и пороху оставалось мало — двадцать, или уже через силу двадцать пять зарядов.
Тогда Селентур отделил от пороха и свинца половину всего запаса и положил в чум, в самый дальний, самый сухой угол.
— Это, — сказал он домашним, — про запас. Если придет какая беда, — много бед бродить по тайге, — так для нее!..
С остальными зарядами вышел он вместе с сыном, обрадовав домашних и собак, на сохатых.
Но с утренней до вечерней зари прорыскали они по марям и не нашли добычи. Видели следы — много следов, но уходили они в сердце тайги.
Так, без промыслу, голодные, усталые и испуганные вернулись они обратно к жилью.
Парень, не выдержав, выпустил несколько зарядов по рябинкам и убил их несколько штук.
Но Селентур жестоко выругал его за то, что он зря потратил драгоценные порох и свинец.
На следующий день снова ушли мужики искать сохатого. Н снова видели следы, много следов, а самого зверя не было.
Разглядывая в одном месте четкий и свежий след сохатого, Селентур увидел нечто, поразившее его. Он криком подозвал парня и молча указал ему на мох.
— Волки! — Отпрянул тот в сторону: — волки! — Тогда поняли они оба, что напрасно ходят они в поисках за добычей — ее гонит рать серых, ее не будет...
В этот день зарезали первого оленя. Было сытно. По телу пошло радостное тепло. Зазвучали в чуме голоса, ожили люди. Там, где есть сытная и горячая пища, там и радость.
С этого дня стали бить на еду оленей.
Один за другим убывали они в стаде Селентура. И хотя и было сытно и тепло в его жилище, но вздыхал тунгус и темнел.
Ожили собаки. Снова залоснилась на них шерсть, и ярко-красные пасти со сверкающими зубами разевались в сладкой истоме сытости. Уже не визжали и не выли они. Выла пища — было спокойствие...
IV.
Ночью Селентур услыхал вне чума какой-то необычный звук. Тихо вышел он на поляну. Оглянулся вокруг, прислушался к тишине. Все было спокойно. Тихо спали собаки, не чуя ничего. Хотел было уже Селентур, совсем успокоенный, вернуться к огню, но снова остановился в тревоге. Чуткое ухо его уловило далекий, слабый звук. Трепетно и, точно вздох, слабо протянулся этот звук и умер. Но не успело умереть воспоминание о нем, как повторился он, теперь уже громче. Потом снова и снова.
Вскочили собаки, кинулись в темноту, залаяли. И их лаю ответил совсем громко и близко волчий вой. Нудный и зловещий в осеннюю ночь волчий вой...
Всю ночь перекликались злобно собаки с волками. Всю ночь не спала семья Селентура.
Утром пошли к стаду, пасшемуся недалеко от чума, и не нашли оленей.
Разъяренный Селентур схватил ружье и побежал в ту сторону, откуда ночью слышался волчий вой. Но что он мог поделать? Вся злоба его упала в тишине тайги и вместо нее пришло отчаяние. Понял он, что теперь голод. Понял он, что теперь за голодом легко придти и смерти, всегда идущей следом за тунгусской нульгой, всегда крадущейся возле чумов. Обессиленный бросил он, возвратясь, ружье возле чума и опустился на пожелтевшую траву. И молча слушал он заунывное причитанье жены и плач, визгливый и надрывный плач младших.
И молча подумал он одно, что могло спасти, что могло спугнуть смерть.
— Баркауль! — тихо сказал он сыну, — нужно нульгичить... Уходить отсюда нужно. К чужим стойбищам, к чужим речкам. К людям, Баркауль, нужно уходить отсюда...
— А как без оленей? — робко спросил Баркауль: — как нульгу будем делать без оленей?
— На себе все понесем! Сами...
Тунгуска вся сжалась, когда услышала решение мужа и сына. Она ничего не сказала, но сердце у нее оборвалось: как бросить жилище? Ведь не время еще для нульги? Куда идти, к кому?..
Но не пришлось разрушать жилища, не пришлось вырубать кольев из застывшей земли, не пришлось скатывать в трубки плотно слежавшиеся тиски [* Берестяные полотнища, которыми покрывают остов чума.] чума.
Едва свечерело — и забеспокоились собаки. То отбегут с лаем от чума, то, успокоенные, вернутся обратно. И так много раз. А как зажглись редкие звездочки — потянулся из ближней тайги знакомый вой. Настойчиво и неослабно звучал он над черными деревьями, шел из тьмы, точно она его извлекала из своей невидимой груди.
Собаки охрипли от беспрерывного лая. Они силились перекричать, заглушить волков, но вой стоном стоял над поляной и чумом и покрывал собачьи голоса.
И по этому вою ясно было, что волков громадная стая, что идут они к чуму, подвигаясь все ближе и ближе. По яростному вою их слышно было, что голодны они, что ищут пищи и, чуя ее, идут прямо к ней...
V.
Ночами стали вокруг чума раскладывать костры. До рассвета не спали и только днем отдыхали от бессонной ночи. Но отдых не был отдыхом. Рядом с волками ведь пришел голод. Холодный и ничем неутолимый голод.
Падали силы у людей. Оба младших уже так ослабли, что не вставали с ираксы. И с трудом проглатывали вместо пищи горячую воду, настоянную на какой-то траве.
Слабели и собаки. Исхудалые, с блуждающими, мутными глазами, они лежали возле чума и тихо скулили. Они заглядывали и Селентуру и Баркаулю в глаза, точно жалуясь. Они следили за каждым движением женщины, бездельно переносившей пустые чуланы с места на место, и вскакивали, обманутые запахом несуществующей пищи.
Баркауль несколько раз умолял отца отпустить его с ружьем, поискать дичи. Но Селентур огрызался на него и грозил кулаком. Он припрятал у себя все заряды, он сторожил ружья, не допуская к ним сына. Он знал, что нет для них сейчас ничего дороже лишнего хорошего заряда.
Но падали силы. И с каждым днем, с каждым часом все ближе придвигалась волчья стая, все теснее становилось их кольцо.
Трусливый волк, который раньше никогда не смел выйти днем на человека, который только в темную ночь осмеливался подходить к жилищу и, как вор, высматривать добычу, трусливый волк теперь не боялся дневного света: метались днем серые тени меж лиственями, огородившими поляну.
Лучшие Селентуровы собаки, умевшие ходить на самого амаку, жались к стене чума и только скалили зубы, бессильные кинуться па наглого и сильного врага.
Все уже и уже становилось кольцо, все ближе подступали волки.
Они были голодны. Так же, как Селентур и его семья, были они голодны и потому шли на все...
Слегла возле младших детей и жена Селентура. Забились они в чуме и притихли. Томными тенями двигаются у входа в жилье только Селентур и Барнауль.
— Давай ружье, отец! — молить молодой тунгус: — давай ружье и заряды, я пойду на них. Я буду стрелять... Я с ружьем я пальмой кинусь на них, испугаю, угоню!..
— Глупый бойе! — хочет сердитым сделать свой голос Селентур, но не может: — сколько зарядов есть у тебя? Сколько рук есть у тебя? Мало зарядов и только две руки, а тех много, так много, что слабым разумом твоим даже и не счесть их!.. Иди к ним — разве угонишь ты их?!.. Пищей им будешь... Разорвут, как белку...
— Давай ружье! хныкал Барнауль. И не приходило Селентуру в голову, выругать сына за то, что он, такой большой, а плачет, как баба. Так все перемешал кто-то в голове.
Однажды пред закатом волки обнаглели чрез меру. Несколько зверей отделились от стаи и пошли к чуму. Они выбежали на поляну, приостановились, чтоб оглядеть свои жертвы. Тогда почти совсем обессилевшие собаки повскакали на ноги и кинулись на них. И завязалась борьба. Пред глазами Селентура и Баркауля серыми клубками катались по земле разъяренные животные, рвя ожесточенно один другого, впиваясь зубами в живое тело.
Визг и возня сцепившихся волков и собак, привлекли внимание всей стаи — и потянулись из лесу голоса, торжествующий вой, все ближе и громче.
Сслентур схватил ружье и выстрелил. И когда рассеялся дым, то увидели оба, что волки, разрывая па частя серый труп, уходили с поляны. И не досчитали одной собаки.
Так был почать неприкосновенный запас зарядов.
После выстрела Селентур взглянул на Баркауля, хотел что-то сказать, но промолчал и бросил ружье.
VI.
По обычному пришла ночь. Все было, как прежде, — и на темном небе, и в хмурой тайге, и в притихнувшем стойбище. Так же, как всегда, опустилось солнце на острые сосен и елей и, раненое ими, обагрилось кровью само, обагрило полнеба и умерло. Так же, как всегда, в холодных сумерках разлился оживающий свет луны. И ничто не предвещало, что ночь эта будет последней. Ничто...
У двух костров, зажженных с разных сторон вокруг чума, сидели чуткие и утомленные Селентур и Барнауль. Слушали волчий вой и думали.
У молодого мысли были горячие и быстрые. Были мимолетны ето мысли и быстро и легко сменяли они одна другую.
У старого мудрость жизни создала тяжелые и неизменные мысли.
Барнауль думал: вот взять все оставшиеся заряды, захватить топор и пальму да пойти на волков. Кинуться на них нежданно, испугать и гнать по лесу. Убивать, убивать без конца.
Не то думал Селентур. Короткая, но неотвязная была у него дума: конец приходит... Идет последняя смерть. Третья смерть.
Сидели и думали разные думы...
В полночь от стаи снова отделились несколько волков и медленно пошли к огню. Селентур бросил в их сторону головню и они, злобно взвизгнув, убежали обратно. Но потом, передохнув немного, пошли снова.
Боясь разбросать весь огонь, Селентур взял ружье и выстрелил. На выстрел прибежал от своего костра Барнауль.
— Давай ружье! — трепеща от злобы, крикнул он. — Они идут на меня! Стрелять буду!.. Как ты же...
Селентур наклонил голову и, пошарив за пазухой, достал оттуда натруску.
— На, возьми, — подавая ее сыну, сказал он, — ружье в чуме за патакуями...
Баркауль ушел к своему костру. Позже услышал Селентур выстрел. Потом другой. Вздрогнули губы у тунгуса. Хотел он приподняться, пойти к сыну, сказать ему, что так тратить заряды безрассудно, нельзя. Но махнул рукой и себе самому громко сказал:
— Не надо, старик!.. Все равно...
Набеги волков делались все отчаяннее и смелее. С разных сторон подвигались они к чуму, обходя сбоку Селентура и Баркауля, минуя огонь или, озверев, идя прямо на костры.
Селентуру удавалось отпугивать передовых горящими головнями. Но чувствовал он, что еще немного и огонь уже перестанет пугать хищников.
С болью в сердце слышал старик, сквозь злобный вой волков, редкие выстрелы Баркауля. Каждый выстрел тоской н жалостью наполнял его существо. Но он молчал.
И с невероятной болью, чувствуя, что губит и себя и всех, что разрушает остатки надежды, он сам, отгоняя слишком обнаглевших волков, выстрелил.
А потом, уже не думая, так же, как и Баркауль, стал расточителен: хлопали неожиданно выстрелы его ружья, так часто служившие ему верную службу.
Не стало слышно выстрелов Баркауля. Хотел было окликнуть его Селентур, но тот сам подошел.
— Все! — коротко и хрипло сказал он и были боль и отчаянье на его лице.
Молча указал ему отец место возле себя. Молча передал ему свое ружье с остатком зарядов. Сам подвинулся ближе к костру и, точно забыв происходящее кругом, пристально стал глядеть в жаркий огонь.
Так думал о чем-то Селентур, не отрываясь ни от огня, ни от своих мыслей, до тех пор, пока вой, к которому уши успели привыкнуть, внезапно не усилился и не перешел в яростный крик и не зазвучал у самого костра.
Тогда поднялся он на ноги, увидел возле себя Баркауля с пальмою в руках. Оглянувшись, заметил жену, выползшую из черного входа в чум. А впереди себя, по ту сторону костра волков.
Точно проснулся он. Голой рукой схватил большую головню, взмахнул ею, рассыпая яркие искры и дым над головою, и закричал.
Не был человеческим крик его. Так никогда не кричал он, и если бы услышал он себя, то не узнал голоса Селентура. Был его крик подобен вою волка.
Воя и потрясая головней, с диким и неподвижным лицом шагнул он вперед, туда, где тьма стеной подступила, откуда радостный огонь костра беспечно выхватывает, освещая, серые тела волков.
И отступили испуганные внезапным нападением волки. Попятилось назад во тьму.
Во тьму же за ними, рассыпая огонь, пошел Селентур.
Так шел бы он долго, так ушел бы далеко, если бы не сторожила его последняя, третья, смерть.
Откуда-то сбоку вынырнул из темноты волк и медленно пошел к Селентуру. Горя глазами, весь вздрагивая, приближался он к тунгусу и что-то разглядывал на нем, пристально, не отрываясь.
Встретившись с его взглядом, Селентур вдруг весь ослаб, опустился. Закачалась в руке головня и опустилась медленно вниз, и упала на блеклую траву.
И в тот же миг успел еще услышать Селентур короткий лай волка, а потом громкий и радостный вой всей стаи.
И еще успел он понять, что-то завыла радостно, торжествуя победу, его последняя смерть...
ЧУПАЛИН СОН.
I.
След ее увидели трое: Иван Беспалый, беспутный Никанорка, в кою пору выбравшийся промышлять, и Дыдырца.
Собственно говоря, по совести, следит ее должен был бы только Дыдырца и он один — никто больше. За это говорило, во-первых, то обстоятельство, что след прорезал пушистый покров Пеледуя, а на берегу этой речки уже который год стойбищем стоял Дыдырца, — во-вторых, еще и то, что его собака Бойогда учуяла след и ожесточенно разрыла снег до мерзлой земли, отыскивая шарлоб [* Лисья нора.]. Но и Иван Беспалый и Никанорка беспутный тоже, ведь, какую даль шли сюда — и им нужно с чем-нибудь к купцам выйти, не с голыми же руками. Да притом их двое, а Дыдырца один, если не считать Чупалу, жену его. Но она, конечно, среди людей не в счет: женщина.
Лисиц по Пеледую водилось немного, все красные или недорогие сиводушки и спорить из-за них не следовало. Но Чупала как раз накануне видела сон: в чуме к огню прибежала белка, повертелась, огляделась вокруг умненькими глазками — да и прыг в огонь. А на завтра как раз и нашел Дыдырца свежий лисий след. Отсюда Чупала и сообразила: ходит поблизости не какая-нибудь красная лисица, а черно-бурая или, может быть, огневка, несравненная бесценная огневка, за которую купцы дают без счету водки и много муки.
Мужики Чупалин сон заметили и стали в уме держать. И по следу с собаками началась гоньба с зари до зари.
Чупала вечером у огневища охала н выговаривала усталому Дыдырце, что вот ходить он по следу, ходить, — а где лисица черно-бурая?
Тунгус отмалчивался и хмуро курил трубку. А женщина от упреков переходила к мечтам бесхитростным. Думала вслух, навевая сон монотонной речью на Дыдырцу, о том, что можно взять в деревнях, у купцов за лисицу дорогую. На год, а может быть, на два покруту забрать можно. Полные патакуи набить мукой и долго-долго печь вкусные колобки. Красного и черного сукна и ярких шелестящих тканей, табаку и водки. Много водки для Дыдырцы или родичей, которые сойдутся посмотреть па того, кого под сердцем уже чует Чупала; кто в ясное весеннее утро вдруг прокричит пронзительно, как тот, другой, унесенный тяжелой болезнью.
Сладко жмурясь, уносилась Чупала в мечтах к заманчивому будущему. Долго сидела подле огня, подбрасывая все новые и новые дрова. А Дыдырца засыпал тяжелым сном и спал, скрежеща и слабо вскрикивая во сне.
II.
Беспутный Никанорка па промысел пошел совершенно случайно. Вовсе и не охотник он. От ружья не отвык потому только, что возле деревни по озерам за утками весной и осенью бродил. На том и охота вся его кончалась.
Пошел он к Пеледую в настоящий промысел из-за Ивана Беспалого. Тот—мужик хозяйственный, с купцами знающийся, дом да обзаведение у него крепкие, а Никанорка бобыль и пьяница. Задолжал Ивану — долг-то незнаемо когда начался, а конца ему не видно. Иван смекнул: пойти одному с Дыдырцей промышлять — половину получишь, а если кого-нибудь третьего ловко прихватить — и две трети промысла очистится. Третьим-то Никанорка и случился.
Никанорке лучшего и не надо было. Харч сытный был, раздолье широкое в тайге, верхонку и парку теплые от хозяина получил — чего лучше! Ходи меж сонных елочек, оставляй за собою след, жди не попадет ли зверь глупый — да стреляй в него. Попадешь — хорошо, не попадешь не беда.
А раздолье-то кругом какое! Синими тенями в изломах отливает покров снеговой на хребтах и по боркам. Тишина жуткая. Ни ветерка, ни вскрика. Только трое в разных местах темнеют — сам Никанорка, да остальные охотники. И впереди, вытянув морды и поджимая лапы, идут что-то высматривающие, насторожившиеся собаки.
Да хлопает изредка выстрел вслед за звонким и отрывистым лаем.
И вовсе не нужны были Никанорке ни охота, ни промысел. Не для него это все. Ему бы пища была, да работа нетрудная. Да тишина лесная. Тишина, в которой так славно родятся легкие, и нужные, и забавные мысли.
А пушистая белка, да колонок, да горностай, за которых другие получат деньги, а на деньги товару разного много — всего этого беспечному Никанорке не надо было.
И вот внезапно в безмятежное спокойствие Никаноркино пришла лисица невидимая. Несравненная, бесценная черно-бурая лиса, а может быть и сама огневка. За нее, знал он, приезжие купцы, охочие надуть и инородца и крестьянина-охотника, совсем не скупясь, дают много денег. Столько — сколько Никанорке отродясь не видал. За какие можно домишко себе устроить, хозяйство, семью.
Пришла мысль уйти за синеющим тонким следом зверя, найти его, убить и потом стряхнуть с себя и подневолье полупьяное, и жизнь впроголодь да в чужих людях, и насмешки людские.
Ведь огневка!.. Счастье единственное, однажды случающееся!..
И в тот день, когда трое набрели па ясный и свежий след и двое из них просто и небрежно сказали: «лисица», — а потом женщина упорно и настойчиво добавила, овдохновленная вещим сном, — «черно-бурая!.. огневка!» — в тот день Никанорка обрел в себе непреодолимую жажду самому и только для себя одного, а не для кого-нибудь другого найти этого редкостного зверя. Напитался мыслью, которая обожгла его и угнала из тела его спокойствие и неторопливость.
Высматривающим и подозрительным сделался он. И дрожал одной боязнью — как бы без него Иван или Дыдырца не уследили зверя, как бы он не остался безо всего.
И когда Иван, тоже воспаленный жаждой добыть чудесную лисицу, озабоченно и хлопотливо предостерег его:
— Ты, паря, не робей — добывать нам ее надо! — то усмехнулся Никанорка тонкой, хитрой и злой усмешкой.
III.
У Ивана Беспалого расчет был простой: если лисицу добудет он с Никаноркой, то сокроют они ее и не дадут части Дыдырце и тогда ему — Ивану — придется рублей двести-триста. А если скрыть не удастся, то все же очистятся две радужные. Как-никак — а промысел богатый, есть о чем помечтать, есть и на что погулять. И так или иначе, понимал Иван, не минует его богатая добыча, мимо него не пройдет.
Озабоченней всех был Дыдырца. Его занимала упорная мысль: как держит путь эта невидимая лисица. То след ее видели по эту сторону речки и он, точно насмехаясь и дразня, хитрыми и ненужными петлями намечался возле самого жилья. То куда-то далеко на речку убегал и терялся по распадкам, в глухих, занесенных саженным снегом долинках.
Не мог понять он — так сроднившийся с причудами и тайнами тайги — не мог понять он, зачем бродит, по-видимому учуявшая слежку, лисица в опасных для нее местах. Зачем дразнит своих врагов и не уходит в далекие хребты, туда, где для нее нет опасности.
И, не понимая этого, не умея разгадать — с какою-то ожесточенностью бегал Дыдырца по целым дням по следу на голицах, высматривал, соображал, обдумывал, как бы перехитрить зверя.
И пускался он на разные выдумки охотничьи.
Если с вечера оставлял след в одном месте, то, приглядевшись к нему и что-то сообразив, утром уходил куда-нибудь в сторону и уже к полудню перехватывал свежий — еще в рыхлом снегу и с чуть заметно оставшимися краями. Или вдруг бросив выслеживать добычу, без пути начинал прокладывать новую лыжню по тем местам, куда и ходить-то не следовало. Так обманывал ее с ее хитрой и обдуманной попыткой уйти от охотников, запутав их в таинственном п непонятном сплетении следов.
И чувствовал Дыдырца, забывая о своих названных товарищах Никанорке и Иване Беспалом, — чувствовал, что должен он перехитрить лисицуу. Должен идти по тайге, путая свой след, высматривая, напрягая все свое чутье, за лукавым зверем и во что бы то ни стало добыть его, покорит себе.
Раздувались ноздри у тунгуса, загорались глаза огнем оживления и упорной, неотвязной мысли. Наливалось тело непреодолимой бодростью и что-то тянуло вперед — по следу, за зверем.
Не было для него ничего вокруг: перестал стрелять глупых белок, точно изумленно выглядывавших с вершин сосен. И даже однажды равнодушно упустил медленно проскользнувшего в чащу, блеснувшаго желтизною колонка...
Покрывалась пáбережка возле Пеледуя замысловатым и тонким узором следа. Бороздилась белая гладь ее во все направления разбегающимися лыжнями.
За маленьким зверем, которого никто не видел и ценность которого еще никто не разгадал, упрямо и настойчиво гнались трое...
IV.
С утра оставалась Чупала одна в чуме и день ее наполнялся ленивыми мыслями.
Курился непотухающий огонек и вместе с ним — то вспыхивая, то потухая и чуть тлея, медленно трепетала ее мысль.
Под почерневшими скатами чума было все такое привычное и знакомое. И не растекались мысли. И хоть медленно, но шли по одному пути.
Где-то бродит, озираясь и вся насторожившись, неведомая лисица, которую всего однажды видела Чупала, да и то во сне.
Неясно предчувствует она ее. Какая она? Горит вся, как тлеющие угольки камелька? Или как яркое зарево заката летнего? Не знает Чупала этого. Знает она только, что несравненен мех у этой лисицы. Что радостно глазам смотреть на нее, что один только раз во всю человеческую жизнь и не каждому можно увидеть ее.
По рассказам родичей, еще с детства помнила она, как бьются охотники, чтобы добыть такую лисицу. И смутно — смутно сквозь толщу лет припоминала, как однажды еще живший тогда отец принес в чум такую добычу. Светло сделалось в темном и дымном жилище. Заискрилось, засверкало вокруг, сияние пошло от маленькой шнурки, или показалось это тогда? Или годы изменили воспоминание?..
Рядом с мечтами о том изобилии всяких богатств и вина, которое придет с этой еще неубитой добычей, Чупалу охватывало горячее нетерпение увидеть никогда невиданную лисицу. Посмотреть бы только один раз. Погладить пушистый мех руками, прижаться к нему лицом, щекой. Встряхнуть его пред глазами и удивляться огню незнаемому, который рассыплет он вокруг.
С утра до позднего вечера, до прихода усталых и неразговорчивых охотников медленно и упорно думала так Чупала. И встречала Дыдырцу с загоравшимися глазами. Но потухали они, видя его хмурое и нерадостное лицо.
А ночью тихо и торопливо шептала она мужу — что вот какой он охотник, какой тунгус, — сколько дней следит за лисицей, а все выследите ее не может. И лыжи у него есть, и ружье, и крепкие ноги, могущие бежать много верст, — а лисица все бродить живая, хитрая.
---
Уходили дни. Приуныл уже Никанорка, непривычный к тяжелой слежке зверя. Подумывать стал и Иван о том, что время уходить, лисицы нет, а промысел настоящий, беличий, за которым пришли сюда, пропадает зря.
Только Дыдырца с остервенелым упорством бродил по речке, по пáбережке, по распадкам и все высматривал, все обдумывал.
И возвращаясь изнеможенный и молчаливый в чум, и встретив ищущий, вопросительный взгляд Чупалы и ее нетерпеливый вопрос, он молча скрипел зубами, а потом, отдышавшись, долго, сопя носом, раскуривал трубку, злобно отгораживая себя ото всех клубами густого дыма...
За патакуями и инмоками, на половину опорожненными от муки, которою они были наполнены когда-то, в чуме валялось старое ружье Дыдырцы.
Три года назад ему удалось выменять себе за трех сохатых новую турку и он свою кремневку положил сюда отдыхать.
В мечтах о лисице Чупала часто останавливалась мыслями на этом ружье. Взять бы его, вскинуть себе за плечи, всунуть ноги в юкши легких лыж и тоже пойти искать зверя — вдруг бы посчастливилось!
И сердилась она на кого-то за то, что девчонкой давали ей ружье и посылали па озера уток бить и гусей скрадывать, а вот потом уже не пускали промышлять. В настоящую охоту уже не отпускали. Вот бы теперь пригодилась она. Была бы помощницей Дыдырце. Не была бы такой неловкой, да неудачливой, как мужики. Шла бы за лисицей и добилась бы своего.
Вынимала Чупала ружье из-за патакуев и инмоков, осматривала его, щупала спуск, полку, кремень. Совсем ладное, заряженное ружье. Насыпать на полку пороху немного, кремень пододвинуть выше — и готово, можно выходить на промысел.
Нашла Чупала и натруску, в которой вдоволь было и пороху и свинцу.
Все есть.
Тогда стала она выходить из чума вооруженная и бродить неподалеку от жилища...
V.
... Загнанная, сбитая с толку, лисица металась из стороны в сторону. Тесным треугольником окружили ее люди. Хитри не хитри, — а уже становится все труднее и труднее плести и запутывать узоры следов.
И однажды, почти застигнутая Дыдырцей, она, не помня себя от страха и ярости, кинулась в ту сторону, откуда явственно неслись к ней запахи человеческого жилья.
И там встретила Чупалу.
От неожиданности и горячей невероятной радости Чупала чуть было совсем не забыла, что ей следует делать.
Она увидела недалеко от себя тонкую мордочку и два светящихся глаза. Но больше всего, но раньше всего увидела она несравненную, отливавшую голубоватом, перебегающим огнем спину.
Но внезапно же вернулась к ней уверенность, вернулось сознание. Она сыпнула порох на полку, изловчилась и, почти не целясь, выстрелила.
Лисица прыгнула вверх, шлепнулась на снег, но снова поднялась на ноги и побежала от Чупалы. Тогда та, испуганная страшной мыслью, что уйдет добыча, бывшая ужо почта в ее руках, второпях, по отмеривая заряда, зарядила ружье. Побежала вперед за лисицей, увидела ее, ослабевающую, но все еще пытающуюся уйти, и снова выстрелила.
И, спустив кремень на полку, вдруг почувствовала Чупала страшный удар в плечо, в грудь, а потом и в голову. Страшный шум услыхала она. И все в ее глазах на мгновение окрасилось в красный, а потом в черный цвет.
И потом все провалилось куда-то навсегда, безвозвратно.
---
Дыдырца напал па свежий след. Он почувствовал что лисица совсем недалеко от него.
Радостно пошел он по этому следу. Но чем больше шел, тем больше изумлялся: след вел его к жилищу.
Раз слышал Дыдырца звук выстрела, но не обратил на него внимания; кто-нибудь из товарищей — решил он — белку подстрелил.
А когда вышел на полянку, неподалеку от которой стоял чум, и увидел рядом с перепутавшимися лисьими следами еще другие — человеческие следы, то всполошился Дыдырца. Оглушила тунгуса плохая мысль: не убил ли кто вместо него хитрого зверя!..
... В первое мгновение, увидев окровавленную Чупалу на взрытом и забрызганном кровью снегу, Дыдырца не понял в чем дело. Не понял всего зла, свершившегося без него.
Но скоро все понял. Увидел недалеко от окровавленной Чупалы убитую лисицу. Хотел кинуться к ней. Не зная сам зачем — кинуться. И завыл.
Диким и страшным звериным воем завыл мужик...
---
Иван Беспалый, придя к чуму и застав возле него беду, не растерялся.
— Чего ты, бойе? — тряхнул он окаменевшего Дыдырцу. — Лисицу-то подбери!.. Огневка!..
Дыдырца угрюмо махнул рукой и отбросил от себя предупредительно поднесенную Иваном лисицу.
— Не надо разве?.. — встрепенулся Иван.
И подобрал лисицу себе. И когда брал ее в руки и мял ее уже застывшее тело, то вспыхивало его лицо какими-то пугливо-радостными румянцами и хищно впивались костлявые пальцы в пушистый мех.
Над трупом Чупалы двигались двое. У одного лицо было застывшее и опалено испугом и злобой. Другой с трудом прятал неожиданную, необъятную радость.
Такими нашел этих двух Никанорка.
Увидел мертвую, увидел пушистый хвост и беспомощно повисшую голову лисицы за спиной Ивана — всплеснул руками. От изумления и огорчения матерно изругался.
— Ах ты... хлюст!.. — накинулся на Ивана. Метнулся к трупу.
— Бедная ты!.. Ишь как...
Тряхнул за плечо Дыдырцу, поднявшего на него мутные глаза...
Потом растолкал мужиков и принялся вместе с ними убирать труп, все время охая и огорчаясь...
Позже Иван Беспалый добыл, откуда-то вытащив, бочонок спирту и угощал Дыдырцу.
Никанорка уже пьяный сидел у огня, охватив руками колена и раскачиваясь из стороны в сторону, и отчего-то плакал. Горькими, нудными слезами плакал. И в пьяной нежности и жалости приговаривал:
— Бедная ты моя... бедная!..
И нельзя было узнать, кого оплакивает Никанорка беспутный — Чупалу ли или несравненную, редкостную лисицу, огневку...
Катангский район
Это самый северный район Иркутской области. В настоящее время в районе проживает 5 тыс. 647 человек. Это – русские, в т.ч. потомки старожилов, эвенки, якуты. За последние 10 лет население сократилось на 4 тыс. человек в основном за счет выезда геологов. Населенные пункты района, сгруппированные в 11 сельских администраций, расположены в долине р. Нижняя Тунгуска и ее притоков (р. Hепа, р. Тетея). На юге района расположены в основном старинные сибирские деревни (количество которых сократилось в период укрупнений 1960-х гг.), на севере – поселки, возникшие в 1930-40-е гг. Районный центр – село Ербогачен.
Район имеет промыслово-сельскохозяйственную специализацию. В 1960-е гг. были ликвидированы колхозы, а вместо них созданы Преображенское (территория – 6 тыс. 348 га) и Катангское (территория – 6 тыс. 992 га) кооперативно-зверопромысловые хозяйства (КЗПХ) с отделениями. Они специализировались на заготовке и продаже государству продукции пушной и мясной охоты, рыболовства и собирательства. В связи с перестройкой и социально-экономическим кризисом последнего десятилетия XX в. хозяйственное устройство и землепользование претерпело значительные изменения. Исчезла государственная монополия на заготовку и закупку пушнины. Кооперативно-зверопромысловые хозяйства раздробились на небольшие хозяйственные объединения – закрытые акционерные общества (ЗАО), общества с ограниченной ответственностью (ООО), малые предприятия (МП), которые образовались в границах и на оставшейся материальной базе отделений КЗПХ. Территории, которые ранее арендовали КЗПХ, были поделены и перешли к новым хозяйственным организациям. Сейчас в районе имеется десять юридических лиц, за которыми закреплены охотничьи территории и которые обладают правом получения лимитов на соболя. Например, ЗАО «Катангская пушнина» арендует территорию площадью 4624,7 тыс. га, которую раньше арендовало Ербогаченское отделение Катангского КЗПХ. ООО «Дэнкэ» хозяйствует на территориях бывшего Инаригдского производственного участка Катангского КЗПХ (площадь 258,8 тыс. га). ЗАО «Сибирь» хозяйствует на бывших территориях центральной усадьбы Преображенского КЗПХ общей площадью 4 524,8 га. ООО «Ерема» работает на территориях площадью 348,8 тыс. га, которая ранее была арендована Еремским участком Преображенского промхоза. Руководители большинства «новых» хозяйств остались прежние. Все территории представляют собой компактные массивы, и лишь территория ООО «Гиркил», в котором объединены эвенки-охотники северной части района, представляет собой разрозненные участки, чересполосные с другими хозяйствующими субъектами, общей площадью 1 762,2 га. «Ввиду мозаичности закрепленной территории никто из руководителей охотхозяйств описание границ представить в настоящее время не может», – отмечал старший охотовед района В. Г. Коненкин.
Они снабжают охотников товаром под будущий промысел и закупают пушнину, практически не занимаясь сбором дикоросов и другими видами хозяйственной деятельности, свойственным прежним промысловым хозяйствам. В 1997 г. еще сохранялись небольшие табуны лошадей и стада крупного рогатого скота (в Ербогачене – 34 лошади, в Ереме – 22 лошади и 21 голова крупного рогатого скота; в Преображенке – 153 лошади, 189 голов крупного рогатого скота).
Катангский лесхоз проводит лесные аукционы по продаже древесины на корню; вырубка леса ведется преимущественно в южной части района. В районе разведаны большие запасы нефти, природного газа и калийных солей, но их разработка пока не начата. Район интересен для водных туристов и туристов-охотников.
В XVII в. на рассматриваемой территории жили тунгусы (эвенки), постепенно появлялись редкие поселения якутов, в приречных долинах, в местах, пригодных для занятий земледелием, в XVIII в. расселялись русские крестьяне Туруханского монастыря. Еще раньше, в XVII в., русские казаки и промышленники основали ясачные зимовья для сбора ясака. Эвенки Катангского района до революции относились к Курейской и Кондогирской инородным управам, называли их соответственно названиям управ. Они имели родственные связи с эвенками Прибайкалья и северного Забайкалья, а также из соседнего Эвенкийского а.о.
Своеобразие социальной среды Катангского района состоит в том, что здесь уже более трех веков, по соседству с эвенками, живут русские старожилы, которые во многом восприняли местный образ жизни, а некоторые в результате смешанных браков имеют родню по эвенкийской линии. Со своей стороны, часть эвенков в результате процессов аккультурации и ассимиляции изменили свою идентификацию, имеют двойное, иногда тройное этническое самосознание.
На 2000 г. в районе проживало 557 эвенков, из них – 268 мужчин и 289 женщин. Большинство эвенков живут в северной части района, в поселках Тетея (72 чел.), Наканно (70 чел.), Хамакар (138 чел.), Ербогачен (208 чел.). Здесь они смешаны с якутами и русскими. На юге района эвенки издавна имеют культурные связи с русскими старожилами.
В последнее десятилетие эвенки переселялись из мелких населенных пунктов в районный центр Ербогачен, где было больше возможностей найти работу и улучшить свои жилищные условия за счет выезжающих. Часть их мигрировала за пределы района – в соседнюю Эвенкию, а также в города и районные центры Иркутской области. Сокращение эвенкийского населения в 1995 г. в Хамакаре более чем на 20 человек, в Инаригде на 9 человек, в Подволошино на 9 человек заставило власти обратить внимание на этно-демографические процессы в этом районе.
Из числа катангских эвенков работает 115 человек, большинство которых заняты в сельском хозяйстве, а также в сфере образования. По сравнению с 1989 г. численность работающих сократилась в два раза, в том числе штатных охотников – со 112 до 43, уменьшается также и число оленеводов.






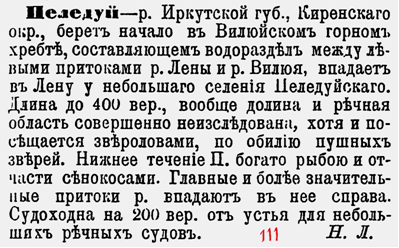












Brak komentarzy:
Prześlij komentarz