«Тунгусскіе разсказы». Ис. Гольдберга. - М. 1914 г. Ц. 80 коп.
«Алтайскій Альманахъ» подъ ред. Г. Д. Гребенщикова. – Пб., 1914 г., Ц. 1 р. 50 коп.
Сибирская литература обогатилась двумя новыми книгами.
Одновременно вышли в свет: в Москве — «Тунгусскіе разсказы» г. Ис. Гольдберга, выпущенные книгоиздательством писателей, и в Петербурге — «Алтайскій альманахъ», в издании барнаульского «Т-ва алтайскаго печатнаго дѣла» под редакцией Г. Д. Гребенщикова.
Первая книга — чисто беллетристического содержания, вторая — смешанного, но в обеих видное место занимает элемент этнографический. И уже с одной этой стороны, — не касаясь пока художественных достоинств и недостатков той и другой книги, — нельзя не признать за обеими несомненный интерес.
«Тунгусскіе разсказы» описывают уголки жизни одного из быстро вымирающих инородческих племен, находящегося на пути к окончательному вырождению, но до сих пор почти совсем не фигурировавшего в нашей художественной литературе.
«Алтайскій альманахъ» посвящен описанию целого края, в высшей степени интересного и своеобразного, давно уже заслуживающего самого широкого воспроизведения его в художественной литературе, но до сих пор также мало затронутого в ней.
Так. обр., обе книги стремятся заполнить собою, хотя бы отчасти, ощущающиеся в нашей литературе по сибиреведению пробелы, — и уже с одной этой стороны появление их на книжном рынке является далеко не лишним.
Начнем с «Тунгусскихъ разсказовъ».
Автор этой книги г. Гольдберг (Исаакъ Г.), насколько известно, еще молодой писатель. До сих пор его рассказы печатались, на протяжении около десяти лет, на страницах сибирских газет, главн. обр., иркутских, затем — томских и читинских.
В рассматриваемой книжке содержится тринадцать рассказов, сюжеты которых выхвачены из жизни приленских тунгусов, кочующих в верховьях Нижней Тунгуски, где автору пришлось провести несколько лет, видимо, в качестве невольного жителя. Автор рисует целый ряд самых разнообразных картин быта обездоленных детей тайги.
Один из лучших рассказов г. Гольдберга, открывающий собою книгу, —«Большая смерть» — дает картину нарастающего ужаса обреченности и полной беспомощности бедных инородцев перед надвинувшейся эпидемией, одним из тех ужасающих бичей инородческой жизни, которые обусловливают собою неизбежное и быстрое их вымирание, уничтожая целые стойбища...
Другой рассказ — «Послѣдняя смерть», также относящийся к числу лучших в книжке, рисует другой ужас инородческой жизни — голодовки. Производят впечатление на читателя переживания тунгуса-охотника, обреченного со своею семьею на голодную смерть, т. к. его «друг»-покручатель забыл его, оставил на произвол судьбы в «неурожайную» по охоте зиму...
В третьем рассказе — «Правда» — автор рисует психологию юридически беспомощного тунгуса, запутывающегося в понятиях об юридической правде, с одной стороны, и правде житейской — с другой.
В рассказе «Олень» автор делает попытку проникнуть в психологию тунгусского ребенка-мальчика, —и т. д.
Автор, видимо, близко и хорошо знаком с бытовыми условиями изображаемой им среды и — что самое главное — любит своих обиженных судьбою и людьми героев, жалеет их и умеет вызывать к ним сочувствие у читателя.
Что касается изложения, стиля рассказов, то с этой стороны нельзя отказать молодому автору в красивом, местами образном языке, в даре изобразительности, уменье схватывать и запечатлевать сущность наблюдаемых предметов и явлений.
Но, наряду с этим, автор, зачастую ... переходит ... к манерничанью, к нарочито вычурным сравнениям и оборотам речи.
Берем несколько примеров:
«Ушел день. Заколыхались прохладные вздохи ночи»... (стр. 16).
Луна «начала таять, кусочек за кусочком отпадать и становилась все тоньше, пока совсем не умерла»... (стр. 50).
«Синими тенями в изломах отливает покров снеговой на хребтах и по боркам». (стр. 148).
Или вот еще:
«И вот внезапно в безмятежное спокойствие Никаноркино пришла лисица невидимая» (стр. 149). Почему бы не сказать просто: нарушила, или омрачила безмятежное спокойствие?
«Яростным ударом вырвал старик (медведь) из чрева Ашитты маленького илле» (ст. 53). Каким это образом мог медведь одним только ударом совершить такую сложную гинекологическую операцию?..
Есть в книжке и другие недочеты.
Так, хорошо, в общем, написанный рассказ «В бездельное лето» несколько растянут, велик для изложенного в нем незначительного эпизода, почти анекдота, о краже молодым тунгусом у приезжей экспедиции какого-то научного прибора.
Но все это — мелочи, от которых молодой автор книги, — хочется верить, — скоро освободится, конечно, при условии, что он «не почтет на лаврах», а будет упорно работать над развитием и усовершенствованием своего, пока еще скромного, дарования...
---
«Алтайскій альманахъ» открывается обстоятельным историко-этнографическим очерком редактора сборника г. Гребенщикова: «Алтайская Русь»...
К. Дубровский.
/Сибирь. Иркутскъ. № 8. 11 января 1914. С. 2./
ПИСАТЕЛИ-СИБИРЯКИ.
Ис. Гольдбергъ «Тунгусскіе разсказы».
(Изданіе московскаго книгоиздательства писателей.) М. 1914 г. Ц. 80 к.
Современная Сибирь очень бедна беллетристическими талантами.
Вполне сформировавшихся ярких и сильных художников слова пока что совершенно нет. Три-четыре начинающих и подающих надежды писателя —вот и все, что находим мы в современной Сибири, что успела выделить из своих рядов сибирская интеллигенция.
Впереди этой небольшой группы молодых сибирских беллетристов идет Г. Гребенщиков, давший за последние два-три года несколько интересных рассказов из сибирской действительности (см. сборник его рассказов «Въ просторахъ Сибири», вышедший в Петербурге в начале 1913 г.) и значительную по объему и содержанию повесть «Ханство Батырбека» (Современникъ», 1913 г.).
Присутствие таланта чувствуется и в рассказах двух других беллетристов - Вяч. Шишкова и А. Замиралова.
Более интересен и художественно определен четвертый сибирский беллетрист — Исаак Г. (Ис. Гольдберг, автор вышеназванной книги «Тунгусскіе разсказы»).
Ис. Гольдберг около семи-восьми лет работал под псевдонимом Исаак Г. в различных органах периодической сибирской прессы. Но пользоваться известными симпатиями читателей и вниманием редакции сибирских газет он начал всего только около четырех тому назад, когда появились на страницах газет его первые рассказы из жизни тунгусов.
Рассказы Исаака Г. — стороннего наблюдателя наивной и трагической жизни детей тайги, кочующих в районе Нижней Тунгуски, куда этот сторонний наблюдатель был заброшен волею железной исторической необходимости, — начинают чаще появляться в сибирских газетах («Сибирская Жизнь», «Сибирь» и др.), привлекая внимание читателей новизной изображаемого быта, своеобразного, такого незнакомого, еще не встречающегося в русской художественной литературе.
Тринадцать лучших из этих рассказов Исаака Г. и составили недавно вышедший в Москве небольшой томик «Тунгусскихъ разсказовъ» Ис. Гольдберга.
Эта небольшая книжка должна, думается мне, привлечь к себе внимание широких читательских кругов, привлечь прежде всего колоритной новизной содержащегося ней художественного материала, свежего и яркого и тревожно волнующего.
В высшей степени своеобразный быть наивных детей суровой тайги, жизнь прирожденных таежных охотников, простых, наивных и добрых обреченных волей создавшихся условий на вымирание, живущих под трагическим знаком вечно пугающей, вечно властной Большой смерти, бросающей на сотни беззащитных лиц последний огонь больного румянца, опустошающей сотни тунгусских чумов; простой, несложный психический мир незнакомых нам, обитателям больших городов, тунгусов, их радости и горести, их маленькие думы, простые наивно-чистые чувства и переживания, часто кошмарно-трагические в простоте своей; взаимоотношения между дикими сынами тундры и тайги и представителями неведомой им культуры, такой непонятной для них, такой новой, невиданной, пришедшей в сердце властной тайги в лице купцов-скупщиков тунгусского промысла, обладателей «огненной воды», той воды, которая зовется водкой, с которой всегда, «в человека входит кто-то веселый — в голову мыслями смешными, в ночи пляской вползает».
Вот темы и сюжеты, затрагиваемые молодым автором, вот содержание «Тунгусскихъ разсказовъ» Ис. Гольдберга.
«Большая смерть», «Правда», «Николай-креститель», «Месть», «Чупалин сон» — наиболее интересные и характерные рассказы всей книжки. Написаны эти рассказы хорошо — литературно и образно. Свежи, а местами ярки и сочны.
Очень хорош, компактен, колоритен и художественно выдержан маленький рассказ «Тыркулъ».
Старик Тыркул — охотник милостью Божьей. У него зоркий глаз, обостренный слух, ему ведом звериный хитрый нрав, он чует зверя почти так же, как и его собака Ниру, он любит и жалеет зверя, без нужды не убивает его.
«От речки до речки, от вершины до вершины, вместе с холодной зимой проходит он — зоркий и чуткий, — и знает, где кроется остромордая лиса, — пусть не заметает она свой след, видит, куда прошел маленький хитрец, горнак, который спорить белизною своею с самим снегом, слышит — где прыгает беззаботная белка... Он читает по белому снегу непонятные, чуть видимые знаки, и щурит свои узенькие глаза и хитро смеется: о, он знает, он знает — где они все»...
Случайная встреча с «амакой-стариком» (медведем), злым, ищущим тепла, мяса...
Тыркул забеспокоился. Но не страх вошел в охотника. Чего бояться! Разве не встречался раньше Тыркул с амакой? Разве не выходил он победителем из борьбы?
Забеспокоился Тыркул только потому, что примета есть плохая: к худу ведет встреча с бродягой медведем...
Ведь Тыркул, как и всякий тунгус — во власти суеверий и предрассудков. Они царят и властвуют в его душе...
Короткая борьба с амакой. И вот: «сидит Тыркул на корточках возле самой головы стариковой (медведя), смотрит в полузакрытые глаза и говорит:
— Дедушка! Это не я тебя убил. Другой — русский злой человек убил тебя, дедушка... Тыркул тебя не убивал... Не сердись на Тыркула»...
Снял охотник шкуру с амаки, спрятал ее — обратно пойдет, заберет — и пошел дальше по тихой тайге со своей Ниру. Тишина тайги изредка прорезывается звонким лаем Ниру и коротким метким выстрелом зоркого Тыркула...
Этот небольшой (только пять страничек) рассказ — наиболее художественен и выразителен, наиболее выдержан и закончен из всех рассказов книжки.
Интересен как по выполнению, так и по психологическому содержанию рассказ «Олень». В нем Ис. Гольдберг пытается заглянуть в душу ребенка-тунгуса, изобразить мир чуткой детской души. Попытка увенчалась успехом. «Олень» — трогателен, ясен и свеж.
Остальные рассказы книжки менее интересны, некоторые же (напр., «В бездельное лето», «Путь их любви» и др.) надоедливо растянуты и вычурны...
Эта первая дебютная книжка рассказов начинающего автора дает возможность судить о его литературном творчестве и таланте.
Ис. Гольдберг, вне сомнения, наблюдателен. У него пытливый ум, острый и зоркий взгляд, умеющий улавливать в хаосе жизни наиболее интересные, показательные и характерные штрихи и явления.
Он талантлив и непосредственен, с темпераментом и страстностью настоящего хорошего беллетриста, не лишенного дара мыслить художественными образами, порою обвеянными мягким и нежным лиризмом.
Своих, таких простых, незаметных и незатейливых, героев автор любит живой, непосредственной любовью, любит искренно и просто, заставляя, совершенно не делая усилий в этом направлении, и читателей полюбить их, почувствовать их несложные души, их маленькие радости и большие трагические печали и невзгоды. А эта способность представляет ценность значительную, без нее ведь нет истинного искусства.
Но Ис. Гольдберг — начинающий беллетрист, еще новичок в литературе. Как у всякого начинающего писателя, у него есть недостатки, много недостатков.
Он не научился еще владеть формой, часто совершенно не владеет ей. Отсюда значительная неровность рассказов его; наряду с законченным и цельным как со стороны формы, так и со стороны содержания «Тыркулом», находим такой невыдержанный и бесформенный рассказ, как «В бездельное лето». Его форма я стиль носят яркие следы влияния наших модернистов. Подражает он им не только в хорошем, но и в том, что в модернизме было и есть глубоко отрицательного: тяга к внешним курьезным аффектам, вычурности и манерничанью, тяга к самолюбованию и самовлюбленности.
Все это, все эти дешевые погремушки есть в рассказах Ис. Гольдберга и, к сожалению, в большой степени. Часто молодой автор совершенно забывает, что он только-только выходит на широкую литературную дорогу, забывает и мнит себя уже настоящими мастером художественного слова. В результате этой нескромной мнительности — конфузные строки и страницы, надуманные пустяки вместо художественных рассказов.
Но от этих недостатков автор, вероятно, скоро избавится. Его непосредственная талантливость подскажет ему, что самовлюбленность и вычурность — верная дорога к художественному небытию.
Труднее избавится ему от других недостатков, о которых ясно говорит томик «Тунгусскихъ разсказовъ».
У автора слабо развита творческая художественная фантазия, способность к истинно-художественному вымыслу. Только слабым развитием этого «дара богов» можно объяснить деланность и искусственность, присущую некоторым его рассказам. Для примера укажу хотя бы на первый рассказ сборника: «Большая смерть». Хороший и яркий рассказ этот много теряет в своей выразительности от эффектного, насильственно придуманного и притянутого конца.
Второй недостаток. В талантливом авторе слабо развито живое чувство природы. Он умеет живописать природу, иногда дает яркие картины тайги. Но все это в каких-то общих тонах. Мало частностей, нет чудесного аромата еле уловимых деталей. Холодком веет от его описаний. Часто не чувствуешь совершенно смолистых запахов тайги, не слышишь ее шумов, шепотов и шорохов, таких тихих и музыкальных, нежных.
«Вечная», «извечная», «суровая», «темная», «черная» — вот арсенал надоедливо повторяющихся общих, стертых и шаблонных эпитетов, которыми автор награждает тайгу...
И все-таки Ис. Гольдберг талантлив. Из него может выработаться настоящий хороший писатель. Но для достижения этого нужно ему много и усиленно работать над своим талантом, нужно изжить, скорее отбросить все наносное и только мешающее, все идущее «от лукавого». Молодому автору предстоит упорная работа над формой и стилем, серьезная робота над углублением и усовершенствованием творческой фантазии и непосредственного чувства природы.
Пожелаем ему успеха и творческих достижений
Скальд.
/Сибирская Жизнь. Томскъ. № 24. 4 февраля 1914. С. 2./
Книгу Ис. Гольдберга, написанную любовно и тепло, читатели прочтутъ съ большимъ интересомъ. Здѣсь не только этнографія, здѣсь живая, яркая картина, знанье быта, умѣнье художника заглянуть въ чужую душу, душу первобытнаго безхитростнаго, простого человѣка, похожаго на ребенка. Тунгуска Танчеукъ красавица, охотница, Овидирь и его сынъ становятся ему близкими и понятными. Красиво описана смерть Танчеукъ, юной дѣвушки, полной силъ. Мѣстами удается молодому автору дать представленіе о своеобразной красотѣ дикой первобытной природы. Человѣчностью вѣетъ отъ каждаго разсказа и грустной любовью къ этимъ милымъ дѣтямъ, которые гибнутъ въ степи, точно забитые культурой. Голодъ, чума, водка преслѣдуютъ этихъ беззащитныхъ людей, а они живутъ въ мірѣ своихъ сказокъ, какъ выходцы изъ другого міра, не отдавая себѣ отчета въ трагедіи своей гибели. Книга Ис. Гольдберга не только сборникъ художественныхъ разсказовъ, она свидѣтельство очевидца, и это свидѣтельство очень цѣнно.
В. Л. Р.
[С. 115-116.]
Ис. Гольдбергъ. «Тунгусскіе разсказы». Кн-ство Писателей въ Москвѣ. 157 стр. Цѣна 80 коп.
Впечатление какой-то недоношенности производит эта книга. Взять хотя бы форму. Только что автор говорил своим обычным языком, немножко жеманным, с трудно дающейся фразой, как тут же, глядишь, рядом пытается имитировать стиль Сологуба с его характерной расстановкой слов. «Там, где звучали слова привычные, вскрики летали внезапные» (стр. 17). «Слабый замер крик» (21 и друг.), и т. п. Наряду с монотонным описанием — прямой сколок с Чехова. «Овидирь, у которого было больше тридцати оленей, два ружья — одно кремневое и одно пистонное — турка, жена старуха и сын женатый, летовал каждый год па речке Чимчиканихе» (23). Вдруг, неожиданно — ритмическая проза под Златовратского. — «Гони... Ах, гони, сынок!.. — к просьбе мужа слабый стон свой присоединяет она: — оленей лучших шаману зарежем... Шаманство сильное, шаманство большое сделаем... Ах, подымись с травы!» — Не слушал Шебкуаль. Посинели губы его и глаза, как смородины недозрелые, неналившиеся, стали» (15, 111 и друг.). Или образ — целиком из Гоголя. «Видела поляны... без меры в длину и ширину» (17). Образы из Ценского: «Материнская любовь подобна змее, что кроется в камне хребтов: руби ее на части, но она живет. И творит она хитрость. Острую хитрость, слитую с ложью» (108). Только что преподносилась имитация «под Чехова», как рядом преподносится подделка под былинный эпос. «И больше всего ловили Лонтогири рыбу. Серебряной чешуей был усеян берег стойбища их, — и было ее вдоволь, кишела ею благодатная Ика. И, кроме рыбы, на Икондае было вдоволь мху и травы, — мху и травы оленям рода Лонтогирь» (102 и друг.). Преобладает, тем не менее, обычный стиль г. Ис. Гольдберга — манерный, нарочито-деланный, негибкий, с трудно дающейся, как сказано выше, фразой. Чтобы покончить с формой, заметим, что рассказ у г. Ис. Гольдберга слаб; эпитет анемичен и бессилен; описания природы чаще всего декоративны и внешни (48, 58, 148); сравнения и образы (в большинстве) шаблонны и невыразительны («змеи кос обвивали голову»; «звонкий смех ее звучал, как ручей»; «с губами, рдевшими, как спелый шиповник»); все персонажи, не смотря на ввернутые кое-где тунгусские словечки, говорят специфическим языком г. Гольдберга (111 и друг.); нередко автор бродит вокруг и около предмета, пытаясь дать о нем исчерпывающей представление, но ничего, кроме нагромождения новых и новых фраз, не получается. Например: «материнская любовь подобна змее», (108), «материнская любовь жестока и жадна, как рысь» (110), «материнская любовь терпелива, как муравей» (115), и т. д. Все это напоминает толстовскую басню о слепом, которому пытались объяснить, какого цвета молоко, но так ничего из этого и не вышло.
Впечатление все той же недоношенности производит и содержание книги. Начать хотя бы с самого уместного, основанного на заглавие, вопроса: что это — художество, или же этнография, или, наконец, и то и другое вместе? По совести, ответить на этот вопрос невозможно. Если это этнография, то в пей слишком много от искусственности и от автора: его языка, его манеры, его даже душа порой, все субъективно. Если это поэзия, то для поэзии все это слишком длинно и скучно, и — без той необходимой «изюминки», которая заражает. Если же, наконец, это художественная этнография, то зачем тут голая фантастика («Путь их любви»), зачем этнографический анекдот («В бездельное лето»)? К понятию художественной этнографии, все же более всего приближаются характер и физиономия этой книги. Но... как все это деревянно (стиль и рассказ), как по-детски наивно (описания природы, быт), сколько сюсюканья под дикаря («Таркул» и др.), и как мало подлинного, заставляющего забывать об анекдоте, подхождения к душе инородца! У г. Ис. Гольдберга большая склонность к поэтизированию дикаря, но это с таким «пересолом», что чаще всего смешит и реже всего убеждает. «Там, где есть сытная и горячая пища, там и радость» (137). И т. п. У г. Ис. Гольдберга есть еще большая склонность к драматизированию положения инородца, несоответствие его душевной простоты с разбойным, хищническим укладом окружающего быта, детской веры в справедливость, прямоты искания — с цинизмом чужеядных «друзей» инородца («Николай креститель» и друг.), примитивности духовного уклада с осложненным моментом культуры, но... Но и здесь г. Ис. Гольдберг крайне редко идет дальше фиксации наружных, внешних, — мы бы сказали, «публицистичных» — положений, крайне редко возвышается до подлинного, из глубин души ведущего начало, драматизма.
Таково общее впечатление от этой книги, именуемой «Тунгусскими разсказами». Читатель спросит: что же здесь тунгусского? Желание г. Ис. Гольдберга испробовать свои художественные силы на инородцах. Вряд ли — большее.
Иное впечатление производят частности. Отдельные штрихи в рассказах с несомненностью говорят за то, что к душе человека (вообще и дикаря в данном случае) автор подходить внимательно («Злое дело»). Отдельные моменты той же души автор отображает удачно. Отдельные извивы человеческой психики ему доступны. Изображая эти именно моменты, он и может возвышаться иногда до драматизма («Месть»). В одном из наиболее искренних рассказов («Большая смерть») при всех его недочетах, чувствуется и лиризм, и темперамент, и страстная тоска по чем-то утраченном и гибнущем, но ясном и цельном (образ дикарки Танчеук). В романтическом «Путь их любви» — прорыв в иной, не знающий сомнений быт, прямая тяга к неомраченной цельности. И чувствуешь поэтому, что в «Тунгусскихъ разсказахъ» г. Ис. Гольдберг не весь, что рассказы эти в общем для автора не типичны и — что, развивая именно вот эти, только что отмеченные выше отдельные черты, он быть может и выйдет на настоящий путь своего дарования.
Жаль только, что современному читателю нужно непременно что-нибудь такое «экзотическое» — для того, чтобы он обратил на книгу безымянного писателя свое внимание, — какую-нибудь этакую андреевскую «негритянку», что ли, или нечто подобное. Учел, по-видимому, это настроение книжного рынка и г. Ис. Гольдберг, и — поспешил выбросить читателю свою «негритянку» — «Тунгусскіе разсказы».
Н. Чужак.
[С. 61-63.]
Милостивый государь,
господин Редактор!
В № 114 «Сибири» от 4 июня с. г. появилась заметка о моей книжке «Изъ ленскихъ впечатлѣнiй». В этой заметке кому-то захотелось «отвести душу» своего озлобления против меня, но крайне неудачно.
Должен оговорится, что, живя за пределами гор. Иркутска и будучи все время сильно занят, и далеко не этим, я не мог систематически и аккуратно следить за печатанием и выходом в свет своего сборника. По телефону просил поместить в виде аншлага на оборотной стороне обложки о готовящемся издании новой моей книги «Тунгузскіе разсказы», что типография составила и напечатала по-своему, т. е в таком виде: «приготовляется къ печати сборникъ того же автора «Тунгузскіе разсказы». Очевидно типография не предвидела, что этого только и ждали застрельщики из «Сибири», чтобы поиздеваться и поглумится над автором книги. Я тоже ни в коем случае не могу ожидать преподнесения такого подарка за чужие ошибки, но идущие к сущности книги. Мне только пришлось развести руками при виде такого объявления и констатировать печальный факт случившегося без всякой возможности исправить.
Это дало повод какому-то анонимному критикану из «Сибири», скрывающемуся под инициалом N, признать мои бытовые картины и росчерки «безграмотными и нудными».
Совершенно умалчивая по существу бытовых картин, а придравшись только к предисловию, он весь центр тяжести перенес на помещенное в конце на обложке вышеуказанное злополучное объявление, которое очевидно кого-то задело за живое. Рецензент, приняв поучительный тон, советует переменить на другое название заглавие будущей книги «Тунгусскіе разсказы»
Зная из газет о существовании «Тунгузскіхъ разсказовъ» Исаака Гольдберга я ни в коем случае не мог допустить, или предвидеть того обстоятельства, что монополия или патент на это название «Тунгузскіе разсказы», — принадлежат исключительно только ему и право собственности на это название закреплено только за ним, с наложением «табу или veto для всех и каждого из остальных. Это положение, именно, и выяснилось сейчас заметкой рецензента «Сибири», где меня упрекнули в недобросовестности или в «неприличии» тоже писать и излагать быт тунгусов, хотя бы совершенно иначе и по-своему под названием «Тунгусскіе разсказы», при наличии своих особых взглядов и наблюдений, с проведением совершенно другой точки зрения.
Но так как и мои «Тунгусскіе разсказы» уже печатались в периодических изданиях Сибири, и протест о праве собственности на это заглавие кем это следовало своевременно не был записан, а сборник «Изъ ленскихъ впечатлѣнiй» с упомянутым объявлением уже давно отпечатан и разошелся в значительном количестве экземпляров, — то к сожалению, в смысле изменения, ничего предпринять не могу.
Меня отчасти спасает и то положение, что рецензент «раскритиковал», что называется во всю, мою книжку, кроме предисловия и объявления, совершенно ее не читая, иначе мне были бы поставлены в вину корректурные ошибки и опечатки, имеющиеся в тексте книжки.
За отказом «Сибири» в напечатании, убедительно прошу настоящее поместить на столбцах вашей газеты.
Примите уверение в совершенном почтении П. Н. Колядо.
/Иркутская Жизнь. Иркутскъ. № 150. 15 іюня 1916. С. 3./
КРАТКИЙ ОЧЕРК ТОРГОВЛИ И ПРОМЫСЛОВ ПО р. НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ
И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БЫТА НАСЕЛЕНИЯ
До последнего времени р. Нижняя Тунгуска со всеми своими пушными, рыбными и иными богатствами была известна торговому миру лишь в своей населенной оседлым людом части, — до с. Ербогачена, стоящего на 500 в. ниже д. Подволочной, дальше которого он редко проникал. Каждую осень, ко дню св. Николы (6-го декабря), в Ербогачен стекались не только с Тунгуски, но и с Лены и даже из Иркутска, скупщики: туда же из самых отдаленных уголков тайги, с разных рек и речек, отчасти с р. Чоны, выходили тунгусы и якуты и выносили весь свой осенний промысел, главным образом, белку, затем лисиц, горностаев, хорьков и сохатиные (лосиные) шкуры. Здесь производился обмен почти всегда на товар (к особенности местными торговцами), забиралась у промышленников их добыча за раньше взятую покруту; выдавалась им новая под будущий промысел. В остальное же время года тунгусы (главные обитатели средней и низшей части этой Тунгуски) вели обмен по мелочам с постоянно живущими тут купцами.
Но с 1909 г. в низовья Тунгуски к тамошним тунгусам пробрался один предприимчивый купец с Ангары, который совместно с сыновьями повел дело в более крупном масштабе, основав там, в самом центре кочевий тунгусов, две постоянных лавки, одну на устье р. Илимпеи, впадающей в Тунгуску верст 800 ниже Ербогачена, другую на устье р. Таймур, в 400 вер. от устья р. Тунгуски.
Весной 1909 года они из д. Подволочной проплыли на легком шитике, почти порожнем, чтобы только поразведать край и годность реки для сплава, т. к. известно было им, что в низовьях реки есть опасные для плавания пороги. Опыт вышел удачным, и они благополучно выплыли на р. Енисей. Следующей же весной они явились в Подволочную со значительным грузом товаров, построили здесь паузок и, нагрузив его, тронулись в путь. Первый год торговли был настолько удачен, что на следующую весну сплав был гораздо больше и начал заметно расти с каждым годом, так что они стали плавить по два больших паузка.
Ими плавится в низовья Тунгуски, главным образом, мука, ржаная и пшеничная, разных сортов сукна и ситцы, преимущественно ярких цветов, оружие, порох, свинец, много бесценных, но красивых безделушек, и в громадном количестве сплавляется туда спирт и разные красные вина, от кагора до коньяка включительно. С помощью спирта и вина и обделываются ими все торговые, дела с тунгусами.
Надо сказать, что снабжение Нижней Тунгуски вином, главным образом, спиртом, на всем ее протяжении, не встречает со стороны каких-либо препятствий, и это дело здесь так широко поставлено, что можно подумать, что все благополучие этого края зависит от поставляемого туда вина. А количество этого драгоценного напитка для края, заключающего в себе одну волость и две инородческих управы — невероятно. Одна Чечуйская казенная винная лавка, торгуете на 60 тысяч руб. в год, две трети каковой суммы дает Н.-Тунгуска, да, кроме того, вино из разных предосторожностей провозится туда из Киренска и даже из Красноярска (провоз всегда поплатится). В д Подволочной каждый год повторяется одна и та же история. Как только вскроется река, пока нагружаются паузки, ночью подводится легкий шитик, ночью же спешно нагружается запретным товаром: спиртом, оружием, порохом; и спешно же ночью отправляется вперед, в пределы недосягаемости (как творятся дела ниже Ербогачена, администрации совершенно неизвестно, и никто из ее представителей никогда там не бывал). Приходи тогда полиция на паузки, ройся в товаре ничего не найдешь предосудительного. Но, помимо этого, купцы пускаются и на другие уловки. Так, в третьем году по зимней дороге из Красноярска было доставлено в д. ІІодволочную несколько больших ящиков с жестяными банками, наполненными «керосином», как говорили купцы. Чтобы уверить в этом присутствующих, они действительно накачивали из этих банок керосину и предлагали «выпить». Но по том оказалось, что в этих банках от горлышка были впаяны трубки, наполненные керосином, остальное же пространство в банках заполнено спиртом. Керосину потом удалось все-таки просочиться в отделение для спирта, и вся драгоценная жидкость была перепорчена, но и это оказалось пол бедой: испорченную драгоценную влагу удалось рассовать полупьяным тунгусам. Об этой проделке знала вся округа. В этом же году вся дощатая настилка пола в паузках была заполнена бутылками с красным вином.
Так провозятся контрабандные средства культивирования тунгуса. Но и этого количества «культуры» часто не хватает на местах, и тогда сметливое купечество прибегает к разным изобретениям. Обыкновенно практикуется следующий прием. Тунгусы любят сладкую наливку, да еще в красивой бутылке с красивым ярлыком и красной шапочкой на горлышке. А тут хорошие наливки да коньяки давно выпиты самими купцами, остались одни порожние бутылки. Но сметливый купец всегда найдется. Кипятится большой котел воды, бросаются туда линючие ситцы да сукна — получается цветной настой. Потом вынут оттуда сукна, положат туда немного сахару, немного вольют спирта, трав каких-нибудь пахучих прибавят или капель. Разольют потом эту наливку в красивые из-под дорогого коньяка бутылки, запечатывают их красивыми шапочками, вот и наливка. Пьет подгулявший тунгус, только морщится, да хвалить надо. Да и как не хвалить — такая красивая посудина, и цена то немалая — 5 руб. бутылка. За одну бутылку подай чуть не две сохатины (сохатиные шкуры там идут иногда по 3 руб. штука), а каждая такая сохатина пойдет потом у купца по 12-16 руб. — вот и барыши! А с простой водкой дело обходится еще проще: бутылка воды, шкалик спирту — вот и вино. Бутылка вина — сохатиная шкура. Пьет, пьет тунгус, и пьян не напьется, глядишь, — и промысел из рук выскользнул. А еще лучше счет подводится. Заберется тунгус у купца рублей на 30, а пушнины принесет рублей на 200. Большинство тунгусов считать не умеют, в деньгах толку тоже никакого. Начнет купец на счетах брякать. Тунгус глядит, да только глазами моргает. «Так, — говорит купец, подсчитавши, — ты еще мне три рубля должен. — Так, отвечает тунгус, боясь показать себя невежей. «Ну, бери опять покруту!» предлагает купец.
На Илимпее тунгусы полудикие, очень отличающиеся от Ербогаченских, которые, имея постоянные сношения с русскими, гораздо культурнее, понимают по-русски и знают счет. Тех так не проведешь.
На Илимпее за последние годы много пришло тунгусов со Средней Тунгуски из-за упадка там промыслов, где сохатые почти все уже выбиты, мало осталось также и белки. Кроме того, тамошние купцы слишком уже грабят тунгусов. На Илимпейской торговле их покручается чумов 50, а на Таймуре, как передают, чумов 300. Как дикари, тунгусы любят все цветное, яркое, ситцы и сукна ярких цветов, металлические пуговицы, разные украшения. В большом количестве доставляется сюда для них бисер, которым тунгусы любят обшивать одежду, пояса, обувь; медные пуговицы всех ведомств, которые тунгусы нашивают на свою одежду рядами. Куль муки в 4 пуда там стоит 20 руб., кирпич чаю 2 р., платки шерстяные, стоящие здесь на Лене 1р. — 1 р. 20 к. идут по 5 р., вино красное, кагор в 80 к. — 1 р. бутылка — 4-5 руб., бутылка простой разведенной водки 3-5 руб., одна металлическая пуговица 30-40 к., медный крест — 1½ руб.
Предметы наиболее ходкие продаются по сравнительно невысокой цене.
О торговле винами по р. Н.-Тунгуске приходится сказать еще несколько слов. Тунгуска своей казенной винной лавки не имеет, а к тунгусам доставлять вино запрещено вообще, но вино доставляется туда всеми способами круглый год, летом по воде: на паузках, шитиках, плотах, лодках; зимой гужом в ящиках и бочоночках. Кроме нарочито нанимаемых для того возчиков, ни один торговец, даже самый мелкий, не едет без того, чтобы не везти несколько ведер, даже ящиков вина, а таких торговцев за зиму переедет бесчисленное множество. Даже едущие за кладью или по какому-либо делу, иногда на промысел, Ленские крестьяне не забывают захватить несколько четвертей вина, по опыту зная, что назад вести не придется. Но особенно много вина доставляется туда крупными торговцами. Так, во время Ленской ярмарки, когда Тунгусские купцы набирают товары на все лето и сплавляют по Н.-Тунгуске на плотах, было сплавлено в 1913 году около 350 вед. одного каз. вина, не считая «красных» (наливок, коньяков и пр.). а в марте месяце того же года по первой воде на паузках и плотах было уплавлено еще больше.
В оседлой части Н.-Тунгуски, кроме купцов, немалую роль в спаивании, как инородцев, так и местного крестьянства играют и местные деревенские кулаки. Стоимость вина на протяжении всей Тунгуски весьма различна. Так, уже в д. Подволочной бутылка разведенного вина стоит 70 к., в д. Сосниной, сто верст ниже —1 р., в с. Преображенском, 300 вер. от Подволочной, от 1-2 р., а ниже Ербогачена стоимость ее возрастает до бесконечных пределов. Там иногда просто опаивают тунгуса и начисто его обирают.
Такое количество поглощаемого населением Тунгуски алкоголя не может не отразиться на психике как тунгуса, так и крестьянина. Даже Ленские крестьяне, сами пьющие не мало, часто удивляются тому сплошному разгулу, который наблюдается в д. Подволочной, в особенности начиная с Михайлова дня 8-го ноября, местного храмового праздника, как раз совпадающего с выходом крестьян-промышленников из лесу по окончании белочного промысла. Подобный разгул часто начинается по самому ничтожному поводу. А таких поводов в д. Подволочной сколько угодно. Весенний выход купцов с низу Н.-Тунгуски на Ленскую ярмарку, перевозка через волок в оба конца клади, сплав несколько раз в лето и т. п. Надо сказать, что на долю деревни Подволочной немалые заработки выпадают, благодаря ее положению у волока. В одну только весеннюю перевозку некоторые крестьяне зарабатывают до ста и более рублей, не говоря уже о постройке плотов и сплаве почти в течении всего лета. Но особенно даст о себе знать появление в д. Подволочной более или менее крупных торговцев, которое часто сопровождается сплошным разгулом в течении нескольких недель, иногда дикими расправами.
Надо заметить, что подобные явления (расправы, спаивание и пр.) не встречают осуждения среди населения д. Подволочной, в особенности среди старого поколения, на своем веку мало видавших людей, кроме купцов да скупщиков — молодое поколение на этот предмет иных взглядов. Деятельность купечества находит немало подражателей среди местного крестьянства. Некоторые из д. Подволочной начинают поторговывать, и, пожалуй, крестьянин-кулак не менее жесток к своему меньшему собрату, чем любой торговец. Трое крестьян из д. Подволочной ездили на Илимпею не только попромышлять, но и поторговать, уплавив туда 20 вед. одного лишь спирту; некоторые крестьяне ездят с Н.-Тунгуски на Чону «покручать» тунгусов и якутов, целая сеть мелкой торговли разбросана по р. Лене и почти по всем речкам, впадающим в Н.-Тунгуску, где только кочуют тунгусы, и можно хоть чем-нибудь поживиться, и ни один торговый шаг не совершается без бутылки-другой, а то и нескольких четвертей вина.
Такое постоянство и неуклонность потребления алкоголя начинает отражаться не только на взрослом населении, среди которого с каждым годом растут уголовные преступления, бывшие в недавние времена на Н.-Тунгуске за редкость, но даже и среди подрастающего поколения. Учитель д. Оськиной, стоящей от д. Подволочной на 400 вер. ниже и состоящей из 26 дворов, рассказывает следующее. В Оськином пьют все положительно, не исключая подростков, девушек и девочек. В школьном возрасте уже наблюдается наследственное влияние алкоголя, которое выражается в близорукости, тупости. Взрослые, мужчины и женщины, отличаются необыкновенной простотой между собой отношений, большинство живет гражданским браком.
В д. Подволочной женщины пьют почти наравне с мужчинами, и каждый сплошной разгул среди мужиков захватывает и женщин. Мне самому, живя в течении нескольких лет в д. ІІодволочной, неоднократно приходилось выдерживать осаду со стороны пьяных баб и мужиков, когда они просят, иногда просто молят, дать им хоть 15 коп. на похмелье, когда у них уже несколько суток подряд трещит от вина голова, и нет ни гроша в кармане, и наблюдать, как «на помочах» (когда крестьяне для уборки хлебов и др. работ собирают помочь и после работы ставят угощение, где главную роль играет вино) четырнадцатилетние девушки напивались до пьяна, и их потом приходилось взрослым в таком виде отправлять домой.
Молодое поколение этой деревни, совершенно лишенное обучения (Подволочинские крестьяне не соберутся уже в течении нескольких лет хоть какого-нибудь учителя нанять), никем и ничем не руководимое, мало обещает хорошего. Сквернословие, драки, доходящие до пырянья ножами друг друга и попытки подстрелить, похищение одним у другого из ловушки попавшей добычи, что так строго осуждалось их отцами, и полное попустительство со стороны их отцов, не знающих, для чего и чему их учить, — вот та школа, которую проходит молодое поколение.
Спрашивается, откуда же берет Н.-Тунгусское население средства не только для поддержания своего благосостояния, которое вообще гораздо лучше благосостояния Ленского крестьянина, пробивающегося чуть не круглый год чайком, в то время, как на столе почти каждого крестьянина Н.-Тунгуски, мало-мальски зажиточного, круглый год мясо и рыба, — которое платит немалый налог казне (шутка ли расходовать тысяч 50 в год на одно лишь казенное вино!) и самое главное — местное население своим трудом и своим горбом вспоило и вскормило целый ряд торговцев, большинство которых пришло сюда в арестантских халатах, начали дело с медных грошей и которые нажили и вывезли отсюда не одну сотню тысяч рублей, ничего не дав положительного местному населению?
Кусочки полей у деревень, едва прокармливающие население лишь некоторых из них, да клочки покосов, тянущиеся вдали берегов Н.-Тунгуски — в то время, как за те сотни тысяч, которые были вывезены с Н.-Тунгуски, можно было расчистить тысячи десятин и не только прокормить местное население, но и сделать Тунгуску поставщиком для Лены не только мяса и рыбы, каковой она являлась до последнего времени, но и житницей ее. Одни лишь окрестности д. Подволочной дали бы не одну тысячу десятин. Не так давно, когда на реку со всех сторон надвигалась тайга, тая в своих недрах бесчисленное множество озер и топких болот, местные крестьяне с трудом собирали лишь ячмень да овес и потом овес обменивали на другие хлеба, вовсе и не мечтая о посеве пшеницы, т. к. и те хлеба часто прихватывало морозом
Но отодвинул подальше к хребту земледелец тайгу, осушил болота, отогнал туманы — и на полях его заколосилась золотистая пшеница, с каждым годом вытесняющая другие хлеба, солнечного тепла стало хватать для созревания всех хлебов, и на столе местного крестьянина чаще и чаще стал появляться душистый пшеничный хлеб, заменяя собою черствый «ярушник». 7)
Посмотрим поближе, как хозяйничает местное и пришлое население в этом краю.
Издавна славилась Тунгуска обилием своей рыбы, пушнины, а лет 35 тому назад на ней впервые появился сохатый, невиданный дотоле здесь зверь и неизвестно откуда появившийся. 8) Прижился он здесь, расплодился, и, как ни старались местный крестьянин и тунгус его уничтожить, истребляя его круглый год всеми возможными способами, почти исключительно ради одной лишь шкуры (законов об охоте и промысле Тунгуска никогда не знала и не исполняла!), этот огромный и ценный зверь еще не везде уничтожен. Огромный был этот зверь, когда он появился на Тунгуске впервые. Одним своим видом пугал он еще незнакомого с ним крестьянина-промышленника. «Когда на сохатого шли, Богу молились», вспоминают старики. Но измельчал он теперь, так как усердные охотники не дают ему даже выроста: старее 5-7 лет и больше 15-18 пудов весом здесь уже не встречаются. Истребление его в особенности усилилось за последние годы, когда в низовья реки проникли торговцы и открыли тем всем торговым дорогу с р. Лены в Енисей (этой весной один Киренский торговец проехал по Тунгуске единственно затем, чтобы сплавить в Енисей закупленные им зимой сохатины и набрать новых: он сплавил в Енисей до трех тысяч шкур). Особенно усилилась добыча его в оседлой части Н.-Тунгуски — по насту в конце марта и в начале апреля, т. е. в запрещенное для охоты на него время. Когда распустившийся уже от весеннего тепла снег схватит утренником, и на нем образуется кора, которая в состоянии «подымать» собак — горе тогда сохатому! Мчится он по лесу, ломая ледяную кору и обдирая об нее до костей ноги, преследуемый собаками, до тех пор, пока в изнеможении; окруженный собаками, не падет под пулей догнавшего его охотника. В остальное время года он добывается настораживаемыми на него ямами; подкарауливанием в болотах и озерах, когда он забирается туда, спасаясь от мошки и комаров, разыскиванием только что отелившихся маток, при чем вместе со взрослым животным гибнут и только что появившиеся на свет телята. По насту этой весной (1913 г.) добыто в д. Подволочной 48 сохатых, в д. Оскиной 180, а в деревнях, лежащих ниже, и того больше. В предыдущие зимы и осени на протяжение всей почти Тунгуски и впадающих в нее речек велось беспощадное истребление сохатых тунгусами. Каждый тунгус там добывал в одну только зиму не менее 60 сохатых, а некоторые до сотни и больше (рассказывают, что один тунгус, напав на место их кормежки, в один день добыл 15 штук). Надо помнить, что Тунгус бьет сохатаго единственно лишь ради его шкуры. Мясо же, за самыми редкими исключениями, бросается в лесу на съедение зверям. Оценивая каждую такую шкуру в 10 руб., получим минимальную цифру для каждого тунгуса-охотника 600 р., а добычу некоторых надо оценивать гораздо выше. Каждый тунгус добывает в год не менее тысячи белки, что стоит около 500 р. И так самый плохой промышленник-тунгус получит за одну лишь белку да сохатину 1100 руб., не считая другой добычи, и сразу станет богачом! Но эти все богатства обратятся в мираж, если мы вспомним, что каждая сохатиная шкура обратится в шкалик спирта, каждый десяток белки в бутылку разведенного вина, и что бывает и того хуже. А сколько же при подобном промысле пропадает сохатиного мяса! Оценивая каждую сохатиную тушу лишь в 15 руб., мы получим минимальную для тунгуса цифру 15 х 60 = 900 р.: 300 чумов дадут колоссальную сумму 900 х 300 = 270 тысяч рублей, которая в действительности в несколько раз больше. И это в то время, когда в некоторых селениях Лены поголовно едят конину, за недостатком иной пищи, чему людям, непосвященным в жизнь края, трудно даже поверить.
Огромное количество бросаемого в лесу сохатиного мяса привлекло на Н.-Тунгуску с Ангары стаи волков (раньше их по Тунгуске не бывало), которые не только дожирают бросаемое мясо, но стаями преследуют самих сохатых, загрызая их, а еще больше распугивая. Волки уже надвигаются на населенную часть Тунгуски, стаи их появились у самых селений, зимой следами их запестрела вся Тунгуска, а за последнее время волков видали даже на волоку у самой Лены, Остается только волкам приняться после сохатых за крестьянский скот, который, кстати сказать, издавна привык бродить по тайге без всякого присмотра (пастухов в этом краю кресьяне не держат).
Результаты подобного хозяйничанья налицо. В этом году отовсюду идут жалобы охотников на внезапное исчезновение сохатого почти по всей Н.-Тунгуске. И неудивительно. Одних истребили охотники, других волки, а остальные ушли в самые глухие и отдаленные места.
Не лучше дело обстоит и с белкой. Не много порадовала осень 1912 г. здешнего охотника, еще менее порадовала его следующая осень. Почти на всем протяжении Тунгуски, за исключением некоторых ее мест, в эту осень не было белки, и оттуда доносятся жалобы как охотников, не знающих, чем уплатить взятую под промысел у торговых «покруту», так и купцов, боящихся давать больше промышленнику в долг, зная, что ему нечем будет расплатиться за старую покруту. Лишь кое-где по ельникам да густыми непроглядными кедровниками собралась нынче белка, и, несмотря на высокую ее цену: 40-50 к. шкурка, — немало охотников тщетно проводит осень в лесу, перебираясь в поисках ее с места на место. Вздыхают старики, вспоминая прошлые годы, когда на каждого стрелка приходилось в осень по 700-800 штук, а то и до тысячи, а в нынешние времена и сотне рады. Из года в год исчезает белка здесь, как повсеместно в Сибири. Редеет ею тайга, но старики все еще лелеют себя надеждой, что вот придет она откуда-нибудь опять, и опять будут добывать ее не по одной сотне. «Сама сороковая» говорят они (т. е. от одной белки, думают, за лето нарождается несколько поколений, чуть не сорок штук). «Где тут истребишь ее!»
Так же за последние два-три года обстоит дело и с рыбой. В Тунгуске ловится не особенно крупная рыба: сиг, тагун, елец, сорога, окунь, щука, отчасти язь, да, кроме того, караси в бесчисленных озерах: обилен бывал улов рыбы, хватало на всю округу, далеко за пределами Тунгуски. Но уже в 1911 г., во время хода рыбы, когда она осенью подымается вверх по реке, заходя во все впадающие в нее реки и речки, задерживаясь на удобных для нее местах, плесах, затонах, где добывают ее сотнями пудов, — она по всей реке оказалась в значительном количестве лишь в двух-трех местах; за последние же два года обильного улова прежних лет нигде уж не было на протяжении всей реки, и лишь караси в озерах пока еще не изменили рыболовам. За ними крестьяне выезжают иногда далеко вниз, верст на 200-300 ниже Ербогачена, там промышляют осень и по санной дороге вывозят добычу на Лену. Карась там крупный, два-три фунта каждый, ценится он на Лене, но и вывезти его с места промысла, за 700-800 вер., забота немалая.
Скудеют рыбные промысла на Тунгуске, и не знают местные рыболовы, чем объяснить это. Говорят, много пропало рыбы за последние два-три года от жестоких морозов. Когда реку скует толстым, более аршина, льдом и «схватит» даже на быстрых местах, трудно тогда приходится рыбе. Нет притока свежего воздуха, задыхается она подо льдом, в особенности в местах, где вода соленая, а таких мест по Тунгуске немало. В такое тяжелое для нее время собирается она огромными стадами в тех немногих, быстрых или с теплыми ключами местах, чтобы глотнуть свежего воздуха; когда же жестокие морозы скуют и эти немногие места, задыхается она здесь совсем. Целыми пластами находят ее здесь потом мертвой и вытаскивают на кормежку собакам. Иногда захватывают ее еще живой, еле шевелящейся и тогда вылавливают особыми саками, «куюрами», и употребляют в пищу. Последние годы такой рыбы находили в реке особенно много. Но не одни морозы виноваты в исчезновении рыбы. Местный рыболов и охотник стал плохим хозяином в своем обширном, дарованном ему природой, хозяйстве. Кажется, если бы только хватило ему сил, он в один год выбил бы в лесах всех сохатых и белку, в реке выловил рыбу и сдал бы всю свою добычу заезжим скупщикам, а что бы делал потом сам, его не особенно беспокоит. «Тогда увидим», отвечает он, когда начнешь говорить ему об этом. Как сохатый в лесу, так рыба в реке добывается им всеми возможными способами и во всякое время года, не исключая и метания икры; рыба же добывается им часто лишь для того, чтобы только «проквасить» (местный рыболов не умеет даже посолить ее, вернее — жалеет соли, отчего рыба «квасится», т. е. тухнет, издавая тяжелый запах, — несмотря на то, что сама Тунгуска богата солью) и за бесценок сдать ее Ленским купцам. А хорошо консервированные некоторые сорта рыбы, напр., сиг и тагун, могли бы конкурировать с другими сортами рыбы, для этого употребляемыми. В результате такого хозяйничанья со всей Тунгуски теперь идут стоны: нет рыбы, нет белки, нет сохатых. А тут еще в этом году помогли морозы, уничтожив хлеба целых селений. Как прожить и чем прокормиться?
Наступила у нас суровая северная зима, навалил глубокий снег, выровнялись и сгладились все дороги. Сковало реку льдом, превратив ее в сплошную ленту, скатерть-дорогу. Кати по ней сотни верст — ни одной деревни не минешь, все они стоят у самой реки. Лишь только кое-где, там, где река больно уж прихотливо начнет изгибаться, перебегает дорога мысами. А пройдет весной река, одна верховая тропа проляжет берегом, да по реке зашевелятся с первой водой паузки да плоты, шитик да лодки.
Немаловажной является дорога, соединяющая две больших реки, мало того — два речных бассейна. Таковой является дорога, идущая от д. ІІодволочной и соединяющая р. Н.-Тунгуску с Леной. Идет она хребтом, постепенно спускающимся по Лене (Н.-Тунгуска в этом месте на 42 саж. выше Лены. 9) Почва под дорогой во многих местах глинистая, просека лесная сделана узкая, мало доступная солнцу, отчего дорога все лето и осень, а весной в особенности, представляет непролазную топь. Напитанная весенней водой, разбитая колесами нагруженных товаром двуколок, да копытами вьючных лошадей, она представляет во многих местах сплошное болото, из которого то там, то сям торчат пни да коренья деревьев, и по которому не катятся, а плывут колеса, ломаясь о торчащие из воды пни да колоды, лошади бродят по брюхо, едва вытаскивая ноги, а за ними по колено в грязи бредут люди. Узкая лесная просека не позволяет даже летнему солнцу хоть сколько-нибудь осушить почву, а совершенное отсутствие канав по сторонам дороги не дает стока накопившейся весенней воде. Пройдут весной так называемые дорожники, командируемые волостью для исправления проселочных дорог, сделают несколько новых лесных просек, еще уже старых, оставив на них все пни и коренья, где на неутоптанной еще, рыхлой почве лошади вязнут хуже, чем на старой дороге, исправят кое-как два-три мостика, насадят для собственной потехи несколько изломанных и брошенных возчиками колес на вершины придорожных березок — вот и весь ремонт. А возчики грузов берут по полтине с пуда за тридцативерстное расстояние, купечество платит, а потом наверстывает эти полтинники на тунгусском потребителе. Необходим коренной ремонт этой дороги, ведущей в обширный край, обороты которого с каждым днем растут. Слава о золотом дне, открытом купцами в низовьях Тунгуски, разнеслась скоро по местам отдаленным, и на Тунгуске в этом 1913 году появились новые торговые люди, новые предприниматели, опасные конкуренты первым. В разных местах верховьев Тунгуски в эту зиму застучали топоры: строились торговое паузки, валился лес для будущих плотов. Постройка сосредоточилась отчасти в д. Карелиной, находящейся на Тунгуске против Киренска на Лене, в 20-ти вер. от него, отчасти в д. Подволочной. С первой водой нагруженные товарами паузки и плоты дотянулись вниз по течению. А через 3½ месяца после их отплытия вышедшие оттуда рабочие, плавившие паузки и плоты до устья Илимпеи, принесли оттуда вести, как расселось и повело свои дела уплывшее туда купечество.
Михаил Ткаченко
21 октября 1913 года.
[С. 67-78.]
********
********
ЗАМЕЧАНИЯ К ОЧЕРКУ М. ТКАЧЕНКО О ТОРГОВЛЕ ПО р. Н.-ТУНГУСКЕ
I. Покрута — знаменательное явление инородческой жизни в Сибири. Теперь она в некоторых местах постепенно вымирает, вытесняется более сложными и более нормальными экономическими отношениями. Но на Н.-Тунгуске она еще сохранилась почти во всей своей первобытной девственности.
Покрута состоит в добровольном устном соглашении меж крестьянином — зверопромышленником и инородцем, с одной стороны, и скупщиком промысла, торговцем — с другой, в том, что первый из договаривающихся обязан принести второму весь свой промысел в обмен на предметы первой необходимости уплаты ясака и податей (чай, хлеб, порох, дробь, частью «красный» товар и пр.). В этой сделке, длящейся годами и нередко переходящей из поколения в поколение, скупщик, торговец носит характерное имя друга, а охотник, инородец — покручника.
При поверхностном взгляде на эту сделку может показаться, что «друг» рискует больше «покручника». Промысел, мол, так неустойчив — в этом году хорош, а два года — ничего не добыто. А потребности покручника всегда одинаковы, и «друг» должен их удовлетворять, постоянно. Но это только при поверхностном взгляде. На самом деле если говорить о риске для «друга», то он очень проблематичен. Раньше всего каждый промышленник — инородец ли, крестьянин ли, — промышленник, то есть, идет в тайгу не «баловаться», а добывать.
И тот минимум, который этот промышленник добудет даже в т. н. «непромышленный» года, все же был бы ему вполне достаточен, чтобы прокормить его. Кроме того, излишка, который покручник принесет своему «другу» в нормальный год, хватит на покрытие кредита, по крайней мере, по двум «непромышленным» годам. И, наконец, от «риска» «друг» — купец застрахован еще и тем, что ведение расчетов лежит всецело на нем, — расчёты же, как обычное явление, в большинстве очень запутаны.
Поскольку покрута создает совершенно своеобразные экономические отношения, не похожие на обыкновенные, показывает, например, следующее явление. В обыкновенном торговом деле, продавец заинтересован в том, чтобы продать возможно больше. При покруте — «друг» — купец заинтересован в том, чтобы продать покручнику в общем возможно меньше. И это понятно, почему так происходит. Купец стремится дать своему подручнику самое необходимое, минимум потребностей, плюс некоторое количество водки. За это он получает все равно весь промысел. Естественно, что ему выгоднее дать меньше и получить больше...
Покрута, в том виде, в каком она существует теперь, одно время даже нормировалась правительственными указами.
В 20-тые годы XIX ст. генерал-губернаторство В. Сибири предписывало подлежащим властям иметь наблюдение за тем, чтобы инородцы самовольно не переходили от одного купца к другому. Это имело за собой то основание, что купцы, зафиксировав за собою определенных инородцев, обязывались вносить за них в казну ясак. Т. е., казна была заинтересована, чтобы инородцы находилась на учете у определенных торговцев, предпочитая иметь дело с последними, чем с самими инородцами непосредственно.
II. Высшая краевая администрация неоднократно пыталась затруднять доставку спирта на Н.-Тунгуску, но это всегда оказывалось безуспешным. И торговцы и население прибегают к различным хитростям — в результате чего вина по Н.-Тунгуске сколько угодно. Напротив, всякие «заграждения», устраивавшиеся здесь по приказу свыше и имевшие целью воспрепятствовать ввозу водки, всегда лишь ложились тяжким бременем на население, удорожая, благодаря «риску» торговцев, спирт.
III. Описываемый случай с самодельной «наливкой» следует отнести к области явлений из ряда вон выходящих. Он сам по себе может показаться анекдотичным, но, вместе с тем, он очень гармонирует с приемами торговли на Н.-Тунгуске и с правами здешних торговцев.
IV. Не следует преувеличивать высшую, в сравнении с илимпейскими, «культурность» тунгусов, кочующих в районе побережья Н.-Тунгуски от с. Подволочнаго до с. Ербогачена. Последние имеют очень слабое представление о счете и, если понимают и немного говорят по-русски, то это все таки не охраняет их от эксплуатации со стороны торговцев.
V. Указываемая автором «простота отношений» нисколько не стоит в зависимости с развитым пьянством в крае, и ее ни в коем случае нельзя относить к разряду последствий алкоголизма. По своему существу это является, напротив, проявлением заложенных в населении здоровых нравов. Материалом для своих выводов г. Ткаченко брал нравы и обычаи д. Подволошной, не являющейся вовсе типичной для крестьянского населения Н.-Тунгуски. Эта деревня, находясь на «волоке», разделяющем Лену от Н.-Тунгуски, живет исключительно извозом и представляет из себя большой постоялый двор, в котором останавливаются как едущие с Лены купцы, так и отправляющиеся на Лену тунгусские крестьяне. Нравы д. Подволошной славятся по всей Н.-Тунгуске, и к ним население относится очень критически. По Н.-Тунгуске Заволок — местное название д. Подволочной — является нарицательным именем для определения специфического пьянства, разгула и буйства.
Верные по отношению к д. Подволошной, выводы г. Ткаченко должны быть применимы с чрезвычайной осторожностью к остальному крестьянскому населению Н.-Тунгуски. Это, до некоторой степени, две культуры. На всей Н.-Тунгуске, напр., широко развито радушное гостеприимство, в то время, как в д. Подволошной и в приленских деревнях население привыкло раскрывать двери своих изб и подевать проезжающих за деньги и т. под.
Вообще, при обобщениях г. Ткаченко не следует забывать, что они относятся по преимуществу к одной д. Подволошной, и что их не всегда можно и справедливо прилагать ко всей Н.-Тунгуске.
VI. В последнее время (1908-1912 г.г.) по отношению к Н.-Тунгуске это положение уже неприменимо во всей своей категоричности. Появились новые люди, внесшие некоторое освежение в жизнь населения. Это, как их называют местные крестьяне, «государственные» — политические ссыльные. Их влияние на нравы населения, особенно молодого, для которого они в большинстве случаев являлись учителями, трудно, конечно, сейчас учесть, но несомненно одно, что это влияние было, и что оно еще скажется.
VII. О будущих перспективах земледельческого хозяйства говорить в таком смысле, в каком делает это г. Ткаченко, еще преждевременно. Нет достаточного опыта для этого, и теперешнее состояние земледелия на Н.-Тунгуске таково, что местный ячменный хлеб — «ярушник» — является главным продуктом производства туземного хозяйства.
VIII. «Сохатый» — лось стал известен крестьянскому населению только 35 лет назад, и то только в верховьях р. Н.-Тунгуски. Инородцы, жившие по низовью реки и по ее притокам, давно знали «сохатого». Знали его и низовые крестьяне издавна.
IX. По определению экспедиции томского округа путей сообщения под начальством В. Я. Шишкова, исследовавшей в 1911 году р. Н.-Тунгуску в целях использования ее, как соединительной ветви между Леной и Енисеем.
Ис. Гольдберг.
[С. 78-81.]
ЭВЕНКИЙСКИЕ РАССКАЗЫ ИС. ГОЛЬДБЕРГА
Произведения писателя Ис. Гольдберга не печатались свыше 20 лет. И теперь, когда его имя вновь заняло подобающее ему место среди тех, кто активно участвовал в развитии и укреплении литературного движения в Сибири, уместно хотя бы кратко напомнить его биографию.
Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) родился в семье рабочего-слесаря в Иркутске, здесь же закончил городское училище и решил в дальнейшем подготовиться в университет. Однако эта мечта не осуществилась. В 1903 году 19-летний юноша впервые был арестован за участие в нелегальном ученическом кружке «Братство», издававшем подпольный журнал.
Свободолюбивые стремления Ис. Гольдберга не нашли до революции верного пути.
Впоследствии Ис. Гольдберг в романе «День разгорается» (30-е годы) прямо и резко вскрыл смысл своих политических противоречий и заблуждений, указал на антинародный характер деятельности партии социалистов-революционеров.
Когда произошел разгром белогвардейшины и интервентов в Сибири, Ис. Гольдберг активно включается в жизнь нового советского общества, успешно работает в культурно-просветительных учреждениях и организациях, в частности, заведует одно время литературным подотделом Иркутского Губполитпросвета, является членом редколлегий журналов «Будущая Сибирь» и «Новая Сибирь» и принимает в них, а также в журнале «Сибирские огни», активнейшее участие как литератор и критик. Значительную роль сыграл Ис. Гольдберг в формировании и развитии писательской организации в Иркутской области.
Писать Ис. Гольдберг начал рано. Уже в 1903 году в легальных и нелегальных газетах Восточной Сибири появились его литературные зарисовки и рассказы. В 1916 г. в Томске вышел «Первый литературный сборник сибиряков», где был опубликован рассказ писателя «Исповедь». В 1914 году вышли из печати «Тунгусские рассказы». За ними последовали повести «Темное» (сборник «Северные зори», 1916 г.), «Братья Верхотуровы» («Сибирские записки», 1916 г.), сборник рассказов «Закон тайги» (Иркутск. 1923 г.).
Революция и гражданская война обогатила творчество Ис. Гольдберга новыми стремлениями и темами. Идея защиты и утверждения нового советского общественного строя, изображение народных масс, беззаветно отстаивающих свое право на свободную жизнь, с одной стороны, и распада белогвардейских полчищ, вобравших в себя «цвет» помещичье-буржуазного общества, — с другой, составляет основу многочисленных рассказав писателя, значительная часть которых объединена в неоднократно издававшемся сборнике «Путь, не отмеченный на карте».
Переход Советской страны к мирной строительной жизни, героические усилия народных масс, восстановивших разрушенное империалистической войной хозяйство, а затем приступивших к строительству социализма, также получили отражение в творчестве Ис. Гольдберга, особенно в повестях «Поэма о фарфоровой чашке» (1930 г.) и «Главный штрек» (1932 г.). Здесь, опираясь на большой материал, полученный в итоге длительного изучения Хайтинской фабрики, славившейся по всей России своими фарфоровыми и фаянсовыми изделиями, и жизни черемховских шахтеров, писатель отобразил события и характеры незабываемой эпохи, когда самоотверженный труд ударников создавал человека социалистического общества с его высокой моралью и нравственностью, с его неугасимым стремлением к подвигам во имя Родины, во имя коммунизма.
В 1933 г. была закончена, а в 1934 г. опубликована в журнале «Сибирские огни» большая повесть «Жизнь начинается сегодня». В ней Ис. Гольдберг вновь вернулся к теме деревни и показал великий колхозный переворот, первые шаги сибирского крестьянства в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства.
В период своей творческой деятельности, охватывающей почти треть века, Ис. Гольдберг создал свыше ста литературно-художественных и публицистических произведений. Ряд его книг были изданы в Москве и завоевали себе читательскую аудиторию по всей Советской стране.
Долголетняя творческая работа Ис. Гольдберга получила высокую оценку. В дни тридцатилетия его литературной деятельности (1933 г.) М. Горький писал в своем послании юбиляру: «Дорогой Исаак Григорьевич! Примите мой искренний и почтительный поклон. Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить себе, что значит и сколько требует сил тридцатилетняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра»... Еще раз повторяю свое поздравление и желаю вам, Исаак Григорьевич, душевной бодрости, успехов в работе, доброго здоровья» [* Журнал «Будущая Сибирь». Иркутск, 1934. № 2, стр. 120.].
Не сразу Ис. Гольдберг нашел верную дорогу к реалистическому творчеству. Его первый рассказ «Кол Нидрэ», появившийся в 1903 году, неопровержимо свидетельствовал о том, что начинающий автор стремился к осуждению социального зла в самодержавном строе России и одновременно не имел ни достаточного представления о его отвратительных свойствах, ни сколько-нибудь достаточного профессионального опыта.
На раннее творчество Ис. Гольдберга отрицательное влияние оказали русские декаденты. Подражая им, он написал рассказы «Исповедь» и «Там, у откоса» — пессимистические по своему звучанию.
После первой русской революции, оказавшись в ссылке, писатель столкнулся с новыми явлениями жизни, близко познакомился с сибирской таежной деревней, со своеобразием ее бытового уклада. Ис. Гольдберг неоднократно подчеркивал, что в этом смысле он получил очень многое и может быть «благодарным» царскому министру внутренних дел и иркутскому генерал-губернатору Селиванову, по чьим приказам он был удален из города.
Творческая биография Ис. Гольдберга лишний раз свидетельствует о том, как важна для писателя непосредственная связь с жизнью, как важно художнику видеть и понимать народные стремления, мечты. Будучи в ссылке, Ис. Гольдберг собрал огромный материал о жизни угнетенной и обреченной в царских условиях на вымирание народности эвенков, и в 1914 году издал сборник «Тунгусских рассказов» — бесспорно лучшее из всего того, что им написано в дореволюционных условиях; как с точки зрения политического содержания, так и с точки зрения художественной формы.
По-видимому, работа над «Тунгусскими рассказами» продолжалась в течение 1907-1913 гг. Этот срок устанавливается в зависимости от периода пребывания Ис. Гольдберга в ссылке и времени публикации рассказов. Мы не ошибемся, определив эти шесть лет как особую и очень важную полосу в развитии таланта писателя. Поражение первой русской революции, отбросившее от нее буржуазных попутчиков, вызвавшее бурный «расцвет» махрово-контрреволюционной «литературы» арцыбашевского толка, не только не сломило Ис. Гольдберга, а, напротив, вызвало в нем стремление к весьма трезвой реалистической оценке русской действительности. Именно в эпоху реакции сибирский писатель сделал в своем творчестве большой шаг вперед по пути демократического осмысления жизни.
У нас нет фактических данных, которые давали бы ответ на вопрос: был ли знаком Ис. Гольдберг с произведениями Джека Лондона, так много сказавшего о жизни малых народностей в Аляске, высоко оценившего наивность и благородство, простодушие и бескорыстие индейцев, — качества, столь резко контрастировавшие с алчностью, эгоизмом жестокостью многих золотоискателей из цивилизованного мира Америки и Англии. Но познакомившись с рассказами об эвенках, мы имеем право утверждать, что, вне зависимости от решения первого вопроса, их автор выступил как самостоятельный художник. У него своя тема, свой стиль, свои общественно-эстетические оценки, и, если между двумя писателями напрашиваются известные сопоставления, то они вызваны известным сходством жизненного материала и некоторыми совпадениями в общественно-политических позициях писателей.
Зато неизбежно возникает мысль о критико-реалистических тенденциях, которые характеризуют Ис. Гольдберга, как последователя В. Г. Короленко. Глубочайшее уважение к малым народностям, к их обычаям, нравам, тревога за их судьбу, ненависть и презрение к царским угнетателям, поработившим все народы России и возложившим двойной гнет на якутов, эвенков, тофов, удэге и др., возникает как при чтении «Сна Макара», так и эвенкийских рассказов. Сила демократизма Ис. Гольдберга — в последовательном отрицании мира богатых: жадных чиновников, урядников, попов, промышленников, кулаков и в утверждении права тружеников-эвенков на жизнь, на преодоление нищеты, грязи, невежества. Если искать положительного влияния революции 1905-1907 гг. на творчество Ис. Гольдберга, то оно проявилось весьма осязательно именно в сборнике «Простая жизнь».
Одним из самых коротких в сборнике является рассказ «Смерть Давыдихи»; но сколько в нем содержания, с какой глубиной раскрыто типическое содержание жизни эвенков до революции!
Давыдиха — старуха, вдова, принявшая на свои плечи тяжкий труд мужчины-охотника. «Умер Давыд, взяла она его ружье, его пальму [* Пальма — копье с наконечником в виде ножа.] и пошла сама промышлять. Чум оставила; ребятишки в нем маленькие... Таежный промысел, мучительный, изнуряющий, высосал из нее все соки, превратил в старуху. Но и этого мало. Писатель сразу вводит нас в мир столкновении и конфликтов, которые со всей наглядностью дают представление о трагедии народности, зажатой в железные тиски «покрутой» [* Покрута — договорные кабальные отношения между эвенками и богатыми скупщиками пушнины.] с богатеями-кулаками, купцами, промышленниками. Они, подобно жадным воронам, отнимают у эвенков всю добычу, спаивают одурманенной табаком водкой, наживая 400-500 процентов от каждой сделки, без конца приписывая неграмотным охотникам все новые и новые долги.
В роли такого безжалостного, неумолимого хищника в рассказе «Смерть Давыдихи» выступает деревенская богачка Палагея Митревна — толстая, жирная, лоснящаяся от сытости, хитрая и беспощадная.
Безрадостная жизнь эвенков в рассказах Ис. Гольдберга нередко заканчивается их трагической гибелью. Однако смерть Давыдихи, по существу убитой купчихой весьма хитрым приемом, с особой силой выявляет холодную беспощадность эксплуататоров, не считавших эвенков за людей. Палагея Митревна опоила Давыдиху водкой, забрала на свои нарты ее пушнину и бросила пьяную женщину на произвол судьбы. Охотница беднячка замерзла в тайге, а ее убийца «жертвует» детям-сиротам остатки пушнины от грабежа Давыдихи.
В рассказе «Правда» — одном из самых трагичных по своему исходу, — мы сталкиваемся с идейным замыслом и некоторыми сюжетными положениями, развивающими линию «Смерти Давыдихи». Хитрый и ловкий купец опоил на Митрофановом стойбище эвенков, выдав каждому по четверти водки, забрал даром весь «промысел» и уехал, а потерявшие рассудок люди передрались, пожгли чумы. Особенно пострадал Митрофан Саладкин: «...в ожогах весь пришел к фельдшеру, да и бабу свою едва-едва не убил, спасибо, убежала она. Тридцать верст лесом бежала, дитя свое к груди прижимая».
Прижимистый кулак Иван Беспалый нанял бедного мужика Никанорку, чтобы поймать драгоценную лисицу — «огневку» (рассказ «Чупалин сон»). По обычаям тайги, полные права на нее имел эвенк Дыдырца, у стойбища которого она появилась. К тому же именно его собака первая учуяла след зверя. Однако Дыдырца не хочет быть жадным и доверчиво соглашается с кабальными условиями Ивана Беспалого: две части лисицы получит кулак вместе с подставным «охотником» Никаноркой, а третья часть пойдет эвенку. Что же касается его жены, то она, по убеждению Ивана, «...конечно, среди людей не в счет: женщина».
Иван Беспалый — «мужик хозяйственный, с купцами знающийся», наделен писателем всеми свойствами жадного приобретателя. Для него не только жена Дыдырцы — не человек. Сам охотник эвенк также ничего не стоит: нужно его использовать, а потом можно обмануть, за бутылку водки отнять его долю в добыче.
Немногословно и очень сильно показана в рассказе разыгравшаяся в тайге трагедия. Лисицу преследовали три охотника, а вышла она к стойбищу Дыдырцы, и на долю его жены Чупалы выпало счастье убить зверя. Но второпях Чупала отмерила слишком большой заряд и погибла сама. И даже ее труп и беспредельное отчаяние Дыдырцы не растопили холода в сердце Ивана Беспалого. Когда Дыдырца с отвращением отбросил от себя виновницу смерти жены — лисицу, жадно подхватил ее Иван. «И когда брал ее в руки и мял ее уже застывшее тело, то вспыхивало его лицо каким-то пугливо-радостным румянцем и хищно впивались костлявые руки в пушистый мех».
Красной нитью по эвенкийским рассказам проходит эта тема самого жестокого угнетения эвенков купцами, промышленниками, кулаками, опирающимися на «права», дарованные царскими законами. Здесь, в тунгусской тайге, не действовали даже те внешние «приличия», которыми прикрывались капиталисты, помещики и кулаки, грабившие рабочих и крестьян в европейской части России. Здесь даже жизнь человека не охранялась законами, убийства эвенков такими приемами, к каким прибегали хищники, изображенные в рассказах «Смерть Давыдихи», «Правда», считались в порядке вещей.
Разрабатывая эту важнейшую тему, Ис Гольдберг, как правдивый бытописатель демократического мироощущения, не мог пройти мимо роли религии и церковников, их преступного участия в преследовании и фактическом уничтожении представителей эвенкийской народности. И мы действительно наблюдаем в его рассказах атеистические мотивы, имевшие особое значение в критике дореволюционной сибирской действительности.
Из произведений Ис. Гольдберга каждый читатель делает неизбежный вывод: эвенки испытывали двойной религиозный гнет: их грубой силой «обращали» в «православную» веру, а шаманы продолжали удерживать в сетях своих заклинаний. Но и священники, и шаманы, исполняя свои обряды, рассчитывали на те же самые выгоды, что и промышленники. Очень дорого стоили молитвы и заклинания — десятками беличьих и лисьих шкур должны были расплачиваться эвенки-охотники за свое приобщение к богу.
Рассказ «Николай-креститель», пожалуй, с наибольшей силой и суровой прямотой обнажает своекорыстие, цинизм, откровенную спекуляцию церковников и «верующих» купцов на невежестве эвенков, на их доверчивости и беззащитности. Глубокий старик Юхарца и его дочь Чупала, прослышавшие о том, что Николай-угодник «шаманит лучше», чем служитель культа из их рода, решились креститься. Русского попа не было поблизости, и приехавшие на стойбище купец Николай Гаврилыч и его приказчик Ларион, издеваясь в душе над эвенками, «окрестили» их, забрав в уплату много белок.
Русский священник Митрофан не участвует непосредственно в этой издевательской церемонии, но он нисколько не лучше Г'аврилыча и так же, как и он, издевается над обманутыми бедняками, готовый воспользоваться любым удобным случаем, чтобы совершить такое же преступление. Это очень хорошо показано в сцене, где купец угощает попа после удачной поездки по стойбищам.
«Вдруг хохочет Николай Гаврилыч. Вспомнил что-то. Смешное, должно быть.
— Бать, а бать!.. — окликает он пошатывающегося батюшку, — послухай... а я ведь заместо тебя тунгусов двух окрестил. Ей богу!.. ха-ха-ха!..
Смеется поп Митрофан. Трясется черная борода, прыгают волосы со лба на глаза, с глаз на уши.
— Здорово!.. Ты, брат, этак и харч мой весь отобьешь!»
Уже в этом рассказе подчеркнуто, что шаманы — под стать русским «батюшкам», и прежде чем платить за «крещение», Юхарца много мехов отдал сородичу-шаману, который своими заклинаниями так и не избавил его от бедности и неудач в промысле. А в произведении «Злые духи» молодая женщина Анна убивает сына и попадает в тюрьму из-за того, что шаман не разрешает ей лечиться от сложного нервного заболевания. В этом рассказе показано и столкновение представителей двух религий. Ревниво следит шаман за тем, как семья Анны обращается за помощью к священнику Савватею, и повергает больную в безнадежное отчаяние: «Осердила... Анна духов. Нет ей помощи... С попом говорили... Зачем говорили? Злили духов сильно».
По прочтении сборника «Простая жизнь» возникает совершенно реальное представление о том, как страдали эвенки в старой царской России под двойным гнетом царской власти и церкви. Оскудение, вырождение талантливой национальности, нищета, болезни, темнота и невежество — вот итоги насаждения «цивилизации» колонизаторов. В этом смысле произведения Ис. Гольдберга — достоверный исторический источник, дающий яркую картину определенных сторон дореволюционной жизни Восточной Сибири.
По сравнению с предыдущими произведениями, метод изучения и оценки действительности в эвенкийских рассказах изменился коренным образом. Раньше господствовала заранее заданная цель и субъективная оценка, не представлявшие возможности для широкого охвата жизни. Теперь писатель объективен в лучшем смысле этого слова. Рисуя поистине страшные картины жизни эвенков, Ис. Гольдберг не скрывал того, что их отсталость, покорность, некоторые традиции и привычки облегчали возможность совершения поистине уголовных дел грабителей, усугубляли страдания и муки народа.
Как краевед, этнограф, писатель хорошо понимал, что многие обычаи эвенков, сохранившиеся в их среде от первобытнообщинного строя, сами по себе благородны, чисты, что в их детской наивности проявляется большая мудрость. Однако в условиях Сибири, ставшей ареной для приложения сил алчных предпринимателей, они обертывались противоположной стороной.
Дикость и невежество, склонность к пьянству, наряду с доверчивостью Давыдихи, являются одной из причин ее гибели («Смерть Давыдихи»). Не будь рабского подчинения семьи Ермила шаману и боязни врачей, не убила бы Анна в припадке своего любимого сына («Злые духи»), не погибла бы вся семья Мультурцы («Большая смерть»). Если бы Дыдырца не был так прост и наивен, не покончила бы невольным самоубийством его жена («Чупалин сон»). Только беспомощность и слабость может объяснить трагедию семьи Селентура, вымершей от голода («Последняя смерть»). Бессмысленна и нелепа месть Баркауля медведям из-за ужасной смерти его молодой жены Ашитты («За что он их убивает»).
Беспредельная жалость и сочувствие к угнетенным сливаются в рассказах И. Гольдберга с возмущением против слабости, беззащитности их, против их собственного упорного и безрассудного желания сохранить в новых условиях старые нравы, которые как раз и препятствовали созреванию протеста и стремлений к борьбе. Такое сложное мироощущение писателя обусловило появление самого трагичного произведения в эвенкийском цикле — рассказа «Правда».
В наших условиях этот рассказ может показаться неправдоподобным. На самом деле в основе его сюжета — истинное происшествие, с которым писатель столкнулся в ссылке. «Иные факты, — вспоминал впоследствии Ис. Гольдберг, — впечатляли меня необычайно остро, и воспоминание о них я носил бережно, как драгоценность. Таким фактом, например, было самоубийство тунгуса, описанное мною в новелле «Правда». В необычности этого самоубийства раскрылся предо мной какой-то уголок переживаний туземца, осветивший еще ярче и полнее девственно-чистую психологию тунгуса». Но даже если бы и не было этого свидетельства, мы все же восприняли бы рассказ как типическую правду жизни эвенков, ибо содержание других произведений из сборника «Простая жизнь» как бы подготовляло нас к еще более ужасному в своей просто те и обыденности факту.
Мы уже упоминали о рассказе «Правда» в иной связи. Теперь необходимо обратиться к нему специально. Много оборотистых купцов побывало на Митрофановом стойбище, но самым беспощадным и увертливым оказался Степан Николаевич. Опоив эвенков водкой, он забрал весь их промысел, не расплатился и уехал. Больше всех рассердился на купца сам Митрофан, чуть не убивший во хмелю свою любимую жену. В ярости и негодовании он написал жалобу волостному начальству. Этот необычный поступок эвенка и явился первым толчком к его гибели.
Обычно даже не очень частые жалобы эвенков начальство не принимало в расчет. На этот раз колесо бюрократической машины «сработало» не в ту сторону. Заявление Митрофана попало в суд, уничтожить его оказалось почему-то неудобным, и бедный эвенк оказался истцом, выступающим против могущественного ответчика.
Сложен, тернист путь бедняка, затеявшего тяжбу с богатым. Вызвал Митрофана рыжий здоровенный урядник и накричал на него. Не очень хитры приемы урядника, стремившегося заставить Митрофана отказаться от судебной тяжбы с купцом. Представитель власти устрашающим тоном голосом требовал, чтобы эвенк говорил на суде правду, — иначе за нарушение присяги он в тюрьме сгниет. Уже настолько-то Митрофан «образовался», чтобы понять слова урядника наоборот. И у него мелькнула мысль о том, чтобы простить обидчика за бутылку водки.
Но Митрофан и понятия не имел, что затеянное им дело уже затронуло различные интересы. Если рыжий урядник охранял интересы купца Степана Николаевича, то другой купец — Прокопий Егорыч — мог лишь радоваться беде конкурента. А к Прокопию Егорычу, с которым изредка имел дело, и решил обратиться за советом Митрофан. Из разговора с ним понял несчастный, что «против закона и юстиции не пойдешь», что простить обидчика он не имеет права. Такого же мнения придерживались, разумеется, из самых хороших побуждений, и русские крестьяне, с которыми разговаривал Митрофан.
Надо представить себе отчаяние и безутешное горе крестьянина, понявшего, что он попал в крепкую ловушку. Темный и безграмотный, он и понятия не имел, что ему в сущности ничего не грозило, даже если бы суд оправдал купца. Ужасным представился мир эвенку, запутавшемся в противоречиях. И его единичная трагедия, нарисованная писателем как совершенно неизбежная, оказалась для Митрофана жесточайшей расплатой за приниженность, робость. Он повесился. И быть может, нет сильнее сцены в эвенкийских рассказах, чем та, в которой самоубийство показалось эвенку единственным и даже отрадным выходом: «Тихо качаясь на бичеве, весь вытянувшись, висел Митрофан. Было лицо у него спокойно и руки вытянуты вдоль тела. Был он праздничен, как жених...»
Правда жизни, неумолимая, суровая, не позволила Ис. Гольдбергу что-либо прикрашивать, и эта же правда привела его к убеждению, что, несмотря на все свои объективные слабости и недостатки, эвенки — хороший, честный, справедливый и трудолюбивый народ и что все издержки в его жизни вызваны влиянием представителей капиталистической «цивилизации». Вот почему со страниц его сборника встает обобщенный образ народного героя, в котором мужество и скромность, трудолюбие и честность проявляются как черты ведущие, главные. И не только традиции древних родовых отношений, а прежде всего неустанный труд, общение с природой, воспитали этот прекрасный тип человека — энергичный и поэтический.
Вот перед нами характер Давыдихи. Да, в нем есть серьезные слабости. Но в главных своих проявлениях он бесспорно героичен. Без мужа, в глухой тайге подняла она на ноги ребятишек, стала меткой охотницей. («Смерть Давыдихи»).
Рассказ «Злые духи» повествует не только о невольном ужасном злодействе, совершенном Анной в нервном припадке, но и о чувстве горячей любви, которое владеет Ермилом. Ради своей жены бросил он свой промысел в самую горячую пору, готовый разделить с ней все невзгоды тюремного заключения и каторги.
Нет в эвенкийском цикле произведения, более трагичного по своему содержанию, чем рассказ «Последняя смерть». И, несмотря на это, он глубоко поэтичен, ибо прекрасен образ Селентура, дважды умиравшего за свою короткую жизнь — от жестокой лихорадки и от взорвавшегося ружья — и погибшего в третий раз во имя спасения своей семьи.
На стойбище Селентура напали волки, а у него кончились боевые припасы. Писатель создал очень напряженную драматическую сцену. В отчаянии жена Селентура. Потерял голову перед неожиданной опасностью молодой и неопытный сын Баркауль. Сам старый эвенк провел тяжелую трудовую жизнь. Радостными и счастливыми он считал лишь те дни, когда приезжал к нему купец Кирилл Степанович, привозил водку и «гостинцы» в обмен на ценные шкуры. И все же сохранил он в своей душе мужество и силу, верность принципам морали, зовущей беречь семью, становиться на защиту слабых, жертвовать своей жизнью во имя счастья других.
Изумителен подвиг Селентура. В изображении его писатель, сохраняя внешнее спокойствие, поднялся до высокой внутренней патетики.
Поняв, что нет спасения от голодных волков, решился эвенк на страшную жертву:
«Точно проснулся он. Голой рукой схватил большую головню, взмахнул ею, рассыпая яркие искры и дым над головою, и закричал.
Не был человеческим крик его. Так никогда не кричал он, если бы услышал он себя, то не узнал бы голоса Селентура. Был его крик подобен вою волка.
Воя и потрясая головней, с диким и неподвижным лицом шагнул он вперед, туда, где тьма стеной подступила, откуда радостный свет костра беспечно выхватывает, освещая, серые тела волков.
И отступили испуганные внезапным нападением волки. Попятились назад во тьму.
Во тьму же за ними, рассыпая огонь, пошел Селентур.
Так шел бы он долго, так ушел бы далеко, если бы не сторожила его последняя, третья смерть».
Только глубокая, подлинно демократическая любовь к порабощенным труженикам позволила писателю проницательно увидеть красоту человеческой души, красоту, скрытую под грязной одеждой, под грубой, невежественной повседневностью, неизмеримо возвышающую темных, неграмотных эвенков над богатыми, черствыми, холодными поработителями. Такое представление о сущности характеров эвенков дают рассказы «В бездельное лето» и «Месть».
В первом из них повествуется о том, как Овидирь и его сын Ковдельги согласились быть проводниками научной экспедиции, как поразили их воображение незнакомые им блестящие вещи изыскателей и как, загипнотизированный сиянием компаса, утащил Ковдельги таинственную штучку, поставив экспедицию в трудное положение.
Овидирю совершенно незнакомо назначение предмета, который показал ему сын. Тем более дорога она ему предполагаемыми в ней таинственными «волшебными» свойствами. И все же Овидирь строго и неукоснительно исполнил эвенкийские обычаи, требующие честности, искреннего, широкого гостеприимства. Мораль и нравственность благородного народа выражены в думах Овидиря. в предполагаемых упреках русских друзей:
«И скажут они:
— У одного костра ели мы с друзьями нашими, у одного костра пили вино, у одного костра разговаривали, песни пели и сказки слушали. Гостинцами наделили мы друзей наших, радостно смеясь, расстались, разошлись по дорогам своим — мы и друзья наши. А что сделали они? — Друзей обманули, друзей погубили... Разве это друзья? Нет. Разве это хорошие тунгусы? — Нет!..»
И, отобрав у сына компас, Овидирь снова проделал трудный путь в лагерь экспедиции, доказав русским друзьям, что не может быть среди эвенков краж и обмана и что народ спокойно живет и трудится только тогда, когда он опирается на свою мудрость и честь, на священные законы, принятые и одобренные многими поколениями людей.
В своих стремлениях сохранить благородство, чистую душу, герои рассказов Ис. Гольдберга поднимались подчас до высокого гуманизма. При этом не жертвенность, не покорное подчинение насилию руководило их чувствами, а сознание своей внутренней силы и правоты. В рассказе «Месть» мы сталкиваемся с событиями, в которых в неприглядном виде нарисован уже не купец, не алчный скупщик, а русский крестьянин Степан. Его столкновение с эвенком Накурцей еще раз убеждает нас, что писатель, создавая рассказы об эвенках, руководствовался лишь стремлениями к правде, даже той, которая очень нелестно характеризовала и отдельных представителей русского крестьянства в их отношениях к эвенкам.
В самом деле, пренебрежительное отношение царского правительства к национальным меньшинствам, презрительно именовавшимся «инородцами», не только представляло свободу для грабежа и насилий чиновников, купцов и кулаков, но и создавало известное представление среди некоторой части крестьянства об эвенках, как о людях «второго» сорта.
Такой психологией наделен и охотник Степан. Он — не враг эвенкам. Он сознавал превосходство Накурцы в охотничьем промысле и в качестве его друга пошел с ним «белочить», «сохатить». И все же смутное сознание своего «права» нарушать самые обычные нормы общежития по отношению к эвенку владело им. Ему и в голову не приходило, что, соблазнив жену Накурцы, он совершил преступление, на которое никогда бы не осмелился пойти в своем селе. «Разве впервые крестьяне у тунгусов жен отбивают. Разве первый он — Степан, в лесу бесследном, по женщине стосковавшись, на тунгуску позарился?..»
Эвенк Накурца — человек большого достоинства и мужества. Возмущение и гнев охватили его против человека, назвавшегося его другом. Решив отомстить, он придумал Степану мучительное наказание, направил его на промысел в далекую тайгу, где виновник должен погибнуть голодной смертью. Однако даже справедливый гнев не позволил Накурце осуществить свой замысел. Он пошел в тайгу и спас Степана, считая, что тот получил достаточный урок в ожидании гибели. И сколько человечности проявилось в сердце эвенка, когда он вновь привел Степана из гиблого места на свое стойбище. «...Хрипло и устало, не глядя на него, сказал ему:
— Другом будешь... Зло помнить — не помню». И не только сказал, но и выполнил свое обещание, никогда впоследствии не упрекнув «друга».
Нам важно отметить, что, не избегая изображать в своих произведениях и такие острые конфликты, Ис. Гольдберг, опираясь на глубокое знание жизни в ее типическом выражении, рассматривал их как частные, второстепенные, и задолго до революции утверждал идеи интернационализма, братства трудовых народов. Главная тенденция эвенкийских рассказов состоит в установлении важнейшего факта: не русский народ,. не сибирское трудовое крестьянство, а царские чиновники и богатые промышленники всех мастей считали эвенков своей добычей, которую нужно использовать с наибольшей выгодой. А труженики — русские и эвенки — жили дружно, и дружба эта основывалась на понимании общности судеб различных народов, на убеждении, что в тайге, отданной под власть купцов и кулаков, человек человеку — друг, ибо сообща, помогая друг другу, легче вынести бедность, нищету, угнетение, легче противостоять угнетателям.
Вспомним снова рассказ «Правда». В нем примечательно одно обстоятельство: не у промышленника Прокопия Егорыча, к которому пришел за советом Митрофан, нашел он поддержку, а у русских крестьян. Они были глубоко возмущены произволом купца, искренне сочувствовали бедняку и советовали ему не прощать обидчику. «Не смеешь ты прощать...» — сказал один из крестьян.
Дружеские отношения очень быстро установились между эвенком Овидирем и участниками научной экспедиции русскими Петром Захарычем, Семеном Ивановичем и Максимом (рассказ «В бездельное лето»). Вначале Овидирь, привыкший к посещениям промышленников, удивлялся и недоумевал: «Какие такие люди: купцы — не купцы. Купцам вовсе не время к охотникам за промыслом выходить. Другие люди. А водки нет...» Непонятны пришельцы и другому эвенку — Шебкаулю «Пришли на Горнакову речку с Тогурцей... говорят: веди до Овидиря!.. Идут так, зря. Что-то меряют, траву рвут, цветы. В стекла смотрят в какие-то...» И хотя таежные люди так и не могли разобраться в «таинственных» делах путешественников, но, видя добрые к себе отношения, помогали им от всего сердца. И русские делали все возможное для того, чтобы помочь эвенкам. В наивных и простых словах дал им Овидирь свою оценку: «— Хорошие гости!.. Ай, хорошие!.. Сказки, говорят, Овидирь, пожалуйста, сказывай! Сказки, говорят, мастер рассказывать!.. За сказки, ишь, чего надавали. Гостинцев всяких... Ах, хорошие люди!»
И даже серьезный конфликт, возникший было между русскими и эвенками, не повлиял на их деловые и дружеские отношения. Да, Ковдельги стащил компас, прельстившись его блеском, и не хотел возвращать. Но как уже отмечалось ранее, победила честность Овидиря, и компас был возвращен. С другой стороны и участники экспедиции отнеслись ко всей этой истории с достаточной долей юмора, расценив проступок Ковдельги как детскую шалость.
Но самым значительным в этом смысле является рассказ «Николай-Креститель». Страшно и мерзко обманул купец Николай Гаврилыч старого Юхарцу и его дочь Чупалу, совершив поддельный обряд крещения. Всем содержанием своего произведения доказал писатель, что ни у промышленника, ни у его собеседника отца Митрофана нет ни совести ни порядочности даже в самом обычном представлении об этих понятиях. Рассказ примечателен тем, что в самом непримиримом контрасте с аморальными священником и купцом изображены русские сибирские крестьяне. Труд и нужда не вытравили в них благородства, братского сочувствия и солидарности. Они — носители подлинной морали и нравственности.
В избе, где Николай Гаврилыч после удачной грабительской поездки по стойбищам угощал попа Митрофана, хвастался тем, как он превратился в Николая-крестителя и ловко обманул Юхарцу, присутствовали крестьяне. И один из них бесстрашно и откровенно обличил подлость и обман богатеев:
«Выходит из толпы мужичонко. Совсем плюгавый мужичонко: борода в клочьях, решменка изодрана. Пьяный. Только глаза блестят не по-пьяному. Выходит и матерным словом, большим матерным словом бросает в попа и в Гаврилыча.
А потом уходит из избы.
И слышно сквозь окна, сквозь стены слышно, как яростно кричит он:
— У-у, гадины!., у-у, язви вас!.. и веру-то опачкали!..»
Эта сцена по своему идейному смыслу является в сборнике «Простая жизнь» самой сильной, самой выразительной. Критический размах в оценке явлений жизни доходит здесь до предела, и остается лишь удивляться, как сборник произведений Ис. Гольдберга мог увидеть свет в 1914 г. Очевидно, цензор, невнимательно прочитавший книгу, расценил сюжет рассказа «Николая-крестителя» и обличительный монолог мужика как частный, «анекдотический» случай в жизни «инородцев». А между тем именно в этом монологе завершается у писателя в дореволюционных условиях «тунгусская», или как мы скажем сегодня, эвенкийская тема, и читатель, ознакомившись со сборником в целом, с разнообразным и всегда многозначительным смысловым акцентом в том или ином произведении, неизбежно приходит к основному обобщению: жизнь эвенков до революции представляла собой медленное, но неумолимое умирание, вырождение, и всю полноту ответственности за это несет царский строй со всем его государственным аппаратом, с купцами, промышленниками и кулаками. Им было предоставлено полное право физически и духовно эксплуатировать умный, трудолюбивый, любознательный народ, и они совершали свое подлое дело с таким «старанием», с такой холодной беспощадностью, что если бы не свершилась социалистическая революция, эвенкийская народность перестала бы существовать.
М. Горький был совершенно прав, подчеркивая, что творчество Ис. Гольдберга не получило сколько-нибудь достаточной оценки в критике. Особенно это относится к дореволюционной полосе деятельности писателя. Правда, эвенкийские рассказы привлекли внимание рецензента одного из популярных до революции журналов — «Русское богатство», но именно потому, что они принципиально отличались по своей идейной направленности от множества аполитичных произведений «чисто» этнографического направления, критик совершенно несправедливо взял их под «обстрел» и отвергнул как «антихудожественные».
Выступления критика из журнала «Русское богатство» по поводу того, как должна литература изображать жизнь малых народностей, имело откровенно реакционный характер, свойственный как либеральной, так и консервативной печати.
Прежде всего критику журнала как раз нехватало в рассказах Ис. Гольдберга того «экзотического орнамента», который он привык видеть в очерках и путевых впечатлениях всякого рода борзописцев. Он остался крайне недоволен тем, что в эвенкийском цикле, несмотря на достаточный внешний сибирский колорит («тайга», «чумы», «шаманы», «олени» и пр.), нет настоящих «инородцев».
Затем критик разъяснил писателю, каковы тунгусы «на самом деле». И в этом разъяснении и раскрылось все барское пренебрежение его к людям Сибири. Критик вознегодовал против того, что Ис. Гольдберг вместо «первобытных бродячих дикарей» изобразил людей со сложной, да еще и «возвышенной психологией».
Иначе говоря, именно то, что эвенки, в соответствии с правдой жизни, были нарисованы во всей сложности их характеров, внутренних переживаний и стремлений, не устраивало критика, равнявшегося на официальные представления царских властей о якобы диких и невежественных племенах, населяющих Сибирь и не заслуживающих внимания в силу своего «варварства».
Такая оценка журнала «Русское богатство», в наших глазах, лишний раз подчеркивает передовую идейно-художественную направленность сборника «Простая жизнь».
Со дня создания и первой публикации эвенкийских рассказов прошло свыше сорока лет. Сейчас трудно во всех подробностях восстановить их творческую историю, указать па прототипов, на реальные исторические факты, послужившие толчком для создания того или иного сюжета. Но главное мы все же знаем. Правда жизни во всей ее противоречивости с критико-демократической оценкой ее художником проявляется в сборнике «Простая жизнь».
Вспоминая о том, как создавались произведения об эвенках, Ис. Гольдберг впоследствии писал: «Я не ставил себе определенной задачи выявить то-то или то-то или показать ту или иную ситуацию. Но факты, сюжетно оформленные, были упрямыми и раскрывали сами по себе социальную сущность моих художественных высказываний. Мрачное и беспросветное существование заброшенных на край света туземцев кричало против строя, который культивировал и создавал такое существование, такую жизнь. Материал сам по себе был многозначительным и многоговорящим».
Помимо своего общего очень важного политического и эстетического значения, эвенкийские рассказы оказали огромное влияние на формирование эстетических воззрений писателя: «Не мог я стоять даже и тогда на позиции «искусства ради искусства». Это — признание большой важности. Не легким будет путь Ис. Гольдберга в литературу и в дальнейшем, но от «Исповеди» был сделан большой шаг вперед к произведениям об эвенках, и к декадентскому мироощущении художник никогда уже не вернется.
Очень важно отметить, что этот процесс роста художника, его движения к реально-критическому, демократическому освоению действительности захватил и художественную форму его произведений. Знал или не знал Ис. Гольдберг о знаменитом высказывании Чернышевского, что искусство выступает в форме жизни и что форма искусства подчиняется этому же закону, но он следовал ему почти во всех рассказах об эвенках. Внешне однообразная, но внутренне богатая переживаниями жизнь таежных охотников до глубины души взволновала писателя: «...Во всем этом было такое, о чем хотелось писать, о чем хотелось рассказать в ритме и в словах, наиболее связанных с ритмами, с окраской и темпами этой жизни. И я пытался строить свои тунгусские новеллы в простом ритме...»
Свои художественные приемы эпохи 10-х гг. Ис. Гольдберг раскрывал в сложных, почти профессиональных выражениях. Однако суть их от этого не меняется: они столь же реалистичны, столь же демократичны, как и содержание рассказов.
«Ритмы» и «темпы», т. е. развитие характеров героев и событий, в которых они разносторонне и многообразно проявляются, бесспорно имеют прямое отношение к такому важному элементу художественной формы, как сюжет. И нельзя сразу же не отметить, что сюжетика эвенкийских новелл принципиально отличается от сюжетной организации предыдущих произведений Ис. Гольдберга.
Правда, почти все произведения писателя дореволюционной эпохи остро-драматичны или даже трагичны, но трагедия трагедии — рознь. Трагедия героя «Исповеди» — придуманная, искусственная. В произведении «Там, у откоса» напряженно-драматическое положение машиниста, везущего революционеров на расстрел, по тому же субъективному произволу автора также раскрывается в ложно-психологическом плане, столь характерном для «Исповеди».
В эвенкийских рассказах качество трагического совсем иное. Иным — жизненным, глубоко правдивым — оказался и сюжет.
Исключительно ценным является признание писателя: «Сюжет рождался у меня в то время главным образом из жизненного факта». Иначе говоря, формы жизни становились достоянием художественного творчества. И хотя «господствующим фактом был факт смерти, гибели», хотя развитие характеров героев и событий в большинстве случаев заканчивалось катастрофически, это уже не было нарочитым придумыванием трагического. Острота и напряженность сюжета была необходимым следствием того, что Ис. Гольдберга захватила, потрясла тема распадения и вырождения народности, не истратившей своих физических и духовных сил, но тем не менее обреченной на гибель самодержавным строем царской России.
Перед нами прошли почти все рассказы эвенкийского цикла и уже нет нужды возвращаться к их содержанию. Важно лишь отметить, что их сюжетная канва, напряженная, трагическая по исходу, всегда оправдана, всегда отражает в себе формы жизни. Смерть Давыдихи в одноименном рассказе может показаться странной лишь тому, кто не знаком с историей отношения царского правительства к малым народностям России. «Цена жизни» эвенка, тофа, удэге была такова, что ни следователям, ни прокурорам и в голову бы не пришло изучать причины гибели бедной вдовы, тем более, что формально ее никто не убивал, ее «лишь» оставили пьяную замерзать.
Как ни неожиданней с внешней стороны конец таежной охотницы, но он совершенно оправдан жизненными обстоятельствами, в которых развивался. Столь частые в предыдущих рассказах Ис. Гольдберга длинные паузы в развитии сюжета, наполненные длиннейшими суждениями о психологическом состоянии героев, подробнейшим анализом, раскрытием их чувств и мыслей, сведены теперь к совершенно необходимым, оправданным и всегда коротким, энергичным характеристикам. Давыдиха тоже раздумывает о своей жизни, но лишь в той мере, какая отвечает сущности ее характера. Думает Давыдиха: «Конец промыслу. Хороший нынче он. Вот у ней много белки и горнаков. Есть и соболь. Один только. Ушел теперь соболь подальше от людей. Раньше — в молодые годы Давыдихи — больше его было. Зато купцов меньше было, денег и водки меньше давали».
Если Давыдиха была безнаказанно убита, Анна из рассказа «Злые духи» в невменяемом состоянии убившая своего ребенка, показана в развитии сюжета противоположного значения. На нее со всей силой обрушились законы царской империи, и опять-таки новые обстоятельства в жизни эвенков показаны во всей их реальности и в осуществлении сюжета нет никаких отступлений от правды.
Лишь человеку, незнакомому с кочевым бытом эвенков до революции, может показаться «чрезвычайным» факт гибели человека от волков («Последняя смерть»). Полная жизненная достоверность характерна для произведения Ис. Гольдберга: далеко забрался эвенк, рассчитывал на приезд «друга» — промышленника, па пополнение боеприпасов, но не появился купец, волки загрызли оленей, вернуться к жилым местам уже невозможно. Сюжет рассказа, опирающийся на жизнь, не содержит никаких «фантастических» прибавлений, и если он кажется необычным, то только потому, что писатель в единичном (гибель Селентура не означала, конечно, что именно в таких же условиях погибали согни других эвенков) искал типическое. И реальный сюжет такое типическое создаст: вот до чего доходит нищета и беззащитность эвенков, — думает читатель. Вот какая смерть может настигнуть людей, заброшенных в тайге, поставленных в зависимость от произвола промышленников и купцов.
Невольное самоубийство Чупалы («Чупалин сон») может показаться неопытному читателю случайным, а сюжет рассказа — рассчитанным на «обыгрывание» такой случайности. Однако и в данном случае можно проследить естественную закономерность в развитии действия и найти художественное оправдание тому, что частный случай привлек внимание писателя. Он вновь увидел в нем черты типических явлений. Не будь Дыдырца таким бедным, не будь ему помех в ловле лисицы, не заторопилась бы так Чупала, заряжая винтовку. Разумеется, не каждая жена бедного эвенка погибает так, как Чупала, но каждая из них испытывает горькие беды и ни одна из них не гарантирована от тех или иных трагических происшествий. Итак — в огромном большинстве рассказов сборника «Простая жизнь» реальность, правдоподобность некоторых из них отрицалась отдельными критиками уже в нашу эпоху. Так, В. Непомнящих, признав социально значительными многие рассказы этого цикла, считал слабыми и неубедительными, как раз прежде всего с точки зрения сюжета, произведения «За что он их убивает» и «Правда». Первое из них критик определил как «бессюжетное», «рыхлое», а второе как «сюжетно фальшивое», художественно неубедительное.
Разумеется, можно спорить по поводу жизненности, типичности сюжета з рассказе «За что он их убивает», но вовсе отвергать наличие сюжета невозможно. Мы хорошо помним, что это сюжет определен очень резко и проявляется в правдивых положениях, событиях. Медведь загрыз Ашитту, вырвал из ее утробы ребенка. Баркауль пошел в тайгу, чтобы мстить за жену, и беспощадно убивал каждого выслеженного им «старика». Следовательно, события в рассказе есть. О рыхлости говорить также не приходится: все содержание произведения вмешается в шесть книжных страниц, и ни на одной из них писатель не отвлекается от избранной им темы, от прямого развития сюжета.
Что же касается смысла произведения, то и его не трудно установить: о закономерности развития темы диких, страшных условий жизни эвенков, о невежестве, суевериях, наивности Баркауля, мстящего медведям за вину властей, уже шла речь выше.
Рассказ «Правда» В. Непомнящих рассматривал как анекдот и, исходя из этого, назвал его сюжет неправдоподобным, фальшивым. Можно не ссылаться снова на то, что история запутавшегося в судебных передрягах эвенка имела место в самой действительности. Гораздо важнее подчеркнуть, что не внешнее правдоподобие, а общая тенденция интересовала писателя. Характер Митрофана Саладкина находится в полном соответствии с сюжетом, и ни в одном из эпизодов, где он развивается, где совершается подготовка к трагическому действию, нет ни одного ложного места. В каждой из сцен действие развивается с такой неумолимостью, что Митрофан приходит к убеждению: нет ничего страшнее правды. «Скоро, ох, очень скоро позовут, прикажут говорить правду. Скоро!» Скажешь эту правду — и не жить тебе больше на свете. Это понял Митрофан из скрытых угроз урядника.
Эвенк впервые столкнулся с царским судом. И ему, наивному, простодушному, напуганному, представился он страшным капканом, из которого не вырваться. В рассказе «Правда» раскрывается такая последовательная логика событий, что читатель убеждается: Митрофану Саладкину действительно нет никакого выхода, кроме смерти, и мало того, смерть принимает он как нечто утешительное в сравнении с ужасными обстоятельствами, в которых он очутился.
Следовательно, такой элемент формы, как сюжет, является в эвенкийских рассказах столь же реальным, как и содержание их. Отдавшись во власть впечатлений от жизни, писатель отказался от экспериментаторства, от искусственного придумывания событий и встал на путь воспроизведения действительности в форме самой жизни. Что особенно важно, это относится и к «первоэлементу» художественной литературы — языку.
До революции, да и в нашу эпоху, некоторые критики причисляли рассказы об эвенках к разряду «чисто этнографических». Это совершенно неверно. Очерки, путевые дневники, рассказы этнографического направления стремились как можно подробнее показать «экзотику туземного быта», в том числе и прежде всего, разумеется, «экзотику языка». Вероятно, историкам и этнографам и надлежит это делать с определенным чувством меры, поскольку они стремятся показать отличие одной национальности от другой, обратить внимание прежде всего на своеобразие той или иной народности.
Одной из бесспорных заслуг Ис. Гольдберга уже в дореволюционных условиях является глубоко верное понимание специфических черт языка литературных произведений. Он великолепно знал, что можно вовлечь в обиход того или иного рассказа сотни и тысячи слов и выражений из родного языка эвенков, и все же ничего не рассказать по существу. Можно употребить много ломаных слов и выражений из русского языка, который в той или иной мере был известен почти каждому эвенку, и не достигнуть цели. В художественном произведении типическому содержанию должен соответствовать и типический язык, выявляющий внутреннее содержание характеров героев и одновременно дающий представление о живой, непосредственной речи.
«...Я пытался строить свои тунгусские новеллы в простом ритме...» — указывал Ис. Гольдберг. «Простой ритм» в сюжете мы уже видели — он соответствовал естественному, жизненному ходу событий. Достичь «простого ритма» в языке было гораздо труднее, ибо народная стихия речи во всей ее непосредственности привела бы к натурализму.
Невозможно создать единство типического и индивидуального в языке художественных произведений без организующей роли художника, который, творчески организуя «первоэлемент» литературы, должен учитывать множество обстоятельств: современный уровень языка, своеобразие речи самих эвенков, необходимость сохранить частицу этого своеобразия и в то же время избежать, как в непосредственно авторской речи, так и в языке персонажей натуралистических тенденций.
Ис. Гольдберг нашел верный путь и использовал в рассказах об эвенках, как основу, русский язык в его общенародном значении, только «...слегка стилизуя сказ и оттеняя редкими тунгусскими словами и выражениями». Такой метод «живописания словами» характерен для В. Короленко, А. Чехова, М. Горького. Если обратиться к их произведениям о русской деревне, ни в одном из них, даже в «якутских рассказах» Короленко, мы не обнаружим эмпирического воспроизведения «мужицкой» речи, а местный речевой колорит лишь слегка оттеняется известной «стилизацией». В наше время этот прием виртуозно развит в историческом романе А. Толстого «Петр Первый».
В книге Ис. Гольдберга «Простая жизнь» на протяжении 212 страниц встречается всего 57 местных слов и выражений, причем часть из них («чум», «унты» и некоторые другие) прочно вошли в обиход, по крайней мере, жителей Восточной Сибири.
Уже этот пока еще формальный подсчет свидетельствует о том, что писатель стремился не к внешнему описанию быта эвенков, не к подчеркиванию «дикарского» (по определению критика из журнала «Русское богатство») характера жизни сибирских туземцев, а к выявлению того общего, что роднило эвенкийскую народность с русскими тружениками — крестьянами.
Но этого мало. Ис. Гольдберг избегал ломаной речи, хотя, очевидно, она нередко встречалась в его время. Он отказался от «игры» на «экзотической» путанице времен, падежей, мужского и женского рода и пр. Эвенки у него думают и говорят по-русски.
Вот некоторые примеры. Давыдиха раздумывала по поводу действий Палагеи Митревны: «Ой, баба — Митревпа!.. Все с работником ездила покручников встречать. Теперь — одна... Никого не боится, водку крепкую привезла. Хорошая баба... Белку возьмет. За белку много, много водки можно взять... Много!» («Смерть Давыдихи»). Возвратив русским компас, Овидир произнес: «— Тунгус сам дорогу в лесу найдет... Тунгусу ничего не надо. Ружье, да пальма, да кремень. Вот! Штукой этой волшебной, шаманской пусть русские владеют. Пусть... Им она дорогу покажет» («В бездельное лето»). Накурца думал о Степане: «Зачем Степан Тугарилу захотел? Зачем на чужую жену польстился? Накурца, когда к Степану в деревню приходит, не льстится на Степанову жену. Накурца в Степановом жилище хозяина не обижает, крова гостеприимного не сквернит! Не хорошо!» («Месть»),
Все элементы речи персонажей — от подбора слов и выражений, до их синтаксической организации — русские. Но есть ли тогда в них «стилизация сказа», «оттенки стиля», свидетельствующие о том, что на русском языке говорят именно эвенки? Да, есть. И они-то и составляют то впечатление непосредственности, индивидуальности, без которых нет образной, художественной речи.
Достаточно сравнить речь русских персонажей с русской речью эвенков, чтобы найти элементы эвенкийского «стиля», национальные особенности, которые они привносят в русский язык.
Вот речь Палагеи Митревны из того же рассказа «Смерть Давыдихи»: «— Замерзла Давыдиха... Дети у ней, у бедной, остались на Чайке. Ну, да ладно!.. Белка вот осталась от покойницы, хоть и мало ее, да все ребятишкам да родичам кой-что и наберется». Или старый крестьянин говорит Митрофану: «— И врешь!.. Врешь, паря! Не смеешь ты прощать... Не дадут тебе. Не допустят» (рассказ «Правда»), или, наконец, приказчик Ларион предостерегает купца-хозяина по поводу крещения эвенков: «— Как бы, Миколай Гаврилыч, тово... греха не вышло от духовенства?..» (рассказ «Николай-креститель»).
Каждый, еще не вдаваясь в сравнения, ощущает различия в речи Давыдихи и Накурцы с одной стороны и Палагеи Митревны, приказчика Лариона и старого крестьянина — с другой.
Во-первых, речь эвенков значительно беднее, и это совершенно естественно для людей, говорящих и думающих на неродном для них языке. Она беднее и потому, что представители небольших сибирских народностей были поставлены в условия, еще более неблагоприятные, чем русские крестьяне, а тем более, купцы и промышленники. Слова Палагеи Митревны нашли свою смысловую окраску в сложном синтаксическом узоре: «Белка вот осталась от покойницы, хоть и мало ее, да все ребятишкам да родичам кой-что и наберется». Фразы, произносимые Давыдихой и Накурцей, отрывисты, бедны по построению, изобилуют в связи с этим повторами: «— Тунгус сам дорогу в лесу найдет... Тунгусу ничего не надо...» «Ой, баба — Митревна!.. Водку крепкую привезла. Хорошая баба...» и т. д.
В связи с этим, во-вторых, русская речь эвенков не может, естественно, передать своеобразного неповторимого национального колорита именно русского языка. А такой колорит, бесспорно, свойственен языку русских персонажей в эвенкийских рассказах. Он проявляется и в известной «сказовости» крестьянской речи (та же самая фраза Палагеи Митревны «— Белка вот осталась от покойницы...» и т. д.). Он обнаруживается и в «простонародных», непереводимых на другие языки, выражениях (приказчик Ларион: «— Как бы, Миколай Гаврилыч, того...» и пр.). Он сказывается в образной окраске слов, в интонации и многих других признаках.
В-третьих, упрощенно используя неродной язык, эвенки привносят в русскую речь (и это опять-таки совершенно естественно) колорит своего языка: простоту синтаксической организации — без вводных фраз, обычно без сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, деепричастных оборотов, зато с широким использованием вопросо-ответной формы и др. (Ермил: «— Скоро белочить идти надо: время пропадает... Мальчика нет... белки не добудешь — беда»... — «Злые духи»; Мультурца: «— Какие харги?! Заспался парень... Жаром тайга разогрела... Вот все». — «Большая смерть»; Ковдельги: «— Куда, старик, поворачиваешь? Не надо! Зачем отдавать?.. Зачем хорошую вещь отдавать?!» — «В бездельное лето» и т. д. и т. п.).
Ис. Гольдбергу бесспорно удалось создать верный «ритм» в рассказах об эвенках как за счет реалистической сюжетики, так и за счет своеобразно-реалистической речи персонажей. А если к этому прибавить столь же правдиво нарисованные пейзажи сибирской тайги с буйными непроходимыми лесными зарослями, с волками, медведями, зайцами, птицами, то мы вправе сделать заключение: в эвенкийском цикле последовательно реализовались стремления его автора к реализму, как с точки зрения идейного замысла, так и с точки зрения стиля. Закон единства содержания и формы при ведущем значении содержания очень ярко подтверждается творческим опытом Ис. Гольдберга. Связь с жизнью, с интересами трудового народа привела писателя к преодолению ученичества, подражательности, к созданию произведений, составляющих неповторимую страницу в передовой русской литературе первых полутора десятилетий XX в.
А. Абрамович.
[С. 277-292.]
В. И. Краснова
«ТУНГУССКИЕ РАССКАЗЫ» И. ГОЛЬДБЕРГА
(из наблюдений над стилем ранних рассказов писателя)
Ссылка (1907-1912 гг.) оказала влияние на талант Исаака Гольдберга, и в статье «Биография моих тем» он полуиронически, полусерьезно признается: «И теперь я могу раскланяться пред правительством Николая Романова, заставившим меня прожить около пяти лет в ряде отдаленнейших сибирских таежных уголков... никак не вычеркнешь из биографии моих тем участия... сановных ревнителей отечественной литературы» [* «Будущая Сибирь», № 3, 1933, стр. 36.].
В 1914 г. книгоиздательство писателей в Москве выпустило в свет «Тунгусские рассказы» И. Гольдберга.
Книга была встречена жесточайшей критикой. Журнал «Русское богатство» (№ 4 за 1914 г.) поместил погромную рецензию на рассказы. «Не совсем понятно, почему именно автор выдает свои рассказы за тунгусские, а не цыганские или патагонские. Конечно, олени, тундра, шаманы, чумы, тайга — все это в достаточном количестве имеется налицо, но тем не менее сомнение в тунгусской подлинности лиц и мест невольно возникает с первых же страниц...» [*«Русское богатство», № 4, 1914, стр. 374.], — иронизирует критик и дает благонамеренный совет — рецепт, как надо изображать малые народности. Великодержавное высокомерие прикрывает боязнь, как бы читатель не увидел подрывающей государственные основы правды. И апеллируя к изысканному вкусу читателя, продолжает насмехаться над автором: «Судите сами: «У низкой Эвгалак был крепкий и гибкий стан, маленькие ручки, черные-черные глаза и две черных же змеи кос обвивали ее голову и шею...» [* Там же, стр. 374.] Выписав портрет Эвгалак, критик торжествующе вопрошает: «Почему же столь обольстительная красавица называется Эвгалак, а не Зара или Джемма, или, наконец, Рахиль? Что в ней тунгусского, кроме имени,— неизвестно» [* «Русское богатство», № 4, 1914, стр. 374.]. Не заметил критик, что внешняя характеристика тунгусской красавицы создается специфическими сравнениями, которые и могли возникнуть только на почве тунгусских представлений о красоте: губы ее сравниваются со спелым шиповником, а зубы — с зубами белки. Заострив внимание читателя на внешности красавицы (своеобразная уловка: рассказы Гольдберга социальны и критичны, нужно увести в сторону от общественных проблем, животрепещущего в то время национального вопроса, вопроса об угнетенных малых народностях), автор рецензии, продолжая погром, вдруг проговаривается, почему у Гольдберга «вместо бродячих дикарей — герои с необычайно сложной, возвышенной психикой».
Вот что показалось опасным критику из «Русского богатства». И останавливаясь на социально-заостренном рассказе «Правда», в котором главное действующее лицо — Митрофан Саладкин — в смерти находит выход из невероятно трудного для него положения, критик вытаскивает из художественного текста цитату: «Тихо качаясь на бичеве, весь вытянувшись, висел Митрофан. Лицо было у него спокойно и руки вытянуты вдоль тела. Был он праздничен как жених. Тихо качался в морозном воздухе». И задает убийственный вопрос: «Видел ли когда-нибудь удавленников г. Ис. Гольдберг?» Критик уловил главное в рассказах писателя — протест против существующих условий, поэтому он и выбрал в художественном тексте момент, звучащий парадоксально, — и обыграл его. Концовка рассказа, процитированная выше, имеет логическое обоснование и художественную ценность: смерть легче, чем жизнь в условиях капитализирующегося Севера, смерть — как уход из жизни — каторги.
Такому разбору подвергся писатель, только что начавший свой творческий путь. Боясь социальной остроты его произведений, критик, не стесняясь в средствах, обвиняет Гольдберга во лжи и берет на вооружение шутку А. П. Чехова: «Надо дать хоть малое зерно, но подлинной художественно-убедительной, но не из пальца высосанной правды. Конечно, все собаки имеют право лаять — и большие и маленькие, как шутливо говаривал Чехов». А заканчивает свою «статейку» почти магическим заклинанием: «Никому не причинят беспокойства и литературные упражнения г. Гольдберга» [* «Русское богатство», № 4, 1914, стр. 375.]. Мы проиллюстрировали цитаты из этой рецензии, чтобы показать, какие грозные препятствия встали на пути молодого, но уже зоркого художника. Действительно, «мы слышим звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы...».
Настоящую оценку получили «Тунгусские рассказы» уже в наше время, в 1958 г. в статье А. Абрамовича, помещенной в 22 кн. альманаха «Енисей». Справедливо отмечая, что «Тунгусские рассказы» — лучшее из всего написанного И. Гольдбергом в дореволюционное время, лучшее «как с точки зрения политического содержания, так и с точки зрения художественной формы», А. Абрамович рассматривает проблематику рассказов, отмечая гражданское мужество писателя, создавшего свои обличительные миниатюры в эпоху, когда поражение первой русской революции вызвало «бурный расцвет» махрово-контрреволюционной литературы арцыбашевского толка» [* А. Волков подробно анализирует творчество писателей — декадентов в книге «Поэзия русского империализма».].
Глубоко неправы те критики, которые расценивали Гольдберга как бытописателя. Социальные мотивы отчетливо звучат в его «Тунгусских рассказах». Повествуя о жизни народов Севера, подобно Короленко («Сон Макара»), Серафимовичу («На льдине»), Шишкову («Чуйские были», «Суд скорый»), Гольдберг создает короткие, но убедительные полотна, живописующие ярко и образно народную жизнь и выражающие громкий протест.
Рассказы эти, несмотря на их объективность, написаны как бы изнутри в том смысле, что они передают мышление, мировоззрение тунгуса. Но сам автор не опускается до наивности представлений своих героев. Мнение критика из «Русского богатства» ошибочно: И. Гольдбергу удался тунгусский колорит. Художественное мышление писателя переплавило объективные условия и образ мысли тунгуса, создало тот художественный синтез, то единое целое, что явилось и политическим обвинением, и искусством с общечеловеческим содержанием, не оторванным от жизни и не противопоставленным человеку, причем человеку, приравненному в официальной политике к полуживотному.
Индивидуальные бытовые ситуации как нельзя лучше передают ту обстановку, которая сложилась к тому времени в России, показывают взаимоотношения малой народности и развивающегося класса буржуазии.
Его гуманистический протест в тех условиях был значительным и гражданское мужество велико.
Через бытовые рассказы автор дал многостороннюю критику самодержавия.
Даже самая, казалось бы, политически невинная ситуация — изображение эпидемии в тайге — в интерпретации И. Гольдберга звучит осуждением тех условий, в которые поставлены целые народы, отданные на произвол стихии.
А целый ряд рассказов — «это написанное художественными средствами обвинительное заключение против дикого и варварского российского империализма» [* Б. Губер. Творческий путь И. Гольдберга (доклад на II Пленуме Восточно-Сибирского Оргкомитета С. С. П.). «Будущая Сибирь», № 6, 1934, стр. 55.].
Его рассказ «Правда» и привлекает этим художественно-умелым обвинением. Фабула этого произведения, как и остальных рассказов, жизненна и проста: «Митрофан Саладкин подал жалобу на купца Степана Николаевича за то, что тот опоил тунгусов, и Митрофана в том числе, водкой, чтобы захватить добычу, а пьяные тунгусы пожгли свое стойбище. Митрофан даже чуть жену свою не убил. Но прошло время, и простил обиду Саладкин. Но административная машина уже завертелась. Вызвал Митрофана урядник и строго наказал говорить только правду, но правда простака Митрофана не устраивала урядника; в грозном его взгляде, в суровом окрике — желание: Митрофан не должен выдать купца, т. е. не должен говорить правду. Таежный охотник не в состоянии понять лицемерие представителя власти. Они, в сущности, оба идут в одном направлении: и тунгус уж простил купца, и уряднику нужно, чтобы тот сумел скрыть факт преступления. Митрофан мучается: сказать правду — обидеть купца и пойти против совести, т. к. он купцу обещал не помнить обиды, скрыть правду — узнает бог, узнают духи таежные, — и все равно не будет тогда жизни в тайге.
Раскидывает своим бесхитростным умом Митрофан, мучается — и находит единственный выход — смерть. Этот факт реальной жизни передается Гольдбергом в таком художественном оформлении, что получает очень широкое звучание.
Все впечатления бытия, полученные Саладкиным от жизни до этого критического момента, все его прошлое, сформировавшее такой характер, свидетельствует о том, что он неизбежно должен погибнуть в этом страшном единоборстве с невидимым, но неодолимым врагом.
Повествование начинается с пейзажной зарисовки. Этот прием сразу вводит в атмосферу действия. Пейзаж играет самую активную роль в создании фона, на котором разыгрывается событие, и в создании настроения. У Гольдберга пейзаж многофункционален: помимо эмоциональной нагрузки в различных оттенках, он несет еще и ту смысловую нагрузку, какую выполняет - в классической литературе описание обстановки комнат, — ведь тунгус окружен сибирской природой, постоянно и прочно связан с нею и зависит от нее.
«Правда» открывается зловещим кадром: «Морозная мгла распростерлась над деревней. От хребта, через застывшую реку к дальнему лесу, над укрытыми снегом пашнями легла белая пелена тумана.
Тихо. Нет голосов людских. Даже собаки притихли. Большой мороз...» (стр. 63).
Действуют в природе неподвластные человеку силы, которых человек не понимает, и создается впечатление придавленности, ничтожности человека.
На этом фоне хмурой и суровой стихии в маленькой заснеженной деревне разыгрывается драма человеческой души. Внешнее проявление очень сдержанно, но какая напряженная борьба идет в сознании человека. Стиль рассказа передает мироощущение тунгуса, попавшего в неразрешимую психологическую путаницу. Несложные, обычные ощущения передаются столь же простыми фразами: «В тепле хорош. Гудит огонь за раскаленными стенками железной печки» [* И. Гольдберг. «Тунгусские рассказы», Москва, 1914, стр. 63.].
«По разным делам приехали в волостное село тунгусы. Сергушка покруту забирать. Дело небольшое. Но у Митрофана случай поважнее будет. По большому делу приехал он. Большую обиду нанес ему дальний купец, Степан Николаевич» [*Там же, стр. 64.]. Так приоткрывается занавес (прием вариации одной и той же мысли создает определенное настроение: ожидание чего-то серьезного. Повторение определения «большой» указывает рамки этой важности и серьезности). «Большое» это событие для Митрофана, но совсем оно незначительно для купца.
Завязкой служит поступок купца, сохранившийся в памяти не как воспоминание, но как активный стимул действий героя. Гольдберг не изображает того, как опоил купец водкой тунгусов и как палили они свои чумы. Купец натворил большую беду, но не ему из нее выпутываться — выпутываться надо тунгусу, поэтому внутреннее состояние передано писателем через движение мысли Митрофана, а купец даже и не появляется в рассказе. «Весною приплыл он к Митрофанову стойбищу, Привез водку, да сразу же и выдал ее. Много — по четверти на человека. Не понастовал, не доглядел, чтоб тунгусы толком пили, чтобы зла какого не вышло (Митрофан по простоте душевной не допускает и мысли, что купец сознательно спаивал их, но если не мысль, то неосознанное ощущение заставляет его почувствовать, что купец виноват). Сразу залились вином тунгусы, одичали, озверели. В ножи пошли друг на друга; чумы подожгли, чуть убийства не сделали.
А Степан Николаевич промысел у перепившихся забрал да и уплыл» [* И. Гольдберг. «Тунгусские рассказы», Москва, 1914, стр. 64.], (подчеркнуто мною — В. К.).
Долго потом Митрофан залечивал ожоги, и только случайность спасла его от еще большего несчастья — убийства жены: «бабу свою едва-едва не убил, спасибо убежала она Тридцать верст лесом бежала, дитя свое к груди прижимая»: Вот такой эпизод, оставшийся за сценой, предшествует развитию действия. Здесь Гольдберг использует прием «многоголосия». Это не только объективное изложение события, но и вполне точная оценка его и тунгусом — «не понастовал [* Не доглядел.], а уплыл», и народный взгляд на событие, выраженный широко распространенными сибиризмами с яркой и образной эмоциональной окраской, — «залились вином», «одичали», и авторская оценка с легкой, еле уловимой иронией: «И вот теперь вызвали Митрофана. Дошла жалоба до большого, начальства», но «отошло сердце у Митрофана. И с крепкой мыслью приехал Митрофан: кончить дело миром» [* И. Гольдберг. «Тунгусские рассказы», Москва, 1914, стр.65.].
И с этого момента начинаются муки эвенка Митрофана, столкнувшегося с административной машиной самодержавной России.
Рыжий урядник с хитрыми глазами пригрозил: «...ежели соврешь... В тюрьме сгниешь, с голоду подохнешь, побоев натерпишься...» [* Там же.]. Митрофан буквально понял урядника, т. е. не понял его совершенно. Значит, прощать нельзя. Неотступная мысль гложет Митрофана: «Сказать правду про Степана на Николаевича — совесть замучит: мужику слово дал, что простил... И будет совесть в тайге ходить по следу, будет путать след, будет заводить не туда, куда нужно, будет совесть пугать в темной тайге криками страшными, воем несказанным, хохотом диким... [* Там же.]. Суд совести страшен тунгусу, тем ужаснее он для него, что совесть персонифицирована: она может действовать, у нее есть голос. Не в состоянии понять Митрофан, что и решать-то ничего не надо, что урядник требует оправдания купца. Вся сложность положения и заключается в том, что в правде никто не нуждается: ни урядник, ни высшие власти. Правда нужна самому тунгусу. Все пропитано насквозь лицемерием — никто не скажет Митрофану, что желание урядника совпадает с его, Митрофановым, желанием. Все дело в том, как сформулировать свой отказ от правды: Митрофан не должен говорить о преступлении купца — должен отказаться от своей жалобы, тогда купец будет оправдан, а Митрофан сдержит слово. Но Митрофан не в состоянии отказаться от правды, и он хотел бы рассказать так, как все было, было преступление — но он не в обиде, он простил.
С внешней стороны гибель, как будто бы бессмысленна, Я но если проникнуть за текст, то это смерть оказывается своеобразным протестом: лучше погибнуть, чем солгать. И гибель за правду, за ясность и простоту человеческих отношений приобретает глубокий смысл в рассказе писателя.
Последовательно и логично показывает Гольдберг закономерность Митрофановой гибели. Оказался тунгус со своей бедой один на один. Автор показывает, как сужается круг, в который загнан Митрофан кем-то сильным, злым, безликим. Буржуазная бюрократия в этом маленьком мире, как и повсюду выступает такой же безликой и могущественной, властно ломает логику человеческих взаимоотношений. В неиспорченном сознании Митрофана есть своя последовательность: меня обидели — я могу простить. Но эта логика наталкивается на другую: закон не прощает, и не властен человек перейти закон — ни обидчик, ни истец. Таежный охотник, привыкший иметь дело с понятными и конкретными явлениями, наталкивается на необъяснимое: ему непонятно отчуждение законов человеческого общения от человека. Его сознание не в состоянии осилить это противоречие, и он обращается то к Сергушке, то к купцу — но и те не могут ничем помочь. После разговоров с ними безысходность положения становится ясной. Сергушка вспоминает таежных духов,— они не простят за обман. В высказывании Сергушки вековая мораль, на которой основана жизнь эвенка. Так же думает и сам Митрофан. Прием несобственно-прямой речи наилучшим образом передает это состояние. «А Сергушка надрывает сердце, справедливыми речами творит тревогу:
— Оксари-то [* Бог.], он, бойе [* Парень.], не спустит, накажет за присягу обманную. В тайге найдет, в тундре... в каждом глухом углу найдет, огнем спалит, болезнью изведет, амакой [* Медведь.] обернется — накажет...
— Ох! — глухим стоном вырывается из Митрофановой груди... Ох! — что делать? Что делать?..» (выделено нами — В. К.).
Сергушка, конечно, думает так же, как сам Митрофан, но купец Прокопий Егорыч, понаторевший в обманных делах, мог бы дать совет Митрофану словчить, но и тот твердит: «По юстиции-то оно не так, как по-твоему... Не ты волен прощать, — правов тебе таких закон не дает... Правосудие — оно, братец, не посмотрит, что ты зря простить хочешь... Виноватый будет наказан — и строго...» Лицемерие в крови у купца: он знает, что закон на стороне богатых. Растет тревога в душе Митрофана, хотя ясности и не внес купец: «закон», «юстиция», «присяга» — непонятные и страшные слова грозят гибелью, так же как грозят лесные таежные духи. Мятущийся ум Митрофана уже не в состоянии решить ничего. И последняя капля в чаше — встреча с урядником, который опять грозит Митрофану. Круг сомкнулся. Как бы ни решил Митрофан: простить — смерть (так он понял урядника), не простить — бог накажет (тоже смерть). Митрофан доведен до такого состояния, что решать вопросы своей жизни он не может.
Объективная обстановка незамедлительно завладевает и душевным состоянием. «У человека мало мыслей: все вокруг двух вертятся — вокруг жизни и смерти. Истомясь мыслями, натолкнулся Митрофан на одну — смерть» [* Там же, стр. 70.].
Зловещая сила заставляет его убить себя. И авторские строчки, которые повествуют о приготовлении героя к смерти обличают эту злобную беспощадную силу. Влияние всеобщего гипноза заставляет Митрофана произвести роковые действия: «Точно в тумане развязал он свой патакуй, переодел рубаху, шубу подпоясал новым кушаком...» (стр. 70).
Последние действия Митрофана изображаются автором, как действия механической куклы: он умер духовно раньше, чем физически: «...Вытащил из-за пазухи припасенную бечеву. Пополз по столбу на редкую жердяную кровлю, и там одним концом укрепил эту бечеву. И другой конец связал свободной петлей...» [* Там же, стр. 71.]. Подсознательно сопротивляется смерти Митрофан, но выхода нет... Неразрешимые проблемы несла буржуазная цивилизация в тайгу, неразрешимые для ее коренных обитателей, но с легкостью решаемые торговцами, купцами.
Для купчихи Митревны из рассказа «Смерть Давыдихи» не существует угрызений совести. Ей ничего не стоит убить человека.
«Смерть Давыдихи» — это рассказ о том, как совершается коварное и продуманное убийство, и убийца остается не только ненаказанным, но пользуется славой доброго человека.
Давыдиха после смерти мужа оставила ребятишек в юрте и ушла на промысел. Безрадостна и горька жизнь вдовы в суровой тайге, но привыкла к ней Давыдиха. И хотя состарили ее заботы и непосильный труд, духом не пала. Умелая охотница, везет она свой товар к Пелагее Митревне, «толстой да жирной». Напоила купчиха тунгуску водкой, забрала лучшую пушнину — уехала, а пьяная тунгуска замерзла в тайге.
«Правда» и «Смерть Давыдихи» — два рассказа, объединенные одной мыслью: если искать правду; — найдешь могилу, но если жить, ловко обходя все человеческие законы, то наживешь и богатство, и прочное положение. Бюрократический аппарат самодержавной России карал невинных, не препятствовал торговцам грабить эвенков и другие малые народности. Анна («Злые духи») в припадке умопомешательства убила своего маленького сына — закон ее не пощадит; охотник-тунгус расправляется с грабителем («Закон тайги») — его ждет суд, от которого нет тунгусу снисхождения, хотя убил он Степана, спасая свою жизнь.
В одном ряду с торговцами шли служители культа. У всесильных дотоле шаманов появляется конкурент — русский поп. Характерно, что попы не очень-то верили в бога, крещение тунгусов для них было средством наживы. Ничего святого не видели они в ритуале самого крещения и глумились вместе с промышленниками над легковерными тунгусами.
Крещение тунгусов купцами привлекло к себе внимание и И. Гольдберга, и В. Шишкова.
Рассказы «Николай-креститель» Гольдберга и «Помолились» Шишкова созданы на факте реальной жизни, поэтому так совпали положения и характеры купцов-обирал и простодушных эвенков.
Е. Шастина, работая над диссертацией о Шишкове, обнаружила альбом фотографий тунгусов и краткие пометки к ним, что и дало ей возможность проследить, как прототип вошел в ткань художественного произведения. После Гольдберга не осталось подобных материальных доказательств, зато он сам в статье «Биография моих тем» писал, что в рассказах о тунгусах он всегда шел от факта, что и писать-то он стал оттого, что факты не давали ему покоя. Неслучайно фабулы рассказов Гольдберга и Шишкова родственны. Они близки не только в том смысле, что используется одинаковая ситуация, как это происходит в рассказах «Николай-креститель» и «Помолились», они близки по внутреннему смыслу: на обмане строят свое благополучие купцы, описанные Гольдбергом и Шишковым.
Эта же тема двадцать лет спустя была поднята и М. Ошаровым в повести «Большой аргиш» [* «Сибирские огни», № 2, 1934.]. Несомненно, время заставило несколько изменить подход к воспроизведению жизни эвенков. Не только обличительные картины произвола властей, сцены гибели и одичания эвенков от нищеты, от постоянного голода, но и рост самосознания, поиски лучшего, начинающаяся борьба против торгашей-проходимцев — вот что теперь уже занимает Ошарова. Картины старой жизни остались такими же, как у Гольдберга и Шишкова, но появляется новый характер, характер протестанта. Сауд за насильственную смерть своей невесты Пэтемы огнем спалил дом торгаша-насильника.
А рассказы Гольдберга «Железная птица», «Большая нульга Баркауля», «Евсейкина песня» и рассказы М. Ошарова «Вызов», «Большой пуд», «Ачига», написанные на материале жизни в советское время, дают уже иные характеры, описывают иные обстоятельства. И общее в них — благотворное влияние революции на жизнь малых народностей. Общее в них — разбуженное самосознание народа, который теперь сам хозяин своей жизни. Сбылась мечта угнетенных малых народностей, сбылась и Исишкина мечта, мечта батрака-казаха о свободной жизни, о которой так проникновенно рассказал другой сибирский писатель — А. Новоселов.
Со своими особыми красками подошел И. Гольдберг к великому полотну — Сибири.
Нелегка жизнь тунгусов, нелегок их труд, но Гольдберг; изображает труд несколько иначе и отношение к природе, у него иное, чем у Короленко («Сон Макара»), у Серафимовича («На льдине»). Конечно, вечные льды, которые описывает Серафимович, с трудом могут вызвать теплое чувство, но более сочувственная палитра Гольдберга объясняется не только преимуществом таежного пейзажа перед арктическим, но еще и тем, что этот пейзаж — неотъемлемое свойство жизненных впечатлений таежного охотника, который жил в этих бескрайних просторах. Весь ход его мысли связан с тайгой, перед его глазами многообразные ее красоты.
В поэтической миниатюре «Тыркул» мы видим пример этого органического слияния природы и обитателя тайги, сжившегося с нею, строго соблюдающего ее вековые законы, законы товарищества, законы охоты. Братья Верхотуровы воспринимают тайгу как что-то свое, радующее: «...раскинулась, раскрывшись навстречу помолодевшему и исполненному лаской солнцу, от хребта к хребту, по-весеннему богатая водами Лена. Еще мутно белеют кой-где по берегами источенные солнцем остатки льдин. Еще не выбросила из недр своих согретая земля первые ростки, но уже лоснятся иглы на соснах и по-новому желтеют стволы деревьев» [* И. Гольдберг. «Братья Верхотуровы». «Сибирские записки», № 3, 1916, стр. 3.]. А настроение лирического героя Короленко, которое создала ему та же Лена, прямо противоположно: «Мы плыли по угрюмой Сибирской реке...». Все знают этот выразительный и прекрасный ленский пейзаж, но сколько в нем тоски, сколь тяжко сознание этого мрака и холода, что даже оптимистическая концовка («А все-таки впереди — огни...») не снимает этого гнетущего настроения, она звучит призывом разбить эти давящие холодные и чужие берега, любой ценой вырваться из свинцовых оков. В том же ключе выдержан и пейзаж Серафимовича.
Каторжный труд помора-рыбака проходит на безжизненном фоне северных льдов и безжалостного хмурого леса. «Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами» [* А. С. Серафимович. Повести и рассказы. Москва, 1966, стр. 4.].
Почти та же тайга, но описанная с чувством человека, для которого тайга — дом, может быть, не совсем уютный, но родной дом, в котором все привычно, все нужно, и холод которого воспринимается как бодрящий:
«Остановились и застыли в леденящем холоде ветви деревьев и молчат.
Белым узором нарядилась тайга, запорошились тропы и иргисы, затихли ручейки. Пригнулись широкие руки елей к самому снегу, к подножью их, где летом бархатятся мох и лишаи. Не качают верхушками, не встряхиваются. С кручи на кручу, с переката на перекат, — от одной речки до другой — всюду пробралась белая зима...» [* И. Гольдберг. «Тунгусские рассказы», стр. 58.]
О неприятии здесь нет и речи. Глаз охотника Тыркула просто подмечает, все ли в порядке, все ли так, как должно быть, нет ли изменений, которые так много скажут охотнику.
А многие гольдберговские пейзажи выражают любование: «На Иконде были веселые поляны. Росли на них летом огневые жарки и синие колокольчики, и пахучая ромашка и много других ярких и благоухающих цветов» («Путь их любви») [* Там же, стр. 103.].
«Зажгло (Солнце) круглые маленькие озерца зеркальным блеском» [* Там же, стр. 17.].
«Гиблое место» [* Это определение принадлежит М. Азадовскому, исследующему пейзаж у Короленко в работе «Поэтика гиблого места».] может сверкать, искриться, благоухать. Новые краски, новые запахи наполнили рассказы о тайге.
И то состояние, которое некогда Владимир Пруссак передал в строках:
Нет, полюбить я не смогу
Просторы сумрачной Сибири,
Ее тоскливую тайгу,
Ее безрадостные шири —
Чужая дикая страна! —
это состояние — столь характерное даже для Короленко, было преодолено в творчестве писателей — сибиряков. И немалый вклад сделан в этом смысле И. Гольдбергом. Переосмыслени пейзажа несло большую содержательную нагрузку: ведь из страны каторжной Сибирь становилась Родиной, преобразование которой требовало многих усилий и труда, но и сулило счастье.
А для тунгуса тайга — дом. Временами этот дом суров, подчас опасен, но это место, где родится тунгус, растет, мужает и умирает. О суровом быте рассказывается и в «Большой смерти», и «За что он их убивает», и в «Последней смерти». Не экзотика привлекла внимание Гольдберга, а сама жизнь эвенков, которую очень внимательно изучил писатель, — труд, быт, мысли, настроения, языческое восприятие мира, анимистическое понимание животных. Тыркул уговаривает медведя не сердиться на него за то, что он убил дедушку. Наивно и горячо убеждает он мертвого зверя, что это сделал плохой человек, а не он, Тыркул. Баркауль мстит медведям за смерть жены и сына так же, как он мстил бы убийце-человеку. Медведь, по мнению Баркауля, сознательно причинил ему вред — убил жену и съел сына, который вот-вот должен был родиться, значит, нужно мстить ему, лишая жизни его самого и его детей.
Но, пожалуй, самый выразительный рассказ, художественно и психологически точно передающий всю полноту мировоззрения и чувств эвенка, — это «Большая смерть». Колорит этого рассказа создается всем складом мышления и восприятия объективных явлений тунгусами. Неслучайно в тексте этого рассказа мы встретим и троекратные фольклорные повторения, как будто заклинания, и лирический пейзаж, непосредственно действующий на мысли и чувства персонажей и сопровождающий их от первого появления на свет до той последней минуты, когда в остекленевших глазах отражается тайга.: «Большая смерть» — рассказ о том, как гибли от эпидемии тунгусы. Трудный, но привычный порядок жизни тунгуса нарушается злым пришельцем — болезнью. Языческое мироощущение одушевляет болезнь: она представляется тунгусу живым, мыслящим существом. «Много лет назад пришла она... вдруг обожгла чем-то лицо и грудь одного...
...Днем еще не нужен был покой телу, и ноги должны быть крепкими — днем вдруг ослабло и тело, и ноги, и потянуло отяжелевшую голову к земле» [* «Тунгусские рассказы», стр. 8.]. Что-то постороннее, враждебное и непонятное, вошло в человека: «А на утро следующего дня кто-то тот же — неведомый — обессилил и жену. Обессилил потом маленьких детей...» [* Там же.] В непосильной схватке с невидимым и жестоким врагом погибают Мультурца, Шебкауль, Миндыуль, Чемок и мужественная маленькая охотница Танчеук.
В коротком описании повседневного хозяйствования вскрыты и заботы, и труд тунгусов, и их мудрость, и суеверия, и их культура, и даже поэтическая мечта о будущем: «Навьючивают оленей женщины. Их это дело: собрать и разобрать чум, в тюки и патакуи стянуть домашность всякую: в патакуи же увьючить детей маленьких, плачущих, промышленников будущих» (стр. 8).
Несколько оленей остается без груза. Они понесут на себе невидимых спутников человека: вслед за первым, самым красивым оленем, на котором на маленьком седле поедет бог Оксари, пойдет олень с заботой на спине, другой повезет радость, третий — здоровье, четвертый — удачу, а уж потом— «обвеянная ветром и дымом семья» разместится на оставшихся оленях.
С такой же скрытой грустью, как и Драверт в стихах о пляске тунгусов, изображает Гольдберг этот обычай. Этот момент пляски, грустной и однообразной, схваченный поэтом, служит неплохим стилевым аккомпанементом к рассказу «Большая смерть».
Желтеют в просветах ветвей урасы.
Танцуют, сомкнувшись в кольцо, тунгусы,
Кружась на поляне широкой:
И бьется о груди столетних дерев
Унылый, протяжный и странный напев —
Эхекай — охокай!
Неведомы тайны умчавшихся снов.
Певцам непонятно значение слов,
Прошедших чрез долгие годы;
Но вызваны ими из глуби времен
Вожди позабытых могучих племен
Суровой природы...
Уходят в движение солнца часы
Ритмично ведут хоровод тунгусы
Под чашей лазури глубокой,
И с ними невидимо сонмы теней
Несутся в кровавом мерцаньи огней...
Эхекай — охокай!...
(П. Л. Драверт. Стихотворения. Казань, 1913).
Сказочные элементы одушевления природы часты в рассказе Гольдберга: «...Ветви хвойные били по лицу ее, и кустарники хлестали по ногам, по груди. Заслонили трупы давно умерших деревьев дорогу ее» [* «Тунгусские рассказы», стр. 18.].
В фольклорной традиции выдержан пейзаж в рассказе «Большая смерть»: «Не дышали ветры над хребтами и перекатами, не шумели ветви, не гнулась задумчивая, изнывающая в жаркой неге трава...» [* Там же, стр. 18.].
«Утро пошло поступью важною, — утро в золото наряженное, сошло многозвучное, многоцветное...
Утро пришло» [* Там же, стр. 19.].
В умелом поэтическом синтезе выступает и мышление народа, его взгляд на жизнь, и авторский объективный, мужественный и оптимистичный вывод о победе жизни над смертью, о конечном торжестве жизни.
В «Тунгусских рассказах» Исаак Гольдберг выступил против колониальной политики царского самодержавия. Убедительно показал, как подчиняли себе купцы и чиновники туземное население. Особенно выразителен в этом отношении рассказ «Правда». Психологический анализ — прослеживание всех ступеней душевного состояния в поисках правды — служит средством обвинения царской политики. Писатель с уважением относится к человеку, который в официальной политике именуется «инородцем», по в этическом отношении стоит намного выше русских купцов и чиновников. Эвенк ищет правду — находит смерть. Гольберг исследует и характер народного мышления, которому свойственно уважительное отношение к природе и ее явлениям как к одушевленным существам.
Фольклорные традиции сказываются и в пейзажных зарисовках, и в троекратных поэтических повторах. Писатель близок пароду своим творчеством и, что важнее всего, имеет одинаковые с ним взгляды на истину и ложь.
[С. 106-121.]
ПИСЬМА И. Г. ГОЛЬДБЕРГА К В, Г. КОРОЛЕНКО
15 (27) июля 1973 года исполнилось 120 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921). Имя этого выдающегося русского писателя в 80-х годах XIX в. было широко известно в Сибири. Три года он провел в якутской ссылке (1881-1884) за демонстративный отказ от присяги Александру III. Впечатления тех лет легли в основу наиболее яркого и значительного цикла его произведений — сибирских рассказов, «Сон Макара», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1885), явился «первой песнью жаворонка в серый февральский день» (Р. Люксембург). За ним последовали «Соколинец», «Федор Бесприютный», «Убивец», «Государевы ямщики», «Мороз», «Феодалы», «Марусина заимка» и другие рассказы. Трезвый реализм и пробивающаяся сквозь него струя романтики, стройность композиции, проникновенный лиризм, одухотворенность пейзажа, музыкальность языка — характерные особенности этих произведений.
Показывая беспросветно-тяжелую жизнь социальных низов в старой Сибири, отданной во власть всевозможным хищникам, писатель с особой симпатией останавливается на образах людей беспокойного сердца. Его любимые герои — мечтатели, правдоискатели, бунтари.
Авторитет Короленко усиливала его журнальная, публицистическая и общественная деятельность, направленная против самодержавно-полицейского произвола и реакции. Более двадцати лет он руководил беллетристическим отделом «Русского богатства», «журнала наиболее любимого в Сибири», как писал ему из Бийска писатель А. Л. Высоцкий [* Письмо В. Г. Короленко к Ф. Д. Крюкову от 4 февраля 1917 г. Отдел рукописей Ленинской библиотеки (Москва), Кор. III («Короленко В. Г.»), папка № 6, ед. хранения 47, лист 23.]. В этом издании исключительно большое место занимала сибирская тема.
Короленко оказал немалое воздействие на формирование сибирской литературы. Многому учились у него В. Богораз-Тан, В. Серошевский, А. Шиманский и другие. У него учились и такие зачинатели пролетарской литературы, как А. С. Серафимович, А. М. Горький. «Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать», — отмечал А. М. Горький.
Дооктябрьская «Правда», подчеркивая оторванность Короленко от рабочего движения, в то же время писала: «Мы чтим в нем и чуткого, будящего художника, и писателя-гражданина, писателя-демократа».
Влияние этого выдающегося мастера сказалось в творчестве сибирского писателя Исаака Григорьевича Гольдберга (1884-1939), стоящего у истоков сибирской советской литературы, автора «Тунгусских рассказов» (1914), «Человека с ружьем» (1921), «Сладкой полыни» (1927), «Поэмы о фарфоровой чашке» (1931) и многих других книг.
Материал для серии эвенкийских рассказов Гольдберг собрал, находясь в политической ссылке в Киренском уезде Иркутской губернии. В 1931 году был написан один из лучших рассказов этого цикла «Шаман Хабибурца», не вошедший в сборник «Тунгусских рассказов». В нем с большой силой и психологической глубиной передана трагедия шамана, который страдает манией преследования злыми духами и, не найдя помощи ни у другого шамана, ни у русского священника, приходит к безумию и гибели.
Этот рассказ появился в иркутской газете «Сибирь», которой фактически руководил Гольдберг по возвращении из ссылки, и был посвящен Владимиру Короленко. Впоследствии Гольдберг выступал с докладом о Короленко.
В годы ссылки он внимательно изучал творчество этого художника. Ряд исследователей отмечал использование им короленковских традиций. Так, А. Абрамович писал:
«...Возникает мысль о критико-реалистических тенденциях, которые характеризуют Ис. Гольдберга, как последователя В. Г. Короленко. Глубочайшее уважение к малым народностям, к их обычаям, нравам, тревога за их судьбу, ненависть и презрение к царским угнетателям, поработившим все народы России и возложившим двойной гнет на якутов, эвенков, тофов, удэге и других, возникает как при чтении «Сна Макара», так и эвенкийских рассказов» [* А. Абрамович. Эвенкийские рассказы Ис. Гольдберга. Альманах «Енисей», 1958, кн. 22, стр. 279.].
И сам автор этих рассказов причислял себя к последователям Короленко. Это видно из его первого письма к Короленко, написанного из глухого села Преображенского Киренского уезда. Исаак Григорьевич с некоторым запозданием отмечает в нем 25-летие со дня возвращения из якутской ссылки Короленко. Во втором письме, которое писал уже «свободный» Гольдберг и уже из Иркутска, его умение вселять этот оптимизм в других, что имело особое значение в мрачные годы реакции. Страницы писем пронизаны глубокой любовью и уважением к писателю-гуманисту.
Ниже публикуются эти письма. Оригиналы их находятся в рукописном отделе библиотеки имени В. И. Ленина в Москве.
I
Дорогой Владимир Галактионович!*
[* На полях письма рукою В. Г. Короленко сделаны пометы: «Исаак Гольдберг (ссыльный). К юб(илею). Отвечено 6/III-1911».]
Из снежной дали, осененной Северным, сиянием, позвольте послать Вам горячее пожелание дальнейшей славной художественной деятельности, бодрости и смелости, которую Вы несли в своем сердце всегда и которую вдохнули и в нас, молодых почитателей Ваших, Ваших последователей.
Из снежной дали, от которой Вас отделили на днях 25 лет и которую Вы запечатлели в своих произведениях, примите горячий человеческий привет от затерявшегося среди пустынных берегов Нижней Тунгуски.
В минуты одичания, которое происходило там, у свободных людей, Вы своими произведениями несли нам — несвободным людям — залог того, что одичание это случайное.
В минуты — когда со всех сторон неслись крики о гибели дорогих заветов, когда обливалось грязью все дорогое, — в эти минуты Вы зажигали своим словом яркое негодование — негодование на тех, кто клевещет — сильную веру, что крики эти — клевета!
И в снежную даль изгнания Вы несли бодрость: из обетованной страны шла весть, и была эта весть благодатной.
25 лет отделили Вас от изгнания. Но как близки Вы нам — переносящим изгнание теперь! И как больно, что изгнание это теперь лишено того величия, того ореола, какими осиянно было оно в Ваши дни!.. Как больно!..
Из снежной дали примите горячий привет от человека, который задыхается и ищет бодрости, ищет — и порою находит только у Вас!..
Исаак Гольдберг*
[* Отдел рукописей Ленинской библиотеки, фонд 135 («В. Г. Короленко»), раздел II, папка № 43, № 16.]
27/1 — 1911 г. С. Преображенское, Киренгского у.
II
Дорогой Владимир Галактионович!*
[* На полях письма помета рукою В. Г. Короленко: «Ис. Гольдберг (юбилей)».]
Из далекой Сибири, от маленького человека примите горячий привет в день Вашего 60-летия.
Да будет Ваша старость так же осиянна подвигом и любовью к человеку, как ими были освещены и ярко горели годы расцвета Ваших сил. Пусть творческая мысль Ваша и впредь — на многие, многие годы — горит также можно и не потухая, как горела она по сей день.
Как сибиряк — я шлю Вам сердечный поклон из той страны блестящих и девственных снегов, где однажды Вы невольником коротали безрадостные короткие дни и долгие ночи.
Как еврей — я с чувством редко приходящего в наши дни умиления и глубокого удовлетворения низко кланяюсь Вам за то, что в темные дни реакции и человеконенавистничества, в томительные дни проповеди вражды — Вы громко и смело говорили в защиту слабых и унижаемых.
Как человек — я преклоняюсь перед Вами в день Вашего шестидесятилетия, приветствуя в Вас лучшего из лучших людей...
Ис. Гольдберг*
[* Отдел рукописей Ленинской библиотеки, фонд 135 («В. Г. Короленко»), раздел II, папка № 43, ед. хранения 79.]
Иркутск, июль 1913 г.
Публикация А. Малютиной
[C. 113-116.]


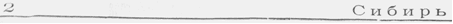




.png)
.png)
.png)
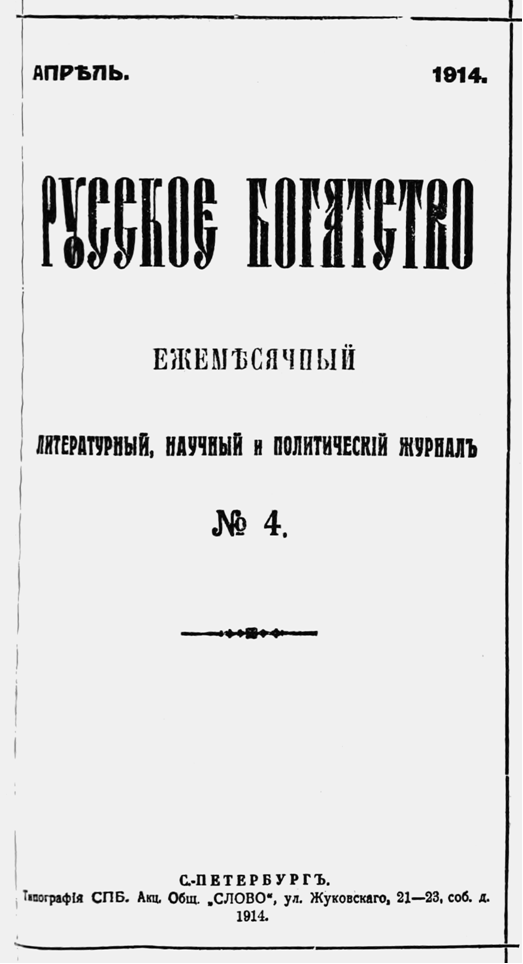

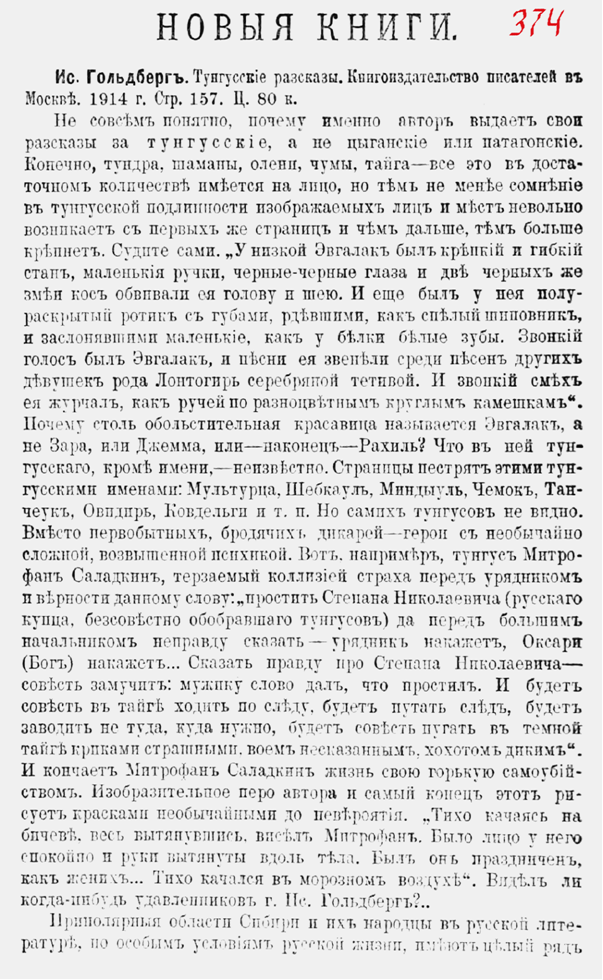

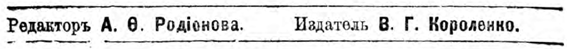











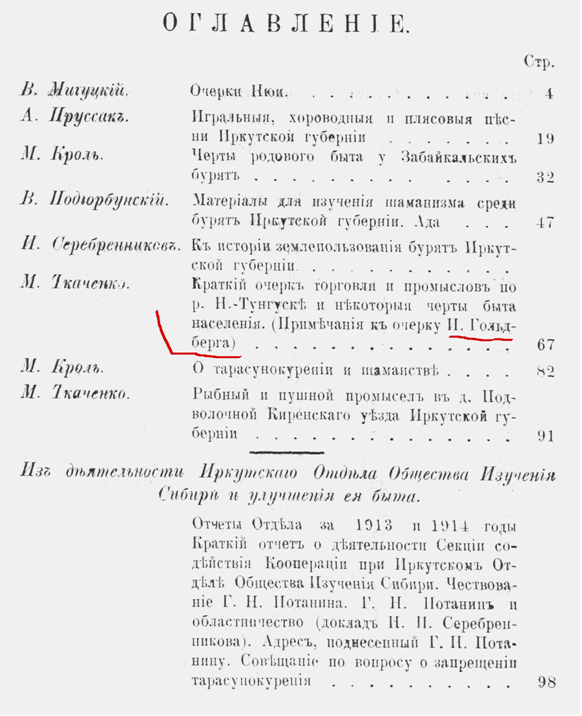
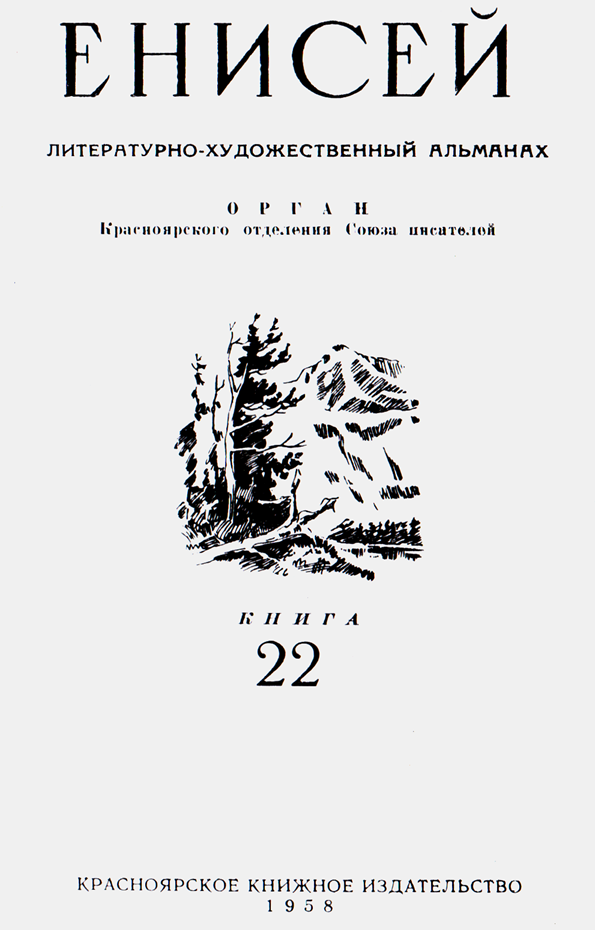









Brak komentarzy:
Prześlij komentarz