ОТ АВТОРА
Весной 1971 года, когда я был в Переделкино, подошел ко мне сибирский писатель-историк тов. Шелагинов и спросил меня - не тот ли я Фраерман, который в 1920 году в Ново-Николаевске давал для газеты «Советская Сибирь» отчеты о процессе барона Унгерна. Я ответил, что я и есть тот самый Фраерман, что я действительно работал секретарем «Советской Сибири», а редактором газеты был Емельян Ярославский, который был на процессе общественным обвинителем, а мне поручил давать для газеты отчеты, дав мне мандат корреспондента.
Тов. Шелагинов попросил меня рассказать некоторые подробности этого процесса. И постепенно далекое прошлое возникло, словно сквозь завесу рассеявшегося тумана, я вспомнил все и решил даже записать, какие жизненные пути свели меня с Ярославским и как я очутился в Ново-Николаевске.
Р. И. Фраерман
«ПОХОД»
Воспоминания о походе партизанского отряда
из Николаевска-на-Амуре до Якутска
Поход этот начался весной 1920 года с урочища Керби (1), куда эвакуировались из сожженного дотла города Николаевска-на-Амуре (2) части партизанских сил и оставшиеся в живых после разорения города и стычек с японцами жители. Припоминаю, что я был вызван в ревштаб партизанских сил в самом начале мая 1920 года и мне был вручен приказ выйти с небольшим отрядом партизан из урочища Керби, дойти до Охотского побережья, где стояли тунгусские стойбища, провести среди тунгусов выборы в Советы и организовать Советскую власть, и если там встретятся японские части, вступить с ними в бой и действовать сообразно необходимости.
Получив приказ, я положил его в карман на груди и отправился на опушку кербинской тайги, где должен был встретиться со своим военным руководителем, назначенным в отряд для ведения военных операций, поскольку я был не военный. На опушке под двумя соснами я увидел своего военрука.
Это был молодой человек, приблизительно моих лет, с живыми, подвижными чертами лица, стройный, подтянутый, одетый в аккуратную кожаную куртку, в кожаной фуражке из черной кожи, сапоги на нем тоже были аккуратно сшиты и ладно пригнаны по ноге.
Он мне представился по-военному и назвался Холкиным, из иркутских казаков.
Мы устроили как бы маленький военный совет... Он звал меня товарищем политруком, а я его военруком или просто товарищем Холкиным. Он оказался дельным, смышленым и опытным командиром, разумеется, небольшого масштаба, скажем, взводным или отделенным командиром, был ловок в движениях, проворен в ходьбе и прекрасный стрелок из винтовки и при этом еще прекрасный плясун, веселый человек, но осторожный в действиях и суждениях. Он рассказал мне, что уже сформировал состав отряда, проверил людей, узнал, что это все смелые ребята — таежники, сахалинцы, охотники, рыбаки и приискатели. Кроме одного человека, который кажется ему малоподходящим — человек он не таежный, какой-то дьячок-расстрига или бывший монах, любит выпить, но отличный повар, умеет варить каши, разводить костер, жарить мясо и печь лепешки из муки, а выпивать ему все равно не придется, спиртного у нас не было. Мы решили оставить его в отряде. Кроме того, Холкин уже договорился в ревштабе, что нам дадут опытного проводника, он и доведет нас по таежным тропам до побережья Охотского моря, что нам дадут небольшой обоз из вьючных оленей, он и понесет продовольствие и разные военные боеприпасы. Винтовки же понесем мы сами на плече, на ремнях.
Во время нашего короткого совещания явился к нам на опушку тайги и наш проводник, назначенный штабам, старик тунгус по имени Федя и со странной фамилией — Гучинсон. Это был седой человек лет шестидесяти, сухой, костлявый, как многие старики, но легкий на ходу и опытный в кочевой таежной жизни. Он пришел в своих ровдужных штанах, в синей ситцевой рубашке, под мышкой у него был свернутый в трубку спальный коврик из оленьей шкуры, который тунгусы называют «камалан». На правом плече у него висело на ремне отличное охотничье ружье американской марки «Винчестер», десятизарядное, тяжелое и некрасивое с виду. Проводник принял самое горячее участие в нашем совещании и дал очень дельные советы.
Прежде всего он посоветовал обеспечить отряд продовольствием на все время похода, так как, по его расчетам, мы придем на побережье Охотского моря не раньше, чем через десять — двенадцать суток. А дорога трудная, много болот, речек, трясин. Места звериные, трущобы страшные. И все добивался узнать, что нам дал штаб из продовольствия и сколько у нас будет вьючных оленей. Мы ему сказали, что нам дали десять ящиков японских офицерских галет, отнятых у японцев со склада, восемь мешков наших солдатских сухарей — черных и белых, выдаваемых солдатам в походах, сколько-то сахару, соли, мясных консервов и прочее.
Федя попросил показать ему вьючных оленей. Мы повели его к нашим оленям — их было десять голов — важенок, то есть оленьих самок, довольно тощих, с протертыми от вьюков спинами, и только один самец, но зато настоящий прекрасный экземпляр оленя наилучшей аянской породы. Проводник обнял его за шею, потрогал рога, уже давно отлинявшие и затвердевшие, погладил оленя по спине с любовью и нежностью.
«Этот очень хорош, — сказал проводник, — я его буду беречь, а то за ним станут охотиться медведи. Он понесет во вьюке японские галеты, а медведи это почуют».
Мы установили порядок движения. Было решено, что впереди с небольшой разведкой будет двигаться сам Холкин на случай неожиданной встречи с противником. Я же и проводник будем в арьергарде отряда на случай нападения таежных хищников на обоз с продовольствием и на оленей.
Место для ночевок отряда будет назначать сам проводник, знавший в тайге каждый ручеек и речушку.
Установив необходимый порядок движения отряда, мы двинулись на рассвете в путь. Это было, как мне помнится, 5 мая.
Сразу же за урочищем Керби начались болотистые места — дичь, глушь, трудно проходимая тайга.
Продвигаться приходилось медленно — не более 10-15 километров в сутки. Проводник то и дело бегал с арьергарда в авангард, определяя место стоянки, ночлега или дневного отдыха отряда. На ходьбу он был неутомим — этот сухой и жилистый старичок. Он шагал рядом со мной и охотно болтал о чем угодно — о японских галетах, об оленях, о нашей обуви, то есть о солдатских сапогах, выданных нам в дорогу. Сапоги наши ему не понравились. Винтовки тоже не понравились: пули глупые — такой пулей медведя не убьешь, он себе ляжет под сосну и в полчаса свою рану залижет, а потом будет за тобой охотиться и, в конце концов, настигнет, и кожу с головы сдерет. Он — хозяин тайги, с ним шутить нельзя. Вот американский винчестер — лучше, у него пули большие, из чистого свинца, такую рану сделает, что ее и медведь не залижет. Медведь — хитрый человек. Он знает, что мы везем в обозе, он японские галеты чует, ему хочется оленя нашего зарезать. Но моего оленя я ему не дам, а японские галеты сам съем, я их тоже люблю.
Я спросил: «А медведь наших оленей не зарежет?» Федя ответил: «Оленей он хочет зарезать. Это хочет и волк. Ты посмотри, когда стемнеет, кто идет рядом с нашей тропой по тайге». И действительно, когда стемнело, я увидел перебегающие меж деревьев тени, горящие в темноте глаза. Это были таежные волки, они следили за нашим обозом. Мне становилось страшно, и я изредка стрелял из своей винтовки. Я спросил у Феди: «Не нападут ли они на обоз на стоянке?» Федя сказал: «На стоянке они не нападут — костра боятся. Ночью они охотятся на зайцев, на белок, на всякую дичь. Надо не волков, надо медведя бояться, он будет к оленям красться, пока не зарежет хоть одну важенку. Ему нравится мой аянский олень. Но я ему не дам своего оленя», — говорил Федя и хлопал при этом рукой по прикладу своего винчестера.
Так мы двигались по звериной тропе уже восьмые сутки и на десятый день вышли на побережье Охотского моря у Тугурской губы, представляющей, собой довольно обширный, но мелкий залив, куда впадала река Тугур. Здесь на берегу Охотского побережья у устья реки собрались многие кочевые тунгусские роды, приходившие сюда для меновой торговли и для приобретения у купцов разных товаров, главным образом — свинца, дроби и пороха, необходимых для охоты.
Прежде чем выйти на побережье и появиться среди тунгусов, мы с Холкиным опять устроили совещание и решили выслать вперед несколько человек на разведку. Разведчики были опытные ребята и к утру принесли нам полные сведения о положении в районе Тугурской губы. Оказалось, что тунгусы уже давно знают о движении нашего отряда и его численности. Кроме того, мы узнали, что вдоль побережья курсируют две японские канонерки, которые держат курс на порт Аян — единственный удобный порт от Камчатки до Чумикана.
Мы с Холкиным влезли на высокую скалу и в бинокль увидели эти канонерки, которые действовали и в устье Амура и которые под давлением наших партизанских сил были оттеснены на устье Амура до Хабаровска, то есть до среднего точения Амура.
Разведчики сообщили еще, что через каждые пять-шесть миль с канонерок спускаются шлюпки с японскими матросами, которые тоже ведут разведку и ищут партизанский отряд, который вышел из Керби и должен появиться на Охотском побережье, то есть ищут нас.
Мы были поражены японской разведкой. И стали решать вопрос — можем ли мы вступить в бой с японцами на случай, если с канонерок будет попытка высадить десант. Мы знали, что канонерки бронированы от палубы до ватерлинии и пули наши этой брони не пробьют. Кроме того, на канонерках скорострельные орудия — не помню, какого калибра.
У нас же ни одной пушки не было. Бой был бы неравным, неразумным и даже бессмысленным. Да и не было известно, куда идут канонерки, и какую имеют задачу. Тут нам помогли тунгусы, которые видели японских матросов уже па берегу и каким-то образом выяснили, что канонерки идут в порт Аян, куда прибыли советские грузы. Это были товары якутского «Холбоса», то есть нашей советской кооперации, она свезла туда продовольствие на всю округу, и кроме продовольствия — дробь, порох и другие охотничьи припасы, необходимые для пушного промысла тунгусов.
Мы послали в разведку еще двух толковых ребят и самого Федю — нашего проводника, который и принес нам самые важные сведения. Он сказал, что собравшиеся в устье Тугура тунгусские роды и племена уже давно ждут нас, чтобы провести выборы в Советы и установить на побережье Советскую власть, что старики — главы родов и племен придут к нам на помощь и дадут хорошие советы.
Тунгусы собрались на морском берегу — отлогом, песчаном и сухом, на том самом берегу, где они обычно устраивают свои собрания и где молодежь в час, когда восходит над морем луна, устраивает свои танцы и скромное веселье. Мне, как политруку отряда, пришлось провести это предвыборное собрание и разъяснить тунгусам, что такое Советская власть, чего она добивается для их же пользы народной, что в Советы следует выбирать самых честных, самых умных и самых толковых, а не богатых людей, словом, выбирать тех, кто будет защищать интересы всего народа, и не только самых старых, но и способных молодых охотников. Собравшиеся слушали меня очень внимательно и сидели так тихо, что было слышно, как шумит вдали морская волна и как, покрывая этот далекий голос моря, шумит ему навстречу тайга разноголосо и необычайно широко, — и звонят вершинами гибкие сосны, и грозно шумят великаны кедры.
Тунгусы отлично поняли, что им нужно делать, кого нужно выбирать в Советы, и стали называть кандидатов. Однако, несмотря на мое разъяснение, они называли и самых богатых, имеющих по нескольку сот оленей, и даже называли имена купцов, которым они еще с прошлого года задолжали много за муку, порох и за табак. Тут мне на помощь пришли Холкин и наш проводник Федя.
Холкин, как и я, говорил, что Советская власть стоит за бедных и за честных людей, а не за богатых и не за купцов, которые обманывают тунгусов, обвешивают, обкрадывают, насчитывают разные долги, которых они даже и не делали. Советская власть наказывает за это, старается доставить без этих купцов нужные тунгусам товары — муку, хлеб, порох и свинец.
— Вот мы и спешим в Аян, — говорил Холкин, — где собраны для вас товары, чтобы враги и наши и ваши — японцы не могли их уничтожить или захватить в свои руки, тогда будет худо для вас...
— Будет худо, — сказали старики, — идите скорей в Аян. Но вы не сможете скоро идти в Аян. На ваших людях сапоги плохие.
Холкин стал спорить:
— Как это на наших людях сапоги плохие? Все солдаты носят такие сапоги!
— Нет, плохие! — упрямо твердили старики. — Пусть ваши люди снимут эти сапоги и покажут нам свои ноги.
Мы приказали отряду разуться и показать ноги. Они разулись. И тогда только мы поняли, что правы были старики. Ноги у всех были потерты, в кровавых мозолях. Мы, конечно, знали, что от потертости целые армии выходили из строя и бывали проиграны сражения. Спешно выступить в поход, чтобы дойти до Аяна раньше японцев, теперь казалось нам невозможным. Тут Федя посоветовал всем нашим людям сменить сапоги на тунгусские олочи и двинуться скорым маршем в Аян. Мы сняли сапоги, сложили их в кучу и вручили тунгусам.
Они накрыли их оленьими шкурами и сказали, чтобы мы не беспокоились: сапоги будут к осени доставлены туда, куда бы мы ни пришли... После этого женщины принесли нам целую кучу таких же олочей, какие были на ногах у нашего проводника Феди! Олочи мы набили травой, и партизаны говорили, что это замечательная обувь: легкая, мягкая, и что до Аяна в таких олочах можно «добежать бегом».
Наутро, отдохнувши за ночь, наш отряд двинулся ускоренным маршем на север, к порту Аян. Тропа, по которой нас вел Федя, была хуже, чем от Керби до Тугура. Она не была так дика и дремуча, часто выходила к берегу Охотского моря, куда сбегали с отрогов Саянских гор ручьи и речушки. Приходилось с трудом перебираться через них — кто на оленях, кто по колени в воде, иногда вода доходила до пояса, а во время прилива и до шеи. Винтовки мы держали над головой. Олени, страшась морской волны, испуганно таращили глаза, однако покорно шли на поводу. Привалы мы делали как можно реже, неустанно следя за японскими канонерками, которые шли нашим же курсом, еле видимые на горизонте.
Наконец через 10 суток ускоренного марша мы подошли к Аяну. Холкин выслал разведку во главе с Федей. Разведка принесла сведения, что в Аяне уже советская кооперация, люди знают о нашем приближении. Но все же, соблюдая предосторожность, Холкин, по правилам военного искусства, рассыпал людей в цепь, и мы вошли в советский порт, как во вражеский город. И хорошо сделали.
Японские канонерки уже стояли в Аянской бухте, довольно удобной для стоянки всяких судов. Оцепив Аян, мы вошли в дом, занятый кооперацией. Тут нас встретили радостными восклицаниями, рукопожатиями и даже объятиями». Мы тотчас же предупредили о японских канонерках, об их намерениях и планах.
Кооператоры отнеслись к этому спокойно. Оказалось, что все служащие — машинистки и счетоводы — всю ночь работали, перетаскивали товары в тайгу, где устроили потайные склады, которые не только не достанут выстрелы канонерок, но даже и сами хранители едва ли их найдут. Все будет в полной сохранности. Но все же в награду за нашу помощь и военную силу кооператоры выдали нам сладких консервов по одной баночке на человека, угостили нас чудесным чаем с сухарями, а Феде дали полный мешок дроби и пороху.
Вечером за чаем мы устроили военный совет вместе с советскими кооператорами, и было решено, что мы должны незаметно для японской разведки уйти из Аяна, чтобы канонерки не высадили десант и не истребили бы все припасы, заготовленные для голодающих тунгусов.
На рассвете мы выступили из Аяна и двинулись к предгорьям Яблонового хребта, пересекли его на самом низком перевале, который, к счастью, был известен и нашему проводнику Феде.
На перевале было уже холодно, шел снег. И было крайне пустынно: ни деревьев, ни кустарников, ни карликового стланика, зато оказалось много торфяных болот и даже довольно хорошие пастбища белого мха, съедобного для наших оленей. Это облегчило нам движение.
Вскоре мы пересекли хребет и перевалили на западный склон Яблонового хребта. Ветры с Охотского моря прекратились, появилось солнце — и двигаться стало легче.
Мы спустились по долине реки Мая — приток реки Алдана, впадающего в Лену, и пришли в тунгусское селение Нелькан. Тунгусы нам сказали, что по реке Мая можно спуститься на плотах. Только это опасная река: бурлива, порожиста, и плот может разбиться. Однако мы решили рискнуть. Плот нам помогли сделать тунгусы — опытные плотоводцы. Мы погрузили на плот все наши припасы — Фединого красавца оленя и несколько более сильных важенок. И пустились в плавание. По краям плота стояли плотовщики с длинными шестами в руках. Они направляли плот удивительно ловко, избегая камней и стремнин. Наконец выплыли на плес довольно «тихий». И Холкин объявил привал.
Мы выгрузили людей, оленей, боеприпасы и, как робинзоны, развели костер. Сразу за нашим привалом начиналась девственная, неведомая нам тайга. На всякий случай Холкин вокруг привала поставил караул. По два человека с винтовками. Решили здесь переночевать.
Тайга молчала. Глухомань — ужасная. Ни звериных голосов, ни птичьих. Олени, по своему обыкновению, стояли кружком у костра, глядя задумчиво на огонь. Только аянский олень — вожак поднимал иногда свою красивую голову и обращал свой слух не в сторону тайги, откуда можно было ожидать опасность, а в сторону реки, где уже занималась заря, высветлялись тихая вода плеса и вершины тайги. Я обратил на это внимание Холкина, и мы оба стали следить за широким плесом, откуда к нам стал долетать какой-то странный звук, похожий на шлепанье пароходных колес. Так стучат только плицы парохода по воде. И вдруг из-за поворота берега в самом деле показался небольшой пароходик с красным флагом на мачте.
— Что за черт! — воскликнул Холкин и объявил тревогу.
Весь наш отряд сгрудился на берегу, держа на всякий случай винтовки в руках. Но в это время пароходик перестал шлепать, бросил якорь и спустил на воду две шлюпки. В них сидели советские матросы в бескозырках, вооруженные кавалерийскими карабинами.
Шлюпки подошли к берегу. Матросы выскочили и двинулись к Холкину, который стоял на самом берегу.
— Кто такие? — спросил один матрос, видно младший командир.
Холкин ответил:
— Отряд амурских партизан, посланный на побережье Охотского моря.
— Вас-то мы и ищем. Капитан парохода приказал пригласить вас в свою каюту на военный совет. Садитесь в шлюпку.
Мы с Холкиным сели в шлюпку и через несколько минут уже входили в капитанскую каюту. Капитан, человек пожилой, встретил нас необыкновенно приветливо, усадил за стол, приказал принести чаю, сахару, матросских сухарей и стал расспрашивать, как мы шли, что делали на Охотском побережье, не видали ли японских судов и не заходили ли они в Аянский порт.
Мы рассказали капитану все и сообщили, что японские канонерки стоят в Аянской бухте и угрожают обстрелять кооперативные склады товаров, заготовленные на нужды тунгусских стойбищ. Канонерки бронированы до ватерлинии, калибр орудий нами не выявлен. Но, во всяком случае, из трехдюймовок их не пробить.
— А из шестидюймовок? — спросил капитан. — Шестидюймовки у нас есть. Вопрос, как их перебросить в Аян.
— Это очень трудно, — ответили мы. — На перевалах хребта трясины и болота, лесу нет, подкладывать под колеса нечего.
— Как-нибудь сообразим, — сказал капитан. — Матросы у нас народ крепкий. Ведь перетаскивал Суворов свои пушки через Альпы.
Мы согласились с капитаном и сказали, что шестидюймовки. конечно, вещь серьезная и японцы, пожалуй, уйдут совсем.
Капитан закрыл совещание и сообщил, что якутский областной военком просил его при встрече с нами передать нам благодарность и отдать в наше распоряжение весь пароход, чтобы мы могли без задержки прибыть в Якутск. Капитан представил нам своего опытного лоцмана, который будет нас сопровождать до Лены, то есть до самого Якутска. И сказал, что мы можем грузить на пароход все наше походное имущество, людей, оружие, продовольствие и весь обоз. Пароход он подведет к удобному берегу и сам будет следить за погрузкой.
Грузиться мы начали на другой день утром, людей погрузили хорошо и легко. Оленьих важенок с собой мы не взяли, они были крайне истощены, и брать их с собой не имело смысла. Проводник Федя взялся добежать до ближнего тунгусского стойбища и передать важенок на отгул для поправки.
К началу погрузки Федя уже вернулся и потребовал, чтобы его красавца оленя тоже погрузили на пароход. А без этого оленя он на пароход не сядет. Капитан был тронут такой просьбой — и дружбой человека и животного: он приказал для оленя спустить сходни прямо на берег. Федя обнял оленя за шею, и тот доверчиво последовал за ним на палубу парохода. Но когда пароход убрал сходни и Капитан дал свисток к отходу, олень так испугался, что хотел прыгнуть за борт. И только Федя каким-то способом, известным только ему и оленю, успокоил животное. И хотя олень стоял смирно, но еще долго дрожал всем телом.
Пароход шел по реке хорошо, не встретив порогов и мелей. Лоцман попался отличный, и плавание наше по дикой реке прошло благополучно, а когда мы из Майи вошли в реку Алдан — приток Лены, то и совсем стало спокойно. Отряд наш отдохнул, люди подкормились, окрепли, повеселели, и мы благополучно прибыли в Якутск. В Якутске я и Холкин немедленно явились к якутскому военкому доложить о своем прибытии и сделать подробное донесение о нашем походе и выполнении задания партизанского штаба. Военком оказался молодым человеком, подобранным, смелым, как и полагается военному человеку. Он принял наше донесение очень доброжелательно, с большим вниманием и выразил благодарность за прекрасно выполненное боевое задание. И просил передать эту благодарность всему отряду. Он просил узнать у личного состава отряда — желают ли они влиться в ряды Красной Армии или пожелают отправиться на фронт против белополяков, где сейчас шли упорные бои.
Мы вечером сообщили об этом предложении партизанам, и, к нашему удивлению, почти все заявили о своем желании отправиться на Польский фронт. В том числе и Холкин. А Федю с его оленем военком обещал отправить в его родное стойбище. Человека два или три остались в Якутске в составе Красной Армии.
Назавтра мы доложили об этом военкому и попросили принять от нас все наши боеприпасы и оружие. А он нам сообщил, что из Керби уже запрашивали — прибыл ли в Якутск партизанский отряд, вышедший из Керби в начале мая, так как связь с отрядом в пути была невозможна. Военком сообщил, что ревком уже ответил, что отряд благополучно прибыл в Якутск, полностью выполнив задание. А назавтра ко мне пришел посыльный из ревкома и вручил приказ немедленно явиться в ревком для доклада.
Я сделал доклад председателю якутского ревкома, фамилия его была Амосов (3). Он доклад одобрил и тотчас поручил мне новое задание, назначив меня членом редколлегии якутской газеты «Ленинский коммунар» (так как я в Керби редактировал крошечную газетку «Красный клич»).
Попрощавшись со всеми друзьями, я отправился в редакцию «Ленинского коммунара» — она помещалась в хорошем деревянном доме. Редакция была во втором этаже, а в первом — типография, оборудованная довольно хорошо. Я поднялся по деревянной лестнице на второй этаж.
В редакционной комнате я увидел большие кипы газетной бумаги, заготовленной для издания «Ленинского коммунара», а на этих кипах спящего человека, укрытого с головой листами газетной бумаги. Мой приход разбудил его, он скинул с себя старые газеты и поднялся на ноги.
Я сказал ему, что ревком назначил меня членом редколлегии и я пришел познакомиться с предстоящей работой. Он тоже представился, как уже старый член редколлегии, и назвал свою фамилию — Бек, а по имени Виктор (4). Он был среднего роста и, должно быть, хилого сложения. Очевидно, близорук, носил очки, которые не снимал, даже когда спал. Черты лица у него были мягкие, приятные, характерные для русского интеллигента. Я спросил, как он может спать в очках? Он только махнул рукой — все равно я плохо вижу, и в очках, и без очков. Одно могу сказать — удивительная вещь газетная бумага, она еще не оценена вполне разными учеными. Топят нашу редакцию неаккуратно, а между прочим, я под газетной бумагой не чувствую никакого холода. Мне тепло, мягко, одним словом, прекрасно. Будем работать дружно, и я надеюсь, что нас оценит ревком. Кстати сказать, Амосов дельный человек, образован — он историк — и охотно помогает в газетной работе.
Мы стали толковать о предстоящей работе, но вскоре явился от Амосова посыльный и сообщил, что Амосов просит меня прийти к нему домой. Он жил недалеко от ревкома в небольшом деревянном доме... У него было чисто, тепло, всюду висели оленьи коврики «камаланы», какие были у нашего проводника Феди. В комнате, куда привел меня Амосов, за большим столом, накрытым скатертью, неподвижно сидела женщина, ее поза выражала печаль и какое-то угнетенное состояние духа. Я думал, что Амосов представит меня ей, но он незаметно сделал мне знак — ни о чем ее не спрашивать, потом отозвал меня в угол и шепотом сказал, что это его жена (5) — милая женщина, но больна черной меланхолией. Я в первый раз видел «черную меланхолию» и силился представить себе — какое же страшное горе гнетет эту больную душу! Это осталось для меня загадкой.
И вспомнил неожиданно строку из Бунина: «На севере отрадна безнадежность». Я спросил у Амосова, как она попала в Якутск. Он сказал, что познакомился с ней, как с политической ссыльной, что он любит ее, жалеет и бережет. Амосов все больше и больше нравился мне. Хотя он и был председателем ревкома, то есть первым человеком в целом крае, в обращении был прост. Амосов обещал помогать нам в редактировании газеты и пригласил меня и Виктора Бека завтра на обед, пообещал нас хорошо покормить.
Я передал его приглашение Беку. И назавтра мы вместе явились к Амосову на обед.
Хозяин усадил нас рядом с собой и радушно угощал мясом, пельменями и творогом. Жены его за обедом не было. Подавала к столу кухарка, видно очень расторопная женщина. Не скрою — я ел с жадностью, так как давно уже не сидел за столом на стуле и не ел с тарелки, пользуясь ложкой, вилкой и ножом. Вина за столом не было, не было и разбавленного спирта — обычного для Севера питья. Жареное мясо показалось вкусным, а суп не понравился — он был темного цвета, немного пенистым, причем пена тоже была темная. Тем не менее мы наелись до отвала. И когда уходили к себе в редакцию, Амосов, улыбаясь, спросил — а знаете ли вы, что ели мясо молодого жеребенка? Я пришел в ужас, так как конину ел впервые и думал, что никогда не буду есть, так как евреям конина запрещена была законом. Однако ничего не случилось, жеребятинка прошла благополучно. Мы вернулись домой с Беком сытые и довольные, зарылись в газетную бумагу и проспали до утра блаженным сном.
Но утром нас, кроме забот о газете, стали обременять обычные заботы одиноких мужчин. Как напиться чаю, где взять воду, как развести огонь в камельке, как они называли камин, который делался на высоте груди человека. Этот камелек давал лучевое тепло и обогревал комнату, что было очень кстати — в Якутске начались уже ранние морозы. Лена стала быстро замерзать, а так как у этой реки течение медленное, то лед становился все толще и толще. И жизнь наша в этом холодном городке тоже становилась все тяжелей, хотя и казалась мне весьма своеобразной. Воду нам доставляли в виде квадратных плиток льда, которые складывали в сарае, словно кирпичи. И ходил за водой я не с ведром, а с топором, откалывал от льдин куски, складывая их в свой солдатский котелок. Потом ставил котелок на огонь, и мы пили с Беком чай, обычно кирпичный. Иногда Амосов присылал нам кусок конины, мы варили из него суп или жарили мясо в камельке.
Морозы доходили до 50 градусов. Я впервые узнал такие морозы, воздух становился неподвижным, над головой стоял плотный туман, такой густой, что дым из труб не в состоянии был подняться над крышей дома и стекал по скату крыши мутно-белесой массой. Плюнуть на улице было невозможно, плевок превращался в лед, не долетев до земли, К счастью, я был одет тепло. Кроме моего красноармейского полушубка, на мне было теплое белье, валенки, шапка-ушанка. Но Бек был упрям и не хотел заводить теплой одежды, собираясь прожить якутскую зиму в своих сапогах и фетровой шляпе. А чтобы у него уши не отвалились от мороза, он связывал поля шляпы шнурком, опуская их на уши. И как безумный продолжал ходить в сапогах, которые становились от мороза твердыми, как стекло, и чуть ли но звенели при ходьбе. Так мы уже прожили половину зимы.
Однажды в редакцию пришел Амосов и сказал, что ревком посылает меня в качестве корреспондента па Сибирский съезд работников печати. И чтобы я немедленно готовился к отъезду. Амосов тоже едет в командировку в Москву и проводит меня до тогдашнего центра Сибири города Ново-Николаевска (6).
На другой день Амосов пришел уже готовым к отъезду с подорожными на меня и на него. При этом он устроил так, чтобы мы ехали до Иркутска в ревкомовском возке, который он подготовил для такой длительной поездки.
От Якутска до Иркутска по Ленскому тракту считают около 3 тысяч верст, причем через каждые 30 верст есть почтовые станции — «станки», как их называют в Якутии. Он попросил меня раздеться, чтобы проверить — хорошо ли я одет в дорогу. На мне, кроме моего красноармейского полушубка, валенок и шапки-ушанки, ничего не было. Он отверг всю мою красноармейскую одежду и дал мне ровдужные, то есть сшитые из оленьей замши штаны и рубаху, торбаса с чулками из собачьей шерсти. Одежда эта тепла, легка и удобна. И еще он сказал, что в возке заготовлено продовольствие на всю дорогу, чтобы я ни о чем не беспокоился.
Я вышел вместе с ним на улицу посмотреть возок и лошадей. Возок был просторный, с крытым верхом, наподобие тех возков, какие описывал Гоголь. Удивили меня лошади, впряженные в возок. Это были небольшие, крепкие лошадки, похожие на шведских пони, но обросшие, точно пуделя, густой и длинной шерстью почти до колен.
Мы уселись, и лошадки понесли нас очень быстро.
Первая станция, куда нас примчали наши мохнатые лошадки, называлась, как мне помнится, Марха 1-я. Это была довольно благоустроенная деревня, населенная сектантами из скопцов, которых ссылали еще во времена Никона па далекий Север в надежде, что они тут погибнут и исчезнут. Однако они не исчезли и не погибли, а твердо держались своего сектантства.
По внешности это был довольно рослый народ, аккуратно и тепло одетый, с явными признаками скопчества — без всякой растительности на одутловатых лицах, цвет кожи смуглый, с нездоровой желтизной. Голоса тихие, речь спокойная, настороженная, но полная уважения к себе и другому.
На станции в помещении курить не разрешалось, скопцы сами не курили, не ругались, не разрешали клясться, но слово держали твердо и были трудолюбивы и усердны в земледелии.
Мне было крайне неприятно пробыть на этом стане даже полчаса, и я стал торопить Амосова с отъездом.
Уже в возке он мне рассказал, что если бы скопцы не пришли в Якутск и не принесли немного ржи и овощей, то в городе было бы много случаев голодной смерти.
А длинношерстные лошадки мчали нас все дальше и дальше на юг, почтовые станции мелькали одна за другой, и под вечер мы приехали на станцию Ат-Даван. Здесь мы хорошо отдохнули и погрелись. Я сел на какой-то чурбан перед самым камельком и с наслаждением грел озябшие руки.
— А ты знаешь, на каком чурбане ты сидишь? — спросил неожиданно меня Амосов.
Я удивился и внимательно оглядел чурбан: чурбан как чурбан, должно быть лиственный, высотой с обыкновенный венский стул. Я недоуменно взглянул на Амосова. Он многозначительно улыбнулся и сказал:
— Так знай, мой друг, что ты сидишь на том самом чурбане, на котором сидел писатель Короленко, когда отправлялся в Якутскую ссылку.
Я вскочил. Неужели здесь сидел Короленко! Мой любимый писатель сидел на этом самом чурбане?! Я вспомнил рассказ «Сон Макара», который я читал тысячу раз и тысячу раз плакал над судьбой бедного Макара. Воспоминание было так живо, что я стал оглядываться на толпящихся в помещении якутов, пытаясь угадать, кто из них тот самый Макар. Но все Макары лежали на полу, не пьяные, а больные сыпным тифом... Одни кричали что-то, другие бредили. Амосов отозвал меня и сторонку и сказал, что он беспокоится, как бы я не заболел тифом, предложил мне снять верхнюю и нижнюю рубахи, и когда я разделся, он повесил мне на голую грудь мешок, наполненный нафталином, так как паразиты не терпят этого запаха.
И вскоре мы отправились дальше, по льду замерзшей Лены.
Почтовые станции стали попадаться чаще, а на полустанках было чище, меньше тифозных. Суровый Север понемногу отступал, деревни встречались побогаче, народ приветливей.
Был близок Иркутск. На одной из стоянок Амосов предложил мне пройтись с ним немного в сторону от тракта, и когда мы отошли, он показал на группу каких-то строений, похожих на бараки. Это начало Ленских приисков. Тут я только обратил внимание на ведерко из белой жести, которое Амосов таскал с собой в поездке.
— Что это за ведерко? — спросил я у него.
— А ты загляни и узнаешь,— ответил он.
Я приподнял крышку: ведерко было наполнено маслом.
— Правильно — это топленое масло, которое я накопил из молока моей единственной коровки, — сказал Амосов, — Ведь я крестьянин-бедняк, а стал председателем ревкома.
— А зачем тебе масло?
— Я его везу в подарок Ленину и расскажу ему о нашей далекой стороне и подарю ему это масло. Пусть ест на здоровье!
«Неужели ты думаешь, что Ленин не имеет масла и что вся Россия не накормит вождя революции?» — подумал я, не став спорить с Амосовым.
Мы вернулись к нашему возку и поехали дальше, мимо Бодайбо, мимо Ленских приисков, с их бараками для рабочих, с их удобными домами для бывших горных инженеров и коттеджами для старых хозяев приисков и прочего начальства.
За Ленскими приисками начались более населенные места, попадались монголо-бурятские селения, с высокими шестами, на которых были надеты конские черепа. Оказалось, что эти шесты с черепами, по поверью монголов и бурят, охраняют человека и что жилье от злых духов.
Мы приближались к Иркутску. Проехали последнюю станцию Качуг, и возок наш остановился у Иркутского вокзала. Я вылез из возка и стоял неподвижно несколько минут, вдыхая запах каменного угля, паровозного дыма и еще чего-то, давно забытого.
Но Амосов потащил меня скорее на вокзал, опасаясь, как бы мы не опоздали па поезд, который шел в Ново-Николаевск. Он оставил меня на скамье с вещами и побежал за билетами. Я сидел на скамье и с великим изумлением глядел на асфальтовую платформу, на стальные рельсы путей, на высокие вагоны, на пыхтящий где-то паровоз.
После стольких месяцев скитаний по таежным тропам, мимо волчьих ям, мимо медвежьих лежбищ, в непроходимой чащобе, когда мне казалось, что я больше никогда не увижу цивилизованного мира, я вдруг увидел, что мир еще не исчез окончательно и я вновь могу пользоваться его благами. Это сознание так меня растрогало, что я тихонько заплакал, как дитя, узнавшее издали свою родную мать.
Но тут прибежал Амосов с ведерком и потащил меня в вагон.
— Билеты уже у меня. Лезь на самую верхнюю полку и возьми с собой мое ведерко.
Я вошел в вагон и забрался на самую верхнюю полку, которая предназначалась для вещей, поставил ведерко Амосова у себя в головах и в изнеможении лег на живот, как это делают тунгусы-охотники.
После вольных просторов девственной тайги, после болот и рек давно забытый рокот стальных колес, стук рельсов — все это слилось вместе, и я заснул.
Был день, и была ночь — не помню, сколько часов я проспал, иногда ненадолго просыпаясь, не совсем понимая, где я, слышал гудки паровоза и ощущал запах вагонной пыли, смешанной с запахом топленого масла от ведерка, и опять засыпал. Наконец с трудом проснулся от голоса Амосова, который дергал меня за ногу и даже брызгал в лицо водой. Я слез с полки, отдал Амосову ведерко и как очумелый сел на нижнюю скамью.
— Скоро приедем, — заторопил меня Амосов, — еще один пролет, и будет Ново-Николаевск. Тебе слезать. В городе сразу же иди в редакцию «Советской Сибири». А мне дальше, до Москвы.
Он обнял меня, как отец, и добавил:
— Будь благоразумным и привыкай к новой жизни. Я полюбил тебя, как родного сына. — И мне показалось, что в его монгольских глазах, чуть прикрытых толстыми, припухшими веками, блеснула скупая слеза.
Я поцеловал его с почтением и нежностью и сказал:
— Прощай! Спасибо, дагор (по-якутски — друг). Ты счастливый человек, ты увидишь Ленина, будешь беседовать с ним и скажешь ему, как мы любим его и думаем о нем.
Тут поезд стал замедлять ход и остановился. Я схватил свою солдатскую сумку и вышел на перрон вокзала. Постоял, посмотрел вслед удаляющемуся поезду и тихо побрел по улицам незнакомого города. Он оказался довольно большим, с широкими тротуарами, обсаженными тополями. По дома были невысокие, чаще одноэтажные и двухэтажные, построенные прочно, по-сибирски...
На одном из домов я увидел вывеску: «Редакция газеты «Советская Сибирь». Я поднялся на крыльцо, постучал в дверь. Никто не откликнулся. Я вошел в дом.
В первой комнате стоял длинный стол, покрытый кумачовой скатертью. На столе большая стопа отличной писчей бумаги и деревянный стакан с карандашами. Я заметил, что один карандаш, хорошо отточенный, лежал отдельно. Должно быть, им недавно писали. Я взял в руки карандаш, стал его рассматривать. Сделан он был отлично, дерево — настоящий кедр, графит черный, жирный. Приятно таким карандашом писать. Тут я вспомнил, что еще в поезде, лежа на верхней полке, у меня в голове стали роиться и складываться стихотворные строчки о моей милой Белоруссии, где я родился, учился и вырос в бедной еврейской семье.
Родину свою я любил, стихи писал еще в школьные годы в реальном училище и даже печатал их в ученическом журнале «Труд ученика».
Чтобы не забыть стихи, сложившиеся в дороге, я взял лист бумаги и понравившийся мне карандаш, сел и стал записывать строки.
Они начинались так: «Привет тебе, край мирных белорусов, край фольварков, панов, картофельных полей...» Записав эти строки, я машинально сунул понравившийся мне карандаш в карман... И вдруг у себя за спиной услышал чей-то короткий добродушный смешок.
— Ты что это сунул в карман?
Я тотчас вынул карандаш и положил его снова на стол возле чистой бумаги и вскочил на ноги.
За моей спиной стоял человек, пожилой, с проседью в волосах, аккуратно одетый, с приятным, умным, хорошо выбритым лицом и внимательным взглядом светло-серых глаз.
— Ты кто такой? — спросил он меня. — Что делаешь?
Я назвался и сказал, что послан корреспондентом из Якутска на краевой съезд работников печати.
— Ах, так это ты Фраерман? Это ты вышел с партизанским отрядом из Николаевска-на-Амуре в Якутск? Очень интересно. И еще пишешь стихи... Это тоже хорошо. Будем с тобой вместе работать в нашей газете «Советская Сибирь». Я ее редактор Емельян Ярославский (7). Слышал такое имя?
Я взволнованно ответил:
— Как же не слышал! Знаменитая фамилия. Вы же секретарь Сиббюро ЦК.
Ярославский тихо засмеялся:
— Так точно, дорогой товарищ. Будем вместе работать. Я — редактор, ты — секретарь. Согласен?
Я опешил:
— Очень большая газета. Боюсь провалиться.
Он добродушно хлопнул меня по плечу:
— Научишься! Отдохни, а потом садись и готовь вырезки из областных и районных газет. Вот тебе ножницы.
И он протянул мне большие редакционные ножницы.
— А здесь все краевые и областные газеты нашей Сибири и клей. Не робей, воробей! А передовую я напишу у метранпажа на верстаке... А какие стихи ты пишешь? Можешь мне сейчас показать?
Я смущенно протянул ему лист с написанным мною стихотворением.
Он взял стихи и ушел в другую комнату. Все было для меня потеряно... Я ужаснулся. Сейчас он высмеет меня и мои стихи, которые я сложил в вагоне на верхней полке...
Но он скоро вернулся и, хлопнув меня по плечу, сказал:
— Ты еще дурачок. А стихи твои хорошие, мне понравились. Я их напечатаю на первой полосе.
— Не надо! — взмолился я.— Пожалуйста, не надо!
— Надо! — ответил Ярославский твердо. — Обязательно напечатаю. А теперь поработай ножницами и клеем, готовь вторую и третью полосы.
И он снова исчез в своем кабинете. Я был взволнован всем, что произошло, и с ужасом ждал завтрашнего номера газеты.
Ярославский временно устроил меня в помещении редакции, где я и переночевал. Наутро я с трепетом развернул газету и увидел свои стихи на первой полосе, на видном месте. Я был, конечно, польщен, но вместе с тем страх не покидал меня, страх, который, вероятно, знаком каждому начинающему стихотворцу. Особенно я боялся местных — а их было много — поэтов. Но все обошлось тихо. Я побывал на съезде, никто меня не высмеял. Напротив, когда я вернулся в редакцию и встретился с Ярославским, он шутя сказал:
— Ну что? Все еще боишься?
— Боюсь, — ответил я.
— Ну и бойся на здоровье. Это лучше, чем куражиться. И еще гонорар сейчас получишь. Радуйся.
Он ушел в свой кабинет и вскоре вернулся, принес целую пачку денег.
— Вот твой гонорар. Купи себе па базаре теплые сапоги и не покупай колбасы. Она вся из конины. Налегай на хлеб и масло. Это безопасней для голодного человека. Я ведь тоже много голодал, знаю эти чувства.
Мы разошлись и занялись своей работой.
Через несколько дней Ярославский пришел в редакцию несколько озабоченный и на мой вопрос — чем он встревожен, сказал:
— Харбинские белогвардейские газеты перепечатали твое стихотворение — «Родина». Я вот думаю, нужно ли нам на это как-нибудь реагировать? Поговорю сегодня с Марьей Ильиничной, позвоню ей вечером в «Правду», в Москву (8).
Вечером он добился прямого провода, поговорил с Марией Ильиничной, и она сказала:
— Очень хорошо. Пусть они знают, как большевики любят свою Советскую Родину.
Ярославский нравился мне все больше и больше. Какая-то удивительно благородная простота была в нем, располагающая к нему. Но больше всего удивляла меня его работоспособность, талантливость настоящего газетчика, быстрота и ораторский талант — я слушал его доклад на съезде, где впервые видел настоящего большевика, политического деятеля крупного масштаба.
Ярославский все больше уделял мне внимания и, как мне казалось, привязывался ко мне душевно. Я начинал его, и любить, и уважать как талантливого старшего товарища.
Он был полон всяких журналистских планов, литературных интересов и делился со мной своими планами. Мечтал об организации сибирских литературных журналов, об организации союза сибирских писателей вокруг журнала.
Мне эта идея очень понравилась.
Он поручил мне поговорить с находившимися сейчас на съезде поэтами, литераторами, выяснить их планы и возможности.
Я с охотой взялся за это дело. Оказалось, что дело это не такое простое... Все же удалось сколотить небольшую группу сибиряков: из них помню Урманова, Зазубрина, Вивиана Итина (9) — поэта с уклоном в формализм, Пермитина, Караваеву, Сейфуллину Лидию Николаевну, поэта Мартынова, жившего в Омске, Исаака Гольдберга, жившего в Иркутске, Ивана Ерошина и др. Я доложил обо всем этом Ярославскому, и он со свойственной ему энергией взялся за организацию журнала, который и стал вскоре выходить. Это были «Сибирские огни».
При всей своей занятости Ярославский уделял много времени и журналу.
Однажды Ярославский пришел в редакцию раньше обычного и, здороваясь, сказал:
— Ну, Фраерман, есть интересные новости для газеты, готовься поработать как следует.
Я заинтересовался, вскочил со стула, ожидая, что он скажет, какие новости нас ожидают. Но то, что сказал Ярославский, превзошло все мои ожидания. Он торжественно сказал:
— Наши пограничники захватили в Монголии барона Унгерна (10) и везут его сюда, к нам, в Ново-Николаевск. Будем его тут судить. В центре Сибири.
Я был поражен. Как это удалось схватить такого знаменитого, прожженного бандита!
— Неужели везут сюда? Живого? — спросил я удивленно.
Ярославский засмеялся:
— Везут сюда, скоро привезут. И суд будет по всем правилам. Я буду общественным обвинителем, а ты будешь давать отчеты о процессе в газеты.
— Но я ведь не знаю стенографии, как же давать отчет?
— Обойдемся без стенографии, по-репортерски. Ты же газетчик, черт возьми, что мы, хуже буржуазных репортеров?! Заготовь побольше бумаги и карандашей. Унгерна могут привезти завтра, и тогда послезавтра начнется первый день процесса. Обвинитель — тов. Павлуновский (11) — ученик Дзержинского и председатель нашего ЧК. Держись, Фраерман. Вся Сибирь и Россия Советская будут читать твои отчеты. Покажем, что такое советские журналисты.
— Покажем, — повторил я слабеющим голосом. Я понял, что Ярославский хотел подбодрить меня.
На душе у меня было тревожно. Всю ночь я не мог заснуть.
«Справлюсь ли?» — думал я с тревогой. Обычно записывал я довольно быстро, но ведь это все были отчеты о простых событиях, а тут процесс над знаменитым бандитом! Жестоким и отчаянным, как я слыхал, головорезом.
Наступило утро. Я прибежал в редакцию очень рано... Однако Ярославский был уже там. Должно быть, он тоже беспокоился. Ему ведь предстояло держать речь общественного обвинителя. Он обдумывал или, может быть, повторял и проверял мысли; Шагая из угла в угол по комнате и поминутно заглядывая в свои записи; куда были внесены все материалы обвинения.
Ровно в половине десятого утра мы пришли в здание суда. Суд происходил в обыкновенном доме на тихой улице, недалеко от городской тюрьмы. Дом, где происходил процесс, был выстроен в полтора этажа. В первом этаже, очень просторном, были поставлены обыкновенные канцелярские столы на некотором возвышении для прокурора и общественного обвинителя.
Председательствовал Павлуновский.
Я сидел спиной к открытому окну, за которым все время навстречу друг другу ходили с винтовками часовые с примкнутыми штыками. Для обвиняемого было отведено отдельное место, где тоже стоял часовой.
Павлуновский приказал привести обвиняемого.
И вот в дверях появился барон Унгерн в сопровождении часового.
Я с любопытством смотрел на знаменитого отчаянного главаря огромной банды белогвардейцев, причинившей нам в пределах тогдашней Монголии значительный урон.
Унгерн вошел в помещение суда спокойно, ни страха, ни особого волнения, ни тем более смущения в нем не было заметно. Скорее, видна была во всей фигуре усталость и даже покорность судьбе.
Меня поразила его одежда. На нем был розовато-золотистый монгольский халат, расшитый золотом и серебром, подаренный Унгерну самим Далай ламой, и подпоясан желтыми шелковыми поводьями — тоже подарок Далай ламы, заместителем которого (Панча лама) являлся Унгерн.
Внешность Унгерна показалась мне незаурядной — стройная гибкая фигура, широкие плечи, узкая талия, лицо подвижное, но спокойное, зеленоватые, очень зоркие, как у хищной птицы, глаза, рыжеватые, как у прибалтийцев, волосы.
Он остановился перед столом прокурора и, опустив голову, ожидал, что ему скажут.
Павлуновский спросил, не имеет ли Унгерн каких-либо жалоб па свое пребывание в тюрьме. Унгерн сказал, что претензий у него нет, только плохо, что не дают папирос.
Павлуновский открыл ящик стола и предложил ему пачку хороших папирос в коробке, на которой были изображены монгольские борцы...
Унгерн поблагодарил и спросил — может ли он папиросы взять с собой в камеру. Павлуновский кивнул головой, и Унгерн с радостью сунул пачку в свой халат за пазуху.
Затем начался допрос. Вел его Павлуновский очень корректно, соблюдая все юридические правила и судебные тонкости.
Я посмотрел на лицо Унгерна и вдруг заметил, что его зоркие, хищные глаза напряженно устремлены на открытое окно, где не видно было в этот момент шагающих часовых... Я внимательно смотрел на Унгерна и заметил, что его гибкая фигура чуть согнулась, словно готовясь к прыжку в окно. Может быть, он решил, что лучше быть убитым за попытку к побегу, чем быть убитым на тюремном дворе... Я схватился за край своего стола, чтобы в момент его прыжка опрокинуть стол и этим помешать. Я взглянул в окно и увидел: два штыка часовых опять сомкнулись. Момент был упущен. А может быть, это мне только показалось? Но когда я снова посмотрел на лицо Унгерна, то поразился, как оно вдруг изменилось буквально за несколько мгновений. Черты лица словно опустились, лицо стало мертвенно-тусклым. Видно, он уже чувствовал себя мертвецом...
Допрос был окончен. Павлуновский велел увести подсудимого. И на этом первое заседание суда кончилось. Я начал писать отчет для газеты. Суд, насколько я помню, шел несколько дней, и мои отчеты о процессе появлялись в «Советской Сибири» (12).
А между тем время шло к осени. Приближался республиканский съезд работников печати. Я хорошо сработался с Емельяном Ярославским, и, как мне казалось, он душевно привязался ко мне. На съезд журналистов в Москву мы поехали вместе. Была уже настоящая зима.
В Москве я был впервые. Шел 1921 год. В Москве Ярославского оставили в ЦК РКПб. Ярославский и тут оказал мне помощь — он познакомил меня на съезде с директором РОСТА т. Долецким Яковом Генриховичем (13) и рекомендовал ему взять меня на работу как толкового газетчика. Долецкий охотно согласился, так как нуждался в газетчиках.
И я остался в Москве в аппарате Российского телеграфного агентства, с чего и начался уже новый — московский период моей жизни.
/Жизнь и творчество Р. Фраермана. Москва. 1981. С. 146-168./
ПРИМЕЧАНИЯ
* 1). Село Керби было основано в 1870 г., в 1939 г. его переименовали в Село имени Полины Осипенко, в честь летчицы, совершившей в составе экипажа беспосадочный перелет Москва -Дальний Восток, завершившийся на территории района. Расположено на реке Амгунь.
* 2). 1 августа 1850 г. Г. И. Невельским основан первый на Амуре пост - Николаевский. Число первых его жителей составило 6 человек. Первым строением стала «якутская изба-ураса». Николаевск-на-Амуре (до 1926 - Николаевск) - административный центр Николаевского района Хабаровского края.
* 4). Вадим Ильич Бик родился в еврейской семье Ильи Давидовича Бика, который умер 4 марта 1921 г. в Якутске. Вадим был ответственным секретарем газеты «Красный Север» (до 6 июня 1920 г. газета называлась «Якутская правда»), 12 сентября 1920 г. газета была переименована в «Ленский коммунар», затем в «Автономную Якутию», «Социалистическую Якутию», «Республику Саха», «Якутию». «Бик Виктор Ильич, 1888 г. р., уроженец г. Балаганска Иркутской области, еврей. Гр-н СССР, инструктор отдела комплектации Якутской национальной библиотеки, проживал в г. Якутске. Арестован 17. 10. 38 УГБ НКВД ЯАССР по ст.ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. Постановлением УГБ НКВД ЯАССР от 21. 03. 39 дело прекращено на основании ст. 204 УПК РСФСР. Заключением Прокуратуры РС(Я) от 24. 04. 2000 по Закону РФ от 18. 10. 91 реабилитирован. Дело № 1468-р. /Бик Виктор Ильич. // Книга Памяти. Книга – мемориал о реабилитированных жертвах политических репрессий 1920 - 1950-х годов. Т. 1. Якутск. 2002. С 29-30./
* 3-5) Раиса Израилевна Цугель - родилась 26 октября 1902 года в селе Подымахино Иркутской губернии в семье Израиля Ароновича Цугель, направленного на службу в армию из 1-го Нахарского наслега Восточно-Кангаласского улуса, куда семейство ссыльнопоселенцев Цугель в 1883 году прибыло на поселение. После окончания армейской службы все семейство вернулось в 1-й Нахарский наслег. В 1911 году семье было разрешено поселиться в Якутске. Рая принимала участие во всех гимназических мероприятиях, посещала различные кружки, в том числе и кружок «Юные социал-демократы», которым руководил Миней Губельман (Ярославский), а потом и «Рассвет», активным участником которых был юный Максим Кирович Аммосов, который родился 10 (22) декабря 1897 г. в Хатырыкском наслеге Намского улуса Якутского округа Якутской области. После Октябрьской революции Раиса Израилевна работала агитатором городской молодежи, бойцом ЧОНа, была медсестрой в красногвардейском отряде. Она была первым (1920 - август 1921) секретарем Якутского губкома комсомола РКСМ. В 1921-1922 гг. - секретарь Якутского городского комитета РКП(б) по работе с молодежью. В 1922-1923 гг. - слушательница Курсов имени Я. М. Свердлова при ЦК РКП(б). 2 октября 1923 г. Максим Аммосов и Раиса Цугель поженились, у них родились дочери - Аэлита, Яна и Лена. В 1923-1932 гг. Раиса заведующая Организационным отделом Якутского областного комитета РКП(б); ответственный секретарь Ленского окружного комитета РКП(б); заведующая Якутской школой советского и партийного строительства. [Максим с марта 1917 - секретарь Исполнительного бюро Якутского комитета общественной безопасности; март 1918 - март 1920 - в ссылке в Сибири, находился на подпольной работе в Томске, Иркутске, Челябинске; март 1920 - уполномоченный Сибирского бюро ЦК РКП(б) по созданию Якутского областного комитета РКП(б) и Сибирского революционного комитета по организации органов советской власти в Якутии; май 1920 - август 1921 - председатель Якутского районного - губернского революционного комитета; июнь 1920 - председатель Якутского районного - губернского организационного бюро РКП(б); октябрь 1921 - июнь 1922 - заведующий Якутской секцией при губбюро РКП(б), командирован в Москву по вопросу об автономии; июнь 1922 - декабрь 1922 - ответственный секретарь Якутского областного организационного бюро РКП(б); январь 1923 - март 1923 ответственный секретарь Якутского областного комитета РКП(б) март 1923 - август 1923 - народный комиссар торговли и промышленности ЯАССР; август 1923 - июль 1925 - постоянный представитель ЯАССР при Президиуме ВЦИК в Москве; июнь 1925 - август 1928 - Председатель Совета народных комиссаров (СНК) ЯАССР; март 1927 - август 1928 - председатель ЦИК Якутской АССР; август 1928 - сентябрь 1930 - ответственный инструктор ЦК ВКП(б); сентябрь 1930 - февраль 1932 - слушатель теоретическом отделении Аграрного Института Красной профессуры (окончил 2 курса).] В 1927 году Раису направили учиться в академию Коммунистического воспитания имени Крупской. В 1930 г. она окончила историческое отделение Академии Коммунистического Воспитания имени Н. К. Крупской. С 1930 по 1932 гг. была слушателем аспирантуры по истории Запада при Институте Красной профессуры, работала пропагандистом РК партии на фабрике имени Сакко и Ванцетти. [18 марта 1937 года по указанию ЦК ВКП(б) Аммосов приехал в столицу Киргизии, город Фрунзе, где проходил VIII пленум Киргизского обкома. 22 марта он был избран 1 секретарем Киргизского ОК ВКП(б). В эти дни завершил свою работу V Чрезвычайный Всекиргизский съезд Советов, на котором под непосредственным руководством Аммосова была принята Конституция Киргизской ССР. В июле 1937 г. на I съезде КП(б) Киргизии Аммосов избран 1 секретарем Центрального Комитета. март 1932 - май 1932 1-й секретарь Организационного бюро Казахстанского краевого комитета ВКП(б) по Западно-Казахстанской; июнь1932 - май 1934 — первый секретарь Западно-Казахстанского обкома ВКП(б); февраль 1934 - март 1937 - первый секретарь Карагандинского и Северо-Казахстанского областных комитетов ВКП(б); март 1937 - апрель 1937 - 1-й секретарь Киргизского областного комитета ВКП(б); апрель 1937 по май 1937 - и. о. 1-го секретаря ЦК КП(б) Киргизии; июнь 1937 - ноябрь 1937 - первый секретарь ЦК КП(б) Киргизии. Проводил репрессивную политику советского руководства.] 1932-1937 гг. Раиса заместитель председателя Северо-Казахстанской областной контрольной комиссии ВКП(б), заведующая сектором кадров ОБЛЗУ в г. Аральске, заведующая Агитационно-пропагандистским отделом Петропавловского городского комитета ВКП(б), начальник Управления средней и высшей школы Народного комиссариата просвещения Киргизской АССР; [Максим в 1937 г. был репрессирован. Арестован 16 ноября 1937 года в городе Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве. Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 г. определением Военной коллегии Верховного суда СССР.] 1938-1940 гг. Раиса работа в совхозе «Васильевское» (Московская область); 1940-1948 гг. она технический секретарь типографии «Стандарт», табельщица, начальник Отдела труда и качества комбината бытового обслуживания Киевского района (Москва); 1948-1956 гг. - инспектор-методист Всесоюзного заочного машиностроительного института. Раиса Израилевна Цугель имела звание «Почетный гражданин г. Якутска», была награждена многими грамотами, почетными знаками и медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За участие в героической обороне Москвы», «За трудовое отличие» и многими другими. Умерла 13 октября 1973 года в Москве.
* 6). После Гражданской войны в Ново-Николаевске не работали почти все государственные учреждения, включая железную дорогу. Царил голод. Чтобы восстановить важнейший транспортный узел, руководство ВЦИК РСФСР 13 июня 1921 года сначала превращает Ново-Николаевск в центр Новониколаевской губернии, куда из Омска переводятся все губернские структуры, включая редакцию газеты «Советская Сибирь», а затем, 25 мая 1925 года,— всей Сибири, создав для этой цели новую административную структуру — Сибирский край, которая на 10 лет вберет в себя Омскую, Новониколаевскую, Алтайскую, Томскую, Енисейскую губернии, а также автономную область Ойротия. С этого же времени в Новониколаевске начинает функционировать следственно-пересыльная тюрьма № 1 УНКВД. Будучи первым административным зданием из камня, построенным в советский период истории города, эта тюрьма станет едва ли не самым ужасным символом сталинских репрессий. Именно сюда после образования Сибирского края будут направляться каторжные этапы как с Запада, так и с Востока. Здесь этапируемые ожидали своей участи в страшной тесноте, и обычно, без еды. Отсюда их распределяли на отбывание срока в лагерях Сибири и Колымы, или просто расстреливали. В 2012 году историческое здание тюрьмы будет утрачено. 12 февраля 1926 года в Москве будет подведён итог дискуссии по новому названию города. ЦИК СССР утвердит постановление I Новониколаевского окружного съезда Советов от 17 ноября 1925 года о переименовании города Новониколаевска в город Новосибирск.
* 7) Миней Израилевич Губельман (Емельян Михайлович Ярославский) - род. 19 февраля 1878 г. в Чите Забайкальской области в семье ссыльнопоселенца. В 1898 организовал первый социал-демократический кружок на Забайкальской железной дороге, затем член РСДРП, большевик. В 1907 году он был арестован и отправлен на каторгу (отбывал в Горном Зерентуе, Нерчинская каторга). По окончанию срока каторги сослан на поселение в Якутск, куда прибыл в июне 1913 г. Здесь работал, сперва на метеостанции, а с весны 1915 г. – консерватором Якутского краеведческого музея (сейчас носит его имя). В 1916 г. организовал нелегальный революционный кружок якутской учащейся молодежи. После февральской революции 1917 г. стал членом Якутского комитета общественной безопасности, затем в мае возглавил Якутский совдеп. Создал легальный революционный кружок якутской молодежи «Юный социал-демократ». С июля 1917 г. работал в Московской военной организации МК РСДРП(б). В дни Октябрьского переворота Ярославский - член Московского партийного центра по руководству вооружённым восстанием, член Военно-революционного комитета, первый комиссар Кремля, но бежал из Кремля во время восстания юнкеров. В 1918 г. примыкал к группе «левых коммунистов» против заключения мира с Германией в вопросе о Брестском мире. В 1919-1922 гг. - секретарь Пермского губкома, член Сибирского областного бюро ЦК РКП(б). В 1921 г. - секретарь ЦК РКП(б). В 1921-1922 гг. - член ЦК партии. В 1921 г. государственный обвинитель на процессе Унгерна. Был сторонником В. И. Ленина, но после того как стало ясно, что главенство берет И. В. Сталин, Ярославский стал убежденным сталинистом. Автор большого числа работ по истории партии, был одним из главных фальсификаторов истории компартии и революции, руководил переделкой истории по заказу Сталина. Принимал активнейшее участие в подготовке «Краткого курса» - насквозь фальсифицированной истории партии. Написал книгу «О товарище Сталине», полную неприкрытой лести и низкопоклонства. Был старостой общества бывших политкаторжан, а с 1931 года - председатель Всесоюзного общества старых большевиков и Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1929-1935). Был членом редколлегии «Правды», журнала «Большевик», «Историк-марксист», «Безбожник», редактором «Исторического журнала». В 1923-1930 гг. - член Центральной контрольной комиссии (в 1923-1934 гг. член Президиума, в 1923-1926 член Секретариата, в 1924-1934 гг. секретарь Партколлегии Центральной контрольной комиссии). Кандидат в члены Исполкома Коминтерна (1928), академик АН СССР (с 1939 г.). Во время войны с Вермахтом руководил лекторской группой ЦК ВКП(б), член редколлегий газеты «Правда» и журнала «Большевик». Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1 созыва. Лауреат Сталинской премии СССР (1943 г.). Умер 4 декабря 1943 года. После смерти был кремирован, а прах помещён в урне в Кремлёвскую стену на Красной площади в Москве. Получается что многие из тех, кого он учил как жить, кончили плохо, а только он «хитрый жид», жил припеваючи.
* 8) Исследователи творчества Фраермана называют это стихотворение «Белоруссии». «Возможно, что, кроме отчета о процессе Унгерна и стихов, о которых речь пойдет чуть ниже, Р. Фраерман опубликовал и еще какие-нибудь материалы в «Советской Сибири», подписываясь псевдонимом или вообще не подписывая их, что принято было в те годы. Судить об этом сейчас невозможно. Что касается стихов, о которых писатель счел нужным рассказать в своих воспоминаниях, то они действительно были опубликованы в «Советской Сибири». Но память, видимо, на этот раз несколько изменила, что вполне простительно, учитывая такой долгий срок, за который мелкие детали могли сместиться во времени или вовсе забыться. Стихи были напечатаны не на другой день после начала работы в газете, а месяц спустя после суда над Унгерном и не на первой полосе, а на третьей, в подборке материалов, опубликованных под шапкой на целую полосу: «Все на борьбу с голодом!» Через несколько дней после опубликования этих стихов, как вспоминал позднее их автор, «Ярославский пришел в редакцию несколько озабоченный и на мой вопрос, чем он встревожен, сказал: «Харбинские белогвардейские газеты перепечатали твое стихотворение «Белоруссии». Я вот думаю, нужно ли нам на это как-нибудь реагировать? Поговорю сегодня с Марией Ильиничной (Мария Ильинична Ульянова, секретарь газеты «Правда» в те годы.— В. Н.), позвоню ей вечером в «Правду», в Москву». Вечером он добился прямого провода, поговорил с Марией Ильиничной, и она сказала: «Очень хорошо. Пусть они знают, как большевики любят свою Советскую Родину». С октября 1921 года на страницах «Советской Сибири» начинают регулярно появляться страницы или большие подборки под девизом: «Все на борьбу с голодом!» В одной из таких полос опубликовано еще одно стихотворение за подписью Р. Фраермана. В последующие годы Р. Фраерман писал стихи и даже целые поэмы. В частности, на страницах журнала «Сибирские огни», помимо опубликованных в разное время отдельных стихов, увидела свет поэма «Сибирь». И хотя его поэтическое творчество не может идти в сравнение с тем, что он сделал как прозаик, тем не менее остается фактом, что отдельные стихи выдержали испытание временем и, к примеру, небольшая поэма «Сибирь» по праву вошла в антологию сибирской поэзии, увидев еще раз свет в 1967 году. В этой поэме автор энергично выражает свою веру в великое будущее обширнейшего края». /В. Николаев. Путник шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. Москва. 1986. С. 5-6./ Ярославский «направлял первые шаги Рувима Исаевича в литературе и советовал написать очерк о длительном и опасном походе партизан с берегов Амура до истоков Лены. Ярославский напечатал и первое стихотворение Фраермана «Белоруссия». /В. С. Фраерман. Душа художника. // Жизнь и творчество Р. Фраермана. Москва. 1981. С. 85./
* 9) Вивиан Азарьевич Итин - родился 26 декабря 1893 г. (7 января 1894 г.) в Уфе. В 1923 г. Вивиан Итин перебрался в Ново-Николаевск, где издаёт книгу стихов «Солнце сердца», антивоенную повесть «Урамбо» (1923), повесть об авиаторах «Каан-Кэрэдэ» (1926). В 1926 г. на первом Сибирском съезде писателей Итина избрали секретарём правления. Летом того же года он участвовал в гидрографической экспедиции по обследованию Гыданского залива, в 1929 г. — в Карской экспедиции. В 1931 г. выступил с докладом «Северный морской путь» на Первом Восточно-Сибирском научно-исследовательском съезде в Иркутске. Участвовал в морском колымском рейсе на судне «Лейтенант Шмидт» (1934), от устья Колымы вернулся в Новосибирск сухопутным путём на собаках и оленях. По материалам своих путешествий написал книги «Восточный вариант», «Морские пути северной Арктики», «Колебания ледовитости арктических морей СССР», «Выход к морю» и другие. По рассказам полярников написал повесть «Белый кит». В 1934 г. он стал ответственным редактором журнала «Сибирские огни», председателем правления Западно-Сибирского объединения писателей, был делегатом Первого съезда Союза Писателей. В журнале «Сибирские огни» печатаются главы его незаконченного романа «Конец страха». 30 апреля 1938 г. Итин был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Постановлением «тройки» УНКВД Новосибирской области он был 17 октября приговорён к расстрелу. Не позже 22 октября приговор был приведён в исполнение. 11 сентября 1956 года Вивиан Итин был посмертно реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Его дочь Лариса Вивиановна Итина родилась в 1926 году в Новосибирске. Окончила биологический факультет Ленинградского университета. Более 30 лет работала в Институте физиологии АН БССР в Минске. Доктор биологических наук. [Издала книгу: Рецепторная функция тонкой кишки. Минск. 1972. 206 с.] С 1995 года живет в США в г. Рали (Северная Каролина). Издала книги своего отца: Стихи. Минск. Книгозбор. 2007. 125 с.; Сибирские повести. Минск. 2012. 494 с.
* 10). Барон Роберт-Николай-Максимилиан (Роман Федорович) фон Унгерн-Штернберг - род. 16 (29) декабря 1885 г. в г. Грац на юго-востоке Австрии, русский генерал, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке. Восстановил независимость Монголии. Автор идеи реставрации империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия. 20 августа 1921 г. был арестован своим монгольским дивизионом, чтобы передать его белым. К тому времени красные из отряда Щетинкина узнали от пленных о том, что произошло в бригаде Унгерна. Они направили разведгруппу и наткнулись на связанного барона с монголами, направлявшимися в сторону уходивших белых. 26 августа 1921 г. Ленин передал по телефону своё мнение о деле барона, ставшее руководством к проведению всего процесса: «Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения, и в случае если доказанность полнейшая, в чём, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять». 15 сентября 1921 года в Ново-Николаевске в летнем театре в парке «Сосновка» состоялся показательный процесс над Унгерном. Главным обвинителем на процессе был назначен Миней Губельман (Ярославский). Всё дело заняло 5 часов 20 минут. Унгерну предъявили обвинение по трём пунктам: во-первых, действия в интересах Японии, что выразилось в планах создания «центральноазиатского государства»; во-вторых, вооружённая борьба против советской власти с целью реставрации династии Романовых; в-третьих, террор и зверства. Барон Унгерн во время всего суда и следствия держал себя с большим достоинством и подчеркивал своё отрицательное отношение к большевизму и советской власти. Ряд обвинений суда обоснован фактами: в сношениях с монархистами, попытке создания Срединного азиатского государства, в рассылке писем и воззваний, сборе армии для свержения советской власти и восстановления монархии, наступлении на РСФСР и ДВР, расправе с подозреваемыми в близости к большевизму, даже с женщинами и детьми, и в пытках. С другой стороны, приговор Унгерну содержит ряд ложных обвинений: в истреблении целых селений, поголовном уничтожении евреев, действиях «на пользу захватнических планов Японии» и в том, что действия барона были частью общего плана наступления на РСФСР с востока. Расстрелян 15 сентября 1921 в Ново-Николаевске.
* 11) Иван Петрович Павлуновский - род. 4 (16) августа 1888 г. в д. Ржава, Фатежского уезда Курской губернии. Во время революции 1905-1907 участвовал в создании военной организации Курского комитета РСДРП. В 1907 арестован и выслан в Вологодскую губернию. В 1914 г. призван в армию, окончил школу прапорщиков, служил в гвардейских частях Петрограда и Царского Села. После Февральской революции председатель Петергофского совета, член президиума Царскосельского совета, а затем член Петроградского совета. Командовал отрядом красной гвардии, действовавшим против Корнилова. В дни Октября - член Военно-революционного комитета в Петрограде, вместе с Н. В. Крыленко участвовал в ликвидации Ставки. В конце 1917 г. - начальник отряда балтийских и черноморских моряков в боях под Белгородом [По воспоминаниям матроса-краеведа из Койданова Ивана Шпилевского, их отряд по Белгородом встретился с отрядом «женщин-ударниц Бочкаревой». Матросы за неумелые действия хотели расстрелять Павлуновского на месте, но братву удалось угомонить, так как Пвлуновский уехал от них «вместе с эшелоном пленных ударниц». / І. Шпілеўскі. Братва. Запіскі матроса. Менск. 1930. С. 59./], в начале 1918 командир отряда на Украине и в Беларуси. С 1918 в органах ЧК. С августа 1918 начальник Особого отдела 5-й армии Восточного фронта, возглавлял одно время особый отдел Восточного фронта. Председатель ЧК в Казани и Уфе после взятия этих городов (1918). С апреля 1919 г. зам., с августа первый зам. начальника Особого отдела ВЧК (1919-1920). Руководил арестами военспецов в Полевом штабе РККА, ликвидацией «Национального центра», «Добровольческой армии Московского района». С начала 1920 — полномочный представитель ВЧК (потом ОГПУ) по Сибири. Задачей Павлуновского было установить контроль ВЧК над местными сибирскими ЧК, до того действовавшими автономно. Прибыл в Омск в марте 1920 года. Летом 1921 г. полпредство ВЧК переехало из Омска в Ново-Николаевск. Организовал ликвидацию барона Унгерна. Был также членом Сибирского бюро ЦК РКП(б) и с 1922 уполномоченным Наркомата путей сообщения по Сибири, в 1922 возглавил т.н. Сибпятерку — чрезвычайную комиссию по вывозу хлеба из Сибири. По его резолюции была расстреляна организатор Первого женского батальона смерти, воевавшего под Кревом в Беларуси Мария Бочкарева. В 1937 г. Павлуновский был арестован и 29 октября 1937 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян на полигоне Коммунарка на следующей день 30 октября 1937 г. Омский историк Михаил Ефимович Бударин утверждал, что Павлуновский после ареста прожил ещё 3 года. Все это время его пытали, пытаясь выбить признания в контрреволюционной и шпионской деятельности. После прихода к власти в НКВД Л. П. Берии, Павлуновского, по приказу наркома внутренних дел, поместили в камеру, наполненную водой до самой головы. Через некоторое время нахождения в такой камере Павлуновский согласился оклеветать себя и в 1940 г. был расстрелян.
* 12) «Материалы за подписью Р. Фраермана на страницах газеты появились лишь трижды: два раза он опубликовал стихи и в двух номерах с продолжением напечатан отчет о суде над бароном Унгерном фон Штернбергом. Процесс над злейшим врагом трудового народа и молодой Советской страны привлек широкое внимание общественности, ему было уделено значительное место на страницах «Советской Сибири». Банды Унгерна были ликвидированы и рассеяны в монгольских степях советскими и революционными монгольскими частями в августе 1921 года. Сам Унгерн был пленен 22 августа. Сначала его доставили в Читу, где бесславно закончил свою кровавую карьеру адмирал Колчак. Там Унгерна допрашивали, начав следствие по его делу. Закончено оно было уже в Новониколаевске. Здесь 15 сентября состоялся и суд. За день до суда в «Советской Сибири» на первой полосе было напечатано обвинительное заключение по делу Унгерна, которое и сейчас производит жуткое впечатление и вызывает естественную волну гнева. На другой день после суда, то есть 16 сентября, напечатано начало, а 17 сентября и окончание отчета о судебном заседании, продолжавшемся пять с лишним часов. Оно закончилось вынесением приговора, «окончательного и обжалованию не подлежащего». 18 сентября в газете опубликована большая обвинительная речь, с которой выступил на процессе Емельян Ярославский. 19 сентября появилась не в изложении, а полностью речь защитника В. Боголюбова. Даже он, по обязанности выискивая смягчающие обстоятельства, вынужден был воскликнуть: «Можно ли представить, будь то барон Унгерн или кто-нибудь другой, чтобы нормальный человек мог совершить такую бездну ужасов!» После всех этих публикаций напечатана еще подвальная статья И. Майского, подводившая итог разгрому унгерновщины и суду над «кровавым бароном». Статья эта написана темпераментно, доказательно, в ней использован обширный исторический материал, для историка она и сейчас может представить известный интерес. На фоне всего этого репортерский отчет Р. Фраермана хотя и ничем особенно не выделяется, но дает добросовестную картину того, что происходило на суде, и рисует выразительный портрет подсудимого - тупого солдафона, кичащегося своим аристократическим родом, не менее тысячи лет служившим оружием сначала немецким орденам меченосцев, а затем русской монархии. Унгерн не задумываясь расстреливал, вешал, порол насмерть всех, кто подвертывался под его баронскую руку, - не только поднявшихся на борьбу за освобождение рабочих и крестьян, но и проявлявших малейшее сочувствие и милосердие к жертвам белого террора чиновников, представителей духовенства, купцов. Не щадил Унгерн и своих солдат, офицеров, соратников по оружию, заподозренных в колебаниях или вольнодумстве. Жертвы его исчислялись сотнями тысяч. Политическая программа «кровавого барона» предельно проста и реакционна: царя - на престол, землю - помещикам, заводы — хозяевам, рабочих и крестьян - под ярмо. Суд над бароном Унгерном еще раз позволил представить автору газетного отчета путь тяжелой и упорной борьбы за свободу народов Сибири и Дальнего Востока, еще раз осветил новые факты героизма революционных бойцов и мрачные страницы кровавых злодеяний контрреволюции». /В. Николаев. Путник шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. Москва. 1986. С. 25-26./
* 13) Яков Генрихович Фенигштейн (псевд. Долецкий) род. 22 февраля 1888 в еврейской семье в Варшаве. С 1904 года член исполкома СДКПиЛ. В 1917 году - член Петербургского комитета большевиков, а вскоре и его Исполнительного комитета. В 1917 году - член ВЦИК. С 1919 г. заместитель председателя СНК Литовско-Белорусской ССР, член Президиума ЦИК, нарком внутренних дел Литовско-Белорусской ССР, член Политбюро ЦК КП(б) Литовско-Белорусской ССР. С 1922 года - член Главполитпросвета и ответственный секретарь РОСТА. В 1925-1937 гг. ответственный руководитель Телеграфного агентства СССР (ТАСС). Арестован летом 1937 года как польский шпион. Расстрелян (застрелился) 19 июня 1937 г.
Маразма Пижон,
Койданава
*
РУВИМ ФРАЕРМАН
Рувим Исаевич Фраерман - родился 10 (22) сентября 1891 г. в губернском городе Могилев Российской империи, в еврейской семье мелкого подрядчика по лесу. Учился в могилевском реальном училище императора Александра II Освободителя, где ученики выпускали свой журнал «Ученик», («Труд ученика»), который печатался в типографии на хорошей бумаге и продавался по рублю серебром. В нем Рувим публиковал свои первые стихи.
«Семья, в которой родился Р. Фраерман, была большая и бедная. Радостей мальчик видел очень мало. Несколько раз он вспоминал даже с некоторой гордостью, каким замечательным знатоком леса был его отец, занимавшийся мелкими подрядами. Кроме того, отец писал людям всякие ходатайства и прошения, был этаким бедняцким стряпчим. Впрочем, об это писатель лишь мельком упоминал. Подробнее рассказывал он о другом. Отец по своим делам часто разъезжал по лесничествам, по окрестным деревням и местечкам. Иногда он прихватывал с собой и сына. Вот эти-то поездки более всего и оказались памятны. Отец великолепно знал деревья, травы, птиц, зверей мог увлекательно и точно рассказывать обо всем этом. Даже не углубляясь в чащу леса, а лишь проехав по опушке, он мог рассказать с достаточной точностью, какая часть тут больных деревьев, каков характер заболевания, сколько строевого леса в массиве, какое количество деловой древесины можно получить. Осмотрев ствол дерева, его комель и крону, он мог прочитать увлекательную лекцию о жизни дуба или березы, А как интересны были его рассказы о травах и цветах, о зверях и птицах, их жизни и повадках! О, эти поездки были своеобразным университетом познания природы. И не отсюда ли выросла та сильная любовь к природе, постоянное и не убывающее любование ее красотой и силой, тонкое чувство ее изящества, обнаруживаемое в каждой книге писателя? В окрестных лесничествах и селах Могилевщины у отца было много друзей и знакомых, поэтому поездки длились по нескольку дней, а иногда и недель, с остановками в чужих домах. Перед взором мальчика проходила жизнь людей различного уклада, разного достатка, не схожих судеб и характеров. Все это запечатлевалось в памяти накрепко, из этого начинало складываться знание и представление о жизни народа, которое потом придаст такую силу достоверности и подлинной глубины его книгам. Воспоминаниями об этих поездках и ограничивались, насколько мне известно, рассказы писателя о собственном детстве. О семье, о братьях и сестрах, даже о родителях он почти ничего не рассказывал. Лишь в рукописи «Раздумье» мы находим беглые упоминания о матери и два-три абзаца об отце. Есть в этой рукописи и горьковатое сожаление о том, что рано начавшаяся жизнь в отрыве от семьи, существенно обездоливает человека... Не написал он ничего и о годах учения в реальном училище». /В. Николаев. Путник шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. Москва. 1986. С. 5-6./
После окончания училища Фраерман поступает в Харьковский технологический институт. «Выходцев из неимущих слоев студенческая жизнь не баловала достатком. В каникулы приходилось постоянно думать о заработке. Молодой Фраерман то временно служит счетоводом в Бакинской управе, то берется за случайную поденную работу. В 1918 году он отправляется на производственную практику на Дальний Восток и больше на студенческую скамью не возвращается. Начинаются годы скитаний, суровые «университеты жизни». Сначала Фраерман проходит практику в качестве подручного кочегара, не расставаясь еще с мыслью окончить Харьковский технологический институт и стать дипломированным инженером-паровозостроителем. Но годы скитаний приходятся на бурное время коренной ломки социальных основ общественного уклада огромной страны. «Университеты жизни» для молодого человека само собой становятся «университетами борьбы». Выбор пути в революции для харьковского студента не был трудным и тем более мучительным... Одной жизнью с народом, с обездоленными массами жил в те годы заброшенный судьбой так далеко молодой интеллигент. Каких только профессий он не перепробовал тогда! Был и подручным кочегара, и нивелировщиком, и учителем, и чертежником, рыбачил на промыслах и клепал бочки, жил среди старателей, таежных охотников, сближался с различными представителями коренных национальностей. Это были «университеты жизни» самого широкого профиля. Романтически настроенный юноша, продолжавший писать стихи, но не спешивший публиковать их, пылко любивший литературу и мечтавший о писательской деятельности, как губка впитывал в себя впечатления окружающей жизни, запасался наблюдениями. В то бурное и сложное время Р. Фраерман держался поближе к рабочим Никольска-Уссурийского, Хабаровска, Николаевска, был тесно связан с революционной молодежью, а в пору японской оккупации и с партийным подпольем. Он был свидетелем разгула семеновцев, японских интервентов и отличавшихся особой жестокостью местных анархистов... Мы мало знаем подробностей из жизни писателя в 1918 и 1919 годах, он почти не рассказывал о себе... Назначение па должность комиссара партизанского отряда Р. И. Фраерман получил в самом начале мая 1920 года. Шел ему тогда двадцать четвертый год... Должность комиссара партизанского отряда крупная и весьма ответственная. Часто не командир отряда решал его судьбу в целом и каждого бойца в отдельности, а комиссар. Он являлся тем волевым центром, вокруг которого все сплачиваются. Его политическая проницательность, его мужество, его нравственная сила служили не только примером для всего отряда, но и залогом верности и справедливости принимаемых решений... В то время Р. И. Фраерман формально еще не был членом Коммунистической партии. Правомерен поэтому вопрос: каким же образом молодой интеллигент получает назначение на такой высокий пост? Неужели его так сразу, не проверив на деле, не узнав как следует в процессе практической деятельности, назначают комиссаром партизанского отряда? Предположить это невозможно. Назначению на этот пост несомненно должно было предшествовать участие в революционной борьбе. Сам Р. И. Фраерман ни о каких своих заслугах никогда не распространялся. Одна из дальневосточных газет опубликовала свидетельства об участии будущего писателя в создании первых комсомольских организаций в Николаевске-на-Амуре. Рувим Исаевич знал эту публикацию, она ему была прислана, но, насколько мне известно, не счел нужным ее как-либо прокомментировать. Известно — сам писатель это подтверждал, хотя в подробности и не вдавался,— что непосредственно перед назначением на пост комиссара партизанского отряда он редактировал газету местного военно-революционного штаба «Красный клич». Как долго он ее редактировал, каким образом был назначен на столь ответственный пост и что предшествовало этому, — ничего мы не знаем, нигде в своих воспоминаниях писатель об этом не обмолвился. Но и скупые сведения, как мне кажется, дают основания полагать, что к моменту назначения на пост комиссара партизанского отряда в штабе партизанских сил Р. И. Фраермана знали достаточно хорошо, считали его человеком, заслуживающим самого высокого доверия и зарекомендовавшим себя с лучшей стороны на практической революционной работе... Тому факту, что к этому времени Р. И. Фраерман формально не состоял в партии, не следует придавать решающего значения. Его преданность революции и коммунистическим идеалам доказывалась прежде всего практическими делами, непосредственным участием в революционной борьбе. Это было главное. Некоторое время спустя Р. И. Фраерман вступил в Коммунистическую партию». /В. Николаев В. Путник шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. Москва. 1986. С. 6-11./
Партизанский отряд, где был комиссаром Фраерман, прошел, ради спортивного интереса, от Николаевска до Якутска. В Якутске Рувим Фраерман в качестве заместителя редактора работает в газете «Ленский коммунар», затем сотрудничает в центральной сибирской газете «Советская Сибирь» в Ново-Николаевске, оттуда переезжает в Москву.
Помимо многочисленных поездок по стране ему удается в 1926 г совершить путешествие и за границу, в Италию.
Участник Великой Отечественной войны - боец 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, военный корреспондент на Западном фронте. В январе 1942 г. был ранен в бою, в мае демобилизован.
Умер Рувим Исаевич Фраерман 28 марта 1972 года в Москве и похоронен на Пятницком кладбище.
Труды:
Нікічэн: Пераклад з рускай мовы Р.Кутылоўскага. Менск. 1935. 360 с.
Подзвіг у майскую ноч. Пераклад І. Ф. Сакалоўскага. Мінск. 1946. - 21 с.
Дзікі сабака дзінга, альбо Аповесць пра першае каханне. Пераклад з рускай мовы В. Вярбы. Мінск. 1975. 144 с.
Поход. Воспоминания о походе партизанского отряда из Николаевска-на-Амуре до Якутска. Койданава. 2012. 34 л.
Литература:
Блинкова М. Р. И. Фраерман. Критико-биографический очерк. Москва. 1959. 62 с.
Жизнь и творчество Р. Фраермана. Сост. В. Николаев, В. С. Фраерман. Москва. 1981. 224 с.
Николаев В. Путник шагающий рядом. Очерк творчества Р. Фраермана. 2-е изд. Москва. 1986. 188 с.
Карлюкевіч А. Знічкі Айчыны. // Голас Радзімы. Мінск. №43. 20
лістапада 2008. С. 3.
Акимова М. «Я сделал доклад председателю ревкома». Неизвестные архивные материалы о дружбе М. К. Аммосова и молодого писателя Р. И. Фраермана. // Илин. Якутск. № 2-3. 2009.
Андрэявец Р. Фраерман Рувім Ісаевіч. // Сузор’е беларускага памежжа. Беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах. Энцыклапедычны даведнік. Мінск. 2014. С. 502.
Маразма Пижон,
Койданава
*
О СЕБЕ
«Я родился в Могилеве. Это Белоруссия. Край очень тихий. Я люблю Белоруссию. И народ ее люблю. Белорусы — тихий народ. Трудолюбивый.
Когда я немножко вырос, я учился в реальном училище. И благодарен своему учителю словесности по фамилии Солодкий. Он нам привил любовь к литературе, организовал школьный кружок. И журнал. Писал я сначала стихи, как все мальчишки:
Ты помнишь, друг, как было хорошо,
Когда в лесу на пне мы отдыхали.
Как лес шумел, как солнце горячо
Ласкало нас п мы вдыхали
Душистый аромат, пропитанный смолой.
Молчали мы. а вкруг все двигалось и жило...
Прозу я начал писать много позже.
Я, к великому своему сожалению, не был столь счастлив, как многие: одних заметил Горький, других поддержал Маршак. Я сам пробивался. /Б. Камов. Добрый человек из «Конотопа». // Жизнь и творчество Р. Фраермана. Москва. 1981. С. 117./
СИБИРЬ
Сибирь. Извивы льдистых рек
Под сопками. Оснеженные кряжи,
На пихтах комья хрупкой пряжи
И на дорогах зыбких человек,
В меха одетый.
Свирепые кастеты
Морозных стуж свистят, и стонут сосны,
Сплетаясь в кованный узор.
Над селами—оскаленные десны
Пустынных и холодных зорь.
Смеясь в студеную мерцающую муть,
Как оцинкованная жесть просторы,
И ждут они, когда по ним проторят
Великий и железный путь.
И оседлают их ошпаленные версты,
И шлюзами взнуздается вода.
Как диких пчел в тайге бесчисленные гнезда,
На горизонтах встанут города.
Откроются шахт разоренных пасти,
Домн зарева повиснут в небесах.
Руда, и нефть, и антрацит блестящий
Тяжелым грузом лягут на путях.
Там, где теперь тунгус сифилитичный
В палатке дрелевой, склонясь на «камалам»,
Следит, как пеною точится пляшущий шаман,
И рвется крик его, как в дебрях клекот
птичий—
Там песней будет стрекот молотилки
И дизелей немолкнущая речь.
Во ржах — как острова углы фабричных плеч
На марях — проса рдяные опилки.
Сибирь — безмерное вместилище земли!
В свои края пол-мира ты еще могла
принять-бы,
Когда-бы мятежей рабочих яростные свадьбы
За нашей гранью отгулять могли...
Р. Фраерман
/Вьюжные дни. Сборник сибирских поэтов революции под редакцией В. Итина. Одобрен Сибполитпросветом в качестве материала для чтения и декламации в клубах. Сибкрайиздат. Новониколаевск. MCMXXV. С. 81-82./
*
Отправлен 09.03.2013 в 3:03 пп
Я собираю материалы о семье Р. Фраермана. Он брат моей бабушки, убитой вблизи Чаусов вместе с дочерьми. К сожалению, в воспоминаниях, которые оставил Рувим, нет почти ничего о его семье. Если у кого-то есть какие либо сведенья о моей бабушке и прабабушке буду рада их получить.
HelenaKhanina
Алесь Карлюкевіч
ЗНІЧКІ АЙЧЫНЫ
...Яшчэ адна яркая асоба ў гісторыі рускай літаратуры нараджэннем з Магілёва. Ды для многіх чытачоў імя гэтае знаёма з дзяцінства. Ці чыталі вы аповесць “Дзікі сабака Дзінга, або Аловесць пра першае каханне”? А напісаў гэты твор наш зямляк з Магілёва вядомы рускі празаік Рувім Ісаевіч Фраерман (нарадзіўся ў 1891 годзе). З дзяцінства Рувім пастаянна ездзіў з бацькам па лясніцтвах, вёсках і мястэчках Магілёўшчыны. Закончыў хлопец Магілёўскае рэальнае вучылішча. Там яго творчыя здольнасці былі падтрыманы настаўнікам літаратуры Салодкім. Першыя вершы Рувім надрукаваў у вучылішчным часопісе “Труд ученика”. Паступіў у Харкаўскі тэхналагічны інстытут і ў 1918 годзе, пасля 3-га курса, накіраваўся на практыку на Далёкі Усход. Там і пачаліся сапраўдныя “універсітэты жыцця”. Адна з самых ранніх аповесцяў Фраермана — “Буран” з’явілася ў друку ў 1926 годзе. Матэрыял грамадзянскай вайны, падзеі на Далёкім Усходзе паслужылі асновай для такіх аповесцяў, як “Васька-гіляк”, Агнёўка”, “Залаты Васілёк”, “На Амуры”. Разам з партызанскім атрадам камісар Рувім Фраерман ажыццявіў у 1920 годзе найскладанейшы 4-месячны пераход скрозь тайгу да Ахоцкага мора. Імя пісьменніка чуў і другі знакаміты далёкаўсходні партызан, з якім Фраерман пазнаёміцца і пасябруе ўжо ў Маскве, — Аляксандр Булыга або празаік, славуты арганізатар літаратурнага жыцця ў 1930-1940-ыя гады Аляксандр Фадзееў. Праз шмат гадоў Рувім Ісаевіч напіша пра грамадзянскую на Далёкім Усходзе дакументальную кнігу “Успаміны пра паход партызанскага атрада з Мікалаеўска-на-Амуры да Якуцка”. А “Дзікі сабака Дзінга..!.”, вядомы яшчэ і па фільму кінарэжысёра Ю. Карасіка, нарадзіўся ў 1939 годзе...
/Голас Радзімы. Мінск. № 43. 20 лістапада 2008. С. 3./
ПОХОД
Внезапный холод задержал партизан в тунгусском стойбище на два дня. Он был вызван льдами, пригнанными ветром к Шантарским островам. Холод был так силен, что, несмотря на июнь, партизаны ночью мерзли у костров, а тунгусы спали ночью в оленьих мешках. По утрам солнце покрывалось тонким паром, а по вечерам долго стояло на горизонте.
Старики говорили, что рыбы в этом году не будет. И действительно, льды оттеснили горбушу. Она прошла мимо Удской губы.
Тунгусы выходили с сетями на берег и возвращались печальные. Улова не было. Мухи не жужжали над навесами для юколы, ветер не разносил по стойбищу гнилого и сытного запаха; дети не лакомились похлебкой из дикого лука и рыбьих голов.
Тогда вечером тунгусы пришли к партизанам, обступили палатку и зажгли на поляне костры. Огонь осветил их темные лица, впалые щеки под широкими скулами, голодные взгляды.
— Зачем вы здесь? — спросил их комиссар Небываев.
— Мы пришли за нашими ртами. — ответили старики. — Они привели нас с гор к морю ловить майму, горбушу и корюшку. Но снегу много, реки быстры, и рыбы мало в этом году. Плох урожай на белку и зверя. Мы едим нерпичьи шкуры, крошим старые трубки, чтобы вспомнить запах табаку. Ты прогнал купцов. Ты принес нам советскую власть, не принес ли ты нам муки, дроби и пороху?
И тунгусы сели на землю, вынули из мешков связки белок, рысьи и барсучьи шкуры и положили их себе на колени.
— Вот наши товары. Где же твои?
Но у партизан, кроме боевых припасов, ничего не было.
— Мы сами бедны и идем воевать с нашей и с вашей бедностью, — ответил комиссар Небываев и печально посмотрел на нищее стойбище тунгусов, на палатки и шалаши, крытые кожаной ветошью, на одежду охотников: даже у самых богатых выглядела она убогой. Голод посетил страну.
Небываев пососал цыгарку, прищурился и спросил у командира Десюкова, много ли осталось муки, дроби и пороху.
— Мало у нас муки, дроби и пороху, — ответил командир. — Если раздать только беднейшим, и то не надолго хватит.
И Десюков пододвинулся ближе. Знал он безумную голову Небываева.
— И не думай, — тихо сказал он комиссару.
— А я думаю, товарищ Десюков, — ответил Небываев. Он обвел глазами дымные костры и лица звероловов. Дети хныкали, просили груди. А матери совали им свои трубки, чтобы они покурили.
— Я думаю, товарищи,— повторил он, обращаясь к партизанам, — надо дать тунгусам половину наших запасов.
— Какая же это политика, — сказал завхоз Устинкин, — чтобы нам подыхать раньше их? У нас галетов всего-то на две недели, а пути на месяц.
— Дать! — сказал кореец Ким, самый молодой из партизан.
— Дать! — повторили другие.
Но командир Десюков был недоволен. Он наморщил лоб, посмотрел во тьму, стеной стоявшую за кострами.
— Дать-то можно, если вертаться.
— Дать! И никаких «вертаться»! — сказал Небываев. — Только вперед! В Аяне еще нет советов!..
И наутро, на восходе солнца, партизаны покинули стойбище. Они расклеили на юртах, на прибрежных скалах воззвания, грозившие смертью «капиталу», и ушли по тропе на Аян.
После заморозков утро казалось теплым, но на траве долго висела роса. Горько пахла хвоя.
Легок был первый привал. Но едва только партизаны развьючили оленей на отдых, как увидели новый караван. Он шел по той же тропе следом. Олени несли переметные сумы — сорук, обшитые кожей, берестяные люльки с младенцами; поверх вьюков сидели мальчишки.
— Наше стойбище провожает гостей, — сказал хромой старик, подходя к Небываеву. — Овены 1 будут с вами обедать.
— Вот погибель! — крикнул Устинкин. Он был еще кашеваром в отряде и сейчас варил мясные консервы в бидоне, заменявшем походный котел. — Что же это такое, товарищ комиссар?
— Прибавь еще десять банок консервов и открой ящик с галетами, — сказал в раздумье Небываев.
Тунгусы подсели к огню партизан и вынули ножи из берестяных ножен, чтобы есть мясо. Женщины, торопясь к чаю, оставили на вьюках люльки с детьми. Но у костра все сидели молча, ожидая пищи. И столько достоинства было на голодных лицах тунгусов, так глубоко было их уважение к мясу, так скромно ждали они, что Небываев сказал кашевару:
— Завари погуще чай...
И назавтра было то же самое. Небываев начал избегать привалов. Припасы тайно раздавали партизанам. А тунгусы все шли по тропе следом.
Комиссар пришел в отчаяние и сказал тунгусам:
— Возвращайтесь обратно. Зачем вы идете за нами?
— Вода прибывает и убывает, — ответил хромой старик, — а люди приходят из тайги и снова в нее уходят. И если есть у них хлеб и мясо, они дают голодным, а если нет, то умирают вместе. Так живут овены. Нам все равно, куда идти.
Небываев вынул свой мандат из-за пазухи и показал его.
— Тут сказано: мы можем умереть только в борю с врагами трудящегося класса. Вы нам не враги. Идите назад. Пошлите людей на прииска. Может быть, они доставят вам муку и припасы. Нам же дайте проводника, чтобы идти в другую сторону.
Тогда выступил вперед молодой тунгус Олешек — батрак и проводник. Он сказал овенам:
— Возвращайтесь назад. Я был на приисках, и я знаю, что эти люди, которых мы называем красными, дали нам больше, чем могут дать солдаты.
— Мы не солдаты, — нахмурясь, сказал Небываев, — а большевики.
— Болшики, — повторил за ним Олешек. — Я овен, и беден и поведу вас через тайгу, куда вы хотите. Но, как только вы придете на место, я вернусь, Потому что наш закон велит нам жить и умирать в тайге.
И комиссар Небываев ему поверил.
— Приведи нас в Аян, — сказал он. — Там еще нет Советской власти. Там еще враги.
И Олешек начал заботиться об отряде, как подобает проводнику. Прежде всего он занялся вьюками.
Увидев на партизанах сапоги, тяжелые для ходьбы, он попросил у тунгусов шестнадцать пар запасных олочей и десять оленьих шкур. Женщины тут же сшили олочи, мужчины дали шкуры для постелей. Олешек сделал из этого половину вьюка; на другую же половину положил ящик со спичками, так как не было у русских другой вещи, такой же легкой, как тунгусская обувь.
Но на другой же день после того, как тунгусы ушли назад и тропа опустела, Олешек увидел рану на спине оленя, несшего этот вьюк, и удивился. Ящик со спичками показался ему теперь тяжелым. Он попросил Небываева открыть его. Спички оказались сырыми.
Командир Десюков поднял над Олешеком кулак.
— Кто сделал? Говори!
Небываев остановил его. Но и он посмотрел на Олешека так, что лучше бы схватил его за горло.
— Как же! — вскрикнул Олешек. — У вас еще много врагов! Но это не я!
И снова комиссар Небываев ему поверил.
Партизаны, удрученные, стояли вокруг, не принимаясь за пищу.
Каждый шарил в карманах, отыскивая спички. Набралось пять коробок. И было решено каждую спичку расщеплять пополам и всем закуривать сразу.
Олешек показал Небываеву на свой кремень и огниво, висевшие на поясе рядом с ножом Пока партизаны обедали, он сделал трут из березовой губки, размягчил ее ударами палки вымочил в порохе и высушил у костра. Потом каждому дал прикурить по два раза и снова стал беспечным.
Тропа вела вдоль берега моря на север. Так широка была она вначале, что подвое рядом шли олени. И люди не уставали до полудня.
Потом, тропа круто повернула от моря на запад. Стало глуше. Но Олешек шел по ней все так же уверенно, назначая места для привалов. За ним шли партизаны.
Он любил будить их по утрам в палатке, когда заря размыкала верхушки лиственниц. Сам он спал всегда у костра под рваным заячьим одеялом на кабарожьей шкуре. Роса ложилась на его лицо.
Он слышал, как по вечерам Небываев назначал дежурных, которые засыпали так же скоро, как и все. Боясь, что их накажут, Олешек вползал в палатку, едва только забрезжит, и тихо звал:
— Дежурный!
Он не понимал, почему им запрещают спать, но слово «дежурный» ему нравилось. Полюбил он еще говорить: «как же», и, когда Небываев спрашивал его: «Скоро ли придем в Аян?», он отвечал с улыбкой: «Как же!»
Перешли реку Киран, перешли реку Жеголь, и пошел дождь. Днем он шумел в траве и в хвое. Ночью лил из необъятного мрака. Иногда он не надолго стихал, чтобы снова стеной упасть на землю. Два дня сидели в палатке, слушая, как работает вода. Беспрерывно топили железную походную печку. В палатке стоял пар. Когда же печка остывала, с парусины над головой свисали капли. Десюков иногда касался их пальцами, и струйка воды стекала за рукав. Он ежился и говорил со скрытой тоской:
— Нанялся к нам дождичек грызть галеты. Небываев тоже думал о припасах. Задержка была некстати. Мясные консервы подходили к концу. Муки и галет оставалось дня на три.
— Олешек, скоро ли мы будем в Аяне? — спрашивал снова Небываев.
— Как же, как же! — отвечал с улыбкой Олешек.
Тайга просыхала медленно. Душно пахло корой. В траве стояли лужи. Целый день шлепали по ним олени. Идти было тяжело. Партизаны не видели больше тропы. Олешек стал осторожней и улыбался реже. Он теперь последним уходил с привала, осматривал вьюки и насухо вытирал мокрые спины оленей. Он подбирал с земли брошенные жестянки из-под консервов и вешал их на ветки.
— Трава, как вода, все скрывает, — говорил он с укоризной русским, — а дерево все открывает. Может быть, охотник напьется из этой жестянки и сварит себе мясо.
На следующий день перешли Немуй, потеряв на переправе оленя. Река гремела, переполненная вчерашним дождем. Вода была белеса, как глаза трахомного. По перекату тащились черные стволы.
— Я никогда ее такой не видел, — сказал с тревогой Олешек. — Спустимся к морю: там песок и мелко, и всего лишь день пути.
— Нет, — ответили партизаны. — Дорог день. Каждый взял оленя за повод и вошел в воду.
Ледяная струя ударила под колени, точно плеснула свинцом. А впереди гудел перекат. Маленький Ким вскрикнул и выскочил обратно на берег. Устинкин качался, не трогаясь с места. Ему подали палку, чтобы помочь. Тогда Олешек срубил длинный шест, сел верхом на оленя и погнал его в реку. Он задирал оленю голову, чтобы тот не смотрел в быстрину. Шест, упертый в дно, придавал устойчивость.
Партизаны последовали за Олешеком.
Небываев ехал последним на олене, навьюченном мукой и галетами. Он боялся за вьюки и слишком часто натягивал повод. Голенастые ноги оленя расходились врозь, дрожали. Тяжел седок, скользки камни, сильна вода.
Было уж близко от берега. И вдруг олень начал падать набок. Засинели белки в расширенных глазах. Вода коснулась языка, прикушенного от боли. Олень тонул. У него был сломан хребет.
С замершим сердцем Небываев стоял, крепко схватившись за вьюк. Он взял поводья в зубы. Он уперся шестом в камень. Реку словно тащило вперед вместе с дном. Небываев закрыл глаза, чтобы не смотреть вниз. Только бы не снесло вьюки, только бы тело оленя не сшибло его с ног!
Близко звенели камни. Вода колотила по бедрам. Небываев открыл глаза и увидел шест, протянутый ему Десюковым. Партизаны цепью стояли в воде, держась за руки. Олешек накинул аркан на рога оленя и потащил его к берегу.
Олень был мертв. Олешек, гут же отрезал ему голову и начал свежевать.
В этот вечер ночевали у подножья Джуг-Джура и ели много мяса.
Устинкин из подмоченной муки сделал пирожки с олениной. Он любил поесть и за стряпней мог проводить ночи. Несколько раз Небываев просыпался от гнуса и все видел Устинкина у костра. Он пек пирожки на раскаленной земле, засыпая их горячей золой, потом жарил мясо, коптил язык, вываривал из костей мозг.
Он как бы предчувствовал голод.
Утром партизаны были сыты в последний раз. От муки и оленя ничего не осталось. Целый день потом скрипела на зубах зола.
А впереди был Джуг-Джур, лысые гольцы под небом.
Безлесная долина лежала у самого подножья. И здесь, внизу, было хорошо. Трава поднялась после ливня. В траве качались лиловые ирисы и огромные, без запаха, ландыши. Было солнечно. Гудела пчела над багульником. И партизаны немного помечтали о пасеках, о дворах и скоте.
Три ущелья выходили на эту долину, давая начало ручьям, стекающим в Немуй. Ни тропы, ни следа. Только трава и ирисы. В какое же ущелье войти? Разделенные узкими кряжами, они одинаково шумели мелколесьем.
Олешек смотрел вдаль, на гольцы и сопки. Он ездил в Аян только по зимней тропе, летом же был здесь впервые. Сомнение на минуту овладело им. Сомнение и стыд, ибо какой же тунгус ищет тропу, когда охотится за зверем? Он, как птица, находит дорогу домой.
И Олешек вошел в среднее ущелье. Здесь он увидел след и обрадовался. На берегу ручья валялись обугленные сучья, а на камне рядом лежал заржавленный топор. Олешек присел на корточки, задумался. Топорище глядело на запад, значит, охотник ушел на восток, в это ущелье. Тропа должна быть там. Тунгус садится лицом туда, куда идут его ноги, и никогда не кладет топора топорищем вперед. Олешек не сомневался в том, что это был тунгус. Ни якут, ни русский не прилаживают такой длинной ручки к своему топору. Одно только смущало Олешека: почему так торопился охотник?
Подошли партизаны. Небываев спросил: — Что ты увидел?
Олешек показал ему топор.
— А топорик-то хорош! — сказал Устинкин. Он взял его, помахал им и сунул за пояс.
Олешек с изумлением взглянул на него.
— Нельзя, — сказал он, протягивая руку к топору.
— Вот чудак! — в свою очередь удивился Устинкин. — Ведь не украл же ты его — нашел!
— Нельзя, — повторил настойчиво Олешек.— Мы, овены, думаем о тех, кто идет впереди нас. Может быть, охотник вернется. Он будет рад.
Никто не возьмет его топора.
И Олешек воткнул топор в толстую осину и пошел прочь, больше не глядя под ноги.
Ему нечего было искать, когда путь найден.Но если бы он смотрел, если бы не был так молод и беспечен, то увидел бы новый след человека и положенный через след сучок 2.
.....................................................................................
Три дня шли партизаны в горах.
Небо с синим блеском, камни цвета орлиного крыла, кедровый сланец на склонах. Последний след человека исчез.
И чем выше поднимались, тем угрюмей становилось на сердце Небываева.
За один переход стоптали тунгусские олочи. Многие снова обулись в сапоги. Галеты были съедены. На ночлег останавливались рано, чтобы найти для оленей хоть немного белого мха.
На третью ночь легли спать голодными, но спали крепко. Только Небываев, вдруг проснувшись, сел на шкуру, схватился за винтовку и подумал: «Плохо!» Стояла тишина. Он выглянул из палатки. Над ущельем висел месяц. Блестела железная ложка, забытая Устинкиным у костра. Огонь погас. Олешека не было.
Небываев пощупал золу. Она была холодная. «Давно, значит, сбежал». Небываев лег на камни у потухшего костра. Страшно было подумать, что отряд остался без проводника.
— Вот тебе и враг! — сказал он еле слышно. И другой голос ответил ему так же тихо:
— Неладно что-то, товарищ комиссар.
Небываев поднял голову. Десюков стоял рядом на коленях. Лицо у него было землистое, глаза блестели при луне.
— Я за этим чертом доглядаю. И вчера он куда-то уходил. В голову не пришло. Думал — по своей нужде человек отлучился. Расстрелять бы этого человека.
— Расстрелять.
Больше они ничего не сказали. Долго сидели молча, не разжигая костра. И все блестела ложка на камне у холодных углей. Ущелье наполнялось синим предрассветным дымом. Вдруг такая же синяя тень легла у ног Небываева. Он поднял винтовку!
К костру подошел Олешек. Он был мокрый до пояса и тяжело дышал. Небываев и Десюков переглянулись, но ни о чем не спросили. Олешек присел рядом с ними, выбил огонь из огнива, долго закуривал. Трубочка его не горела. Сердце его не выносило лжи.
— Убей Олешека, — сказал он Небываеву.
— Мы думали, ты совсем ушел и нас оставил.
Странными показались Олешеку слова комиссара. Он вздохнул, поднял блестевшую ложку, положил на вьюк.
— Луна светла, — сказал он, — а следа нет. Я искал его две ночи и буду искать, пока не найду. Десять раз я пересек ущелье. След должен быть внизу, у воды. И вернуться нам тоже нельзя. Нет мха для оленей. Они съели его. Надо идти вперед.
Небываев прислушался к молчанию рассвета. Не было слышно ни ветра, ни птиц.
— Пойдем вперед, — сказал он. — Но почему ты ищешь след ночью?
— Пусть люди спят и не думают о потерянном следе. Тогда днем их ноги будут крепче.
Небываев тихо рассмеялся, протянул руку к Олешеку, прижал его к плечу, как друга.
От Олешека пахло кабарожьей шкурой, туманом и табаком.
— Ищи, браток, мы тебе верим. Мы идем не за золотом, не за шкурами. Мы идем за советской властью. Понимаешь?
— Как же! — серьезно ответил Олешек. Еще реже стал попадаться ягельник. Олени шли медленно. Глаза их гноились, трескались копыта. И когда Олешек не находил белого мха, он солил для них камни. Они слизывали с солью розовый лишайник и казались сытыми. Но все же каждый вечер Олешек выбирал среди них самого печального с широко открытыми глазами и показывал на него партизанам.
Те кричали: «Зарежь его!» и Олешек вонзал свой якутский нож в затылок оленя. Но и после этого глаза оленя оставались открытыми. Пламя костра отражалось в них, и долго на их стеклянной поверхности держалось выражение муки.
Олешек высасывал мозг из голеней, вешал кости и шкуру на дерево. А Устинкин варил в бидоне мясо. Он теперь не делал пирожков, и тоска сидела в его огромном теле. Оленина была жестка и, даже изрядно посоленная, не давала без хлеба ни сытости, ни вкуса.
Страна становилась обширней и пустынней. Ошеломляла глушь, бесптичье, тысячи и тысячи километров на запад, на север, на юг.
Небываев часто спрашивал Олешека, куда они идут. Однажды на привале он показал ему карту и компас и заглянул с сомнением в узкие глаза Олешека. На компас Олешек посмотрел равнодушно, но карту разглядывал с любопытством. Он узнал в этих линиях реки, горы и берег своих кочевок. Его изумило искусство красного начальника, нарисовавшего землю якутов и овенов. Ему представлялось, что Небываев долго вышивал свою карту, как женщины вышивают каптаргу — кисет. Но он мог бы указать на ошибки: Немуй течет не так, и Керан начинается не отсюда. Олешек, присев на землю, обугленным сучком исправил карту императорского географического общества и ласково кивнул Небываеву, чтобы тот не обижался. И он, Олешек, делает ошибки. След обманул его в этой долине. Но куда бы тунгус ни вошел, он выйдет. И, чтобы подтвердить это, Олешек показал на карте, где проходит зимняя тропа, где лежит север, запад и юг. На востоке же — море.
Глаза его, чуть улыбаясь, смотрели вверх, на комиссара.
— Откуда ты знаешь это? — спросил с удивлением Небываев.
Олешек пожал плечами.
— Я видел: молодые птицы улетают осенью раньше старых. Откуда они знают дорогу?
Небываев рассмеялся. Лукав был этот Олешек в своих ответах. И как смышлен! Он полюбил его за дни похода.
Привязались к нему и партизаны и даже суровый Десюков, который называл его дьяволом. Казалось не так страшно, когда впереди шагает Олешек в своей летней дошке, в штанах из оленьей кожи и олочах, подвязанных лосиными шнурками.
С открытым, широким лицом, худощавый, ловкий, он никогда не жаловался на усталость. Винчестер за его плечами лежал, как пришитый. Олешек не клал его, как партизаны, на вьюк. И постель свою — кабарожью шкуру — нес подмышкой. Он жалел оленей.
А путь становился все тяжелей. Целый день поднимались на сопку, заросшую низким кедровым сланцем. Ползучие кусты, точно хмель, цеплялись друг за друга и покрывали склон сплошной корой. Олешек пошел по зыбким, пружинящим кустам, как акробат по сетке. Олени на подъеме долго выбирали, куда поставить копыто; от усилий капли крови выступали на раковинах ноздрей; шерсть прилипала к кедровым шишкам, еще неспелым, клейким от смолы. Партизаны продирались через кедровник, как по глубокому снегу. И когда, наконец, поднялись, нашли на высоте болото. Даже Олешек крикнул от злости и ударил оленя ногой.
Те же лиловые ирисы качались и здесь, над ржавыми лужами. Шелестели кусты голубики. Душила мошкара.
Ким упал на землю и приложил к луже мгновенно распухшие от укусов губы. Партизаны замотали лица и руки бинтами, и бинты тотчас же почернели от гнуса. Никто не нагнулся, чтобы набрать голубики. Олени закрыли глаза, сжали ноздри и, гремя вьюками, бросились через болото вперед. Люди бежали за ними. Мошкара беззвучно толклась над головами. Олешек поминутно оглядывался — не упал ли кто-нибудь. Крепки были красные, он гордился ими.
Ночевали на противоположном склоне, поросшем ельником. Болото осталось позади. Но гнус и комары не исчезали.
Олешек развел дымокур, окружив его жердями, чтобы защитить от оленей. Они не отходили от огня, жались к дыму, топтали горящие сучья. Пахло паленым рогом и шерстью.
Усталые партизаны с распухшими лицами засыпали не надолго и просыпались для новых мучений. Звон стоял от комаров. Жажда их была так же велика, как и страдания людей. Хоть раз напиться крови за время короткой жизни! Ничего живого не было кругом. И когда утром Небываев снял свою парусиновую рубаху и штаны, чтобы вытряхнуть набившуюся золу, партизаны с удивлением обступили его. Он был татуирован. Будто портной покроил на его теле одежду и отметил кровавым мелком. Комары жалили по шву.
Они были страшней, чем голод. И, не дав подкормиться оленям, партизаны ушли.
После перевала места стали веселей. Тайга лежала под ногами дугой. Черными клубами она катилась вниз по ущельям. Тайга! Олешек торопил. Тайга, она казалась теперь благодатной. Но это был только обман. Она приняла их так же сурово, как и горы.
Все утро продирались сквозь лес, поваленный бурей. Пихты и лиственницы лежали крест-накрест. Два урагана пронеслись над ними. Один повалил на север, другой — на восток. Мелкий кустарник бряцал, как железо, скрывая ямы, наполненные черной водой. Олени ломали ноги. Их прирезывали и мясо тащили с собой. Люди тонули в древесной гнили.
В полдень наткнулись на участок горелого леса и остановились перед странным зрелищем: ели возвышались голые и белые, как кости. Пожар случился весной, во время движения соков. Огонь прошел по верхушкам, съел бородатый мох, свисавший с ветвей, и затих. Поджаренная кора отвалилась, обнажив блестящую заболонь. Она сверкала под солнцем, чуть розовея, как фарфор. Отряд вошел в этот серебряный лес. В нем еще держался запах гари. Люди тащились под звон обнаженных вершин, певших, как струны. Миновали и это. А впереди снова открывались ущелья, полные до краев тайгой. Олешек нашел помет медведя и радостно крикнул:
— Амака 3, дедушка, не бойся нас, мы жалкие люди!
Перед закатом далеко на скале увидели горных баранов. Они мчались и падали с кручи вниз головой. Казалось, только спуститься — и найдешь там груду бараньего мяса. Но Олешек говорил:
— Это амака, дедушка, гонит их, и они обманывают его, как и нас. У барана рога тяжелее, чем зад. Он падает на них, как камень на камень, и снова становится на ноги.
В этот вечер подсчитали потери. Осталось всего лишь два оленя, коробка спичек, немного соли и три связки маньчжурского табаку.
Всю ночь сторожили медведя — зверь не пришел. Олешек гудел в берестяный манок, подражая дикому оленю, — никто не откликнулся. Ствол его винчестера остался холодным. На заре Олешек отважно спустился под кручу, где видели баранов, и вернулся лишь к полудню с куском гнилого мяса на медвежьей лопатке.
— Это амака убился, гоняясь за баранами, — сказал он и добавил: — Неудача идет по нашему следу.
Но отчаяния не было в его словах. Он показал Небываеву на оленя, лежавшего у костра неподвижно с розовой пеной на морде.
— Сегодня он пропадет. Не закрыть ли ему глаза? — И Олешек грустно улыбнулся.
Прирезали и этого оленя.
Последний же погиб смертью, удивившей всех. Он был ламской породы, верховой, самый выносливый и резвый. В нем еще хватало силы, чтобы с вьюком перепрыгнуть через ручей. Его берегли на тот случай, если кто-нибудь не сможет идти.
Первым сел на него Ким. Он молча показал комиссару свои распухшие в сапогах ноги. Лицо его было синее и выражало крайнюю усталость. С оленя сняли вьюки. Семь человек разделили их между собой. Олешек вырубил шест, дал в руки Киму и показал, как надо ездить на оленях верхом. И эта езда была новым мученьем для Кима. Седло лежало на самом загорбке. Шкура ездила. Худые лопатки ходили под ней, как в мешке. Чтобы не упасть, Ким то и дело перебрасывал шест, упираясь им в землю. Иногда, забываясь, он наклонялся вперед, и олень внезапно вскидывал голову, бил его рогами. Слезы сочились из-под желтых век Кима. Он ехал позади отряда, стонал и ругался по-китайски. Четыре раза он падал с седла и снова садился на оленя. На пятый раз Ким упал головой на затвор своей винтовки. Он поднялся с белыми глазами, трясясь от бешенства, снял винтовку и выстрелил. Все обернулись на выстрел. Олень и Ким лежали неподвижно рядом. Было непонятно, кто из них мертв. Ким, наконец, поднял голову, посмотрел на товарищей. Глаза его все еще были белые. — Я убил последнего оленя. Никто не сказал ни слова. Вьюки сложили тут же и сделали долгий привал.
Небываев принес Киму мяса. Он съел его лежа, прижав щеку к прикладу винтовки. Небываев дал ему еще половину своей порции. Он съел и это и напился холодной воды. Глаза его стали темней, спокойней. Он сел, разулся и начал ножом вскрывать пузыри на ногах.
Небываев отошел в сторону, положил остатки мяса на траву и долго смотрел на него невидящим взглядом. Сам он есть не мог. Шатались зубы. Каждый нажим причинял боль. Он сосал языком кровь из десен.
Цынга!
Небываев взглянул на партизан, сидевших у костра. Скрывают ли они, как и он, свою болезнь? •
Все уже кончили есть. Олешек задумчиво строгал сухие палочки для растопки; как венчик ромашки, выползали стружки из-под его ножа. Десюков разглядывал свои разбитые сапоги. Устинкин говорил о хлебе. Остальные слушали его. Рты их были широко открыты.
Небываев топором мелко, как фарш, изрубил остатки мяса и набил им карманы. Он будет сосать его по дороге. Потом лежал, курил, смотрел на желтого Кима, жадно слушавшего рассказ Устинкина. А тот все говорил о хлебе.
Отдыхали до вечера и ночевали на этом привале. Утром снова поели мяса, раздали патроны, обулись в последние олочи и двинулись дальше.
Сапоги, палатки, лишняя одежда остались висеть на деревьях.
Каждый, как Олешек, нес подмышкой свою оленью шкуру и за плечами винтовку. Патронташи давили грудь. Оттянутые под сумками ремни врезались в поясницу. Ким хромал. Небываев сосал рубленое мясо вместе с кровью из десен. Но никого еще не покидала бодрость. И ночью, лежа у костра, они пели. Начинал партизан Степунов. Опрокинувшись навзничь и глядя в небо на вырастающие над тайгой созвездия, он затягивал дурацкую песню:
— Три старушки охнули! — пел он жалобным и высоким голосом.
— ...ну-ли... ну-ли... — подхватывали торжественными басами конопатые братья Коняевы.
Пел Рыжих — парень с красивыми глазами; пел Устинкин; пел суровый Десюков, не меняя серьезного выражения лица.
Небываев смеялся, с трудом обнажая больные десны. А Олешек слушал, и песня казалась ему прекрасной.
Засыпали поздно, под влажно сиявшими звездами, а во сне бредили хлебом. Наутро снова вставали и шли. Целый день брели по болоту с лицами, закрытыми марлей. Устинкин задыхался, сбрасывал комарник. Его грузное тело не выносило лишений. Он отставал, шатался, рот его яростно чернел на искусанном лице. Ким, прихрамывая, вел его под руку.
На привале Устинкин сел на кочку. Ломило крестец и ноги. Глаза слезились, и слезы разъедали глубокие расчесы на скулах. Было больно прикоснуться языком к нёбу. Он засунул пальцы в рот, вынул зуб из ослабевших десен и положил его на ладонь. Потом поднес Небываеву и взял комиссара за грудь.
— Зачем ты отдал муку тунгусам? Мы все были бы сыты.
Олешек закричал. Партизаны бросились к Устинкину.
Небываев остановил их взглядом. Наступило полное молчание. Как в пропасть, все полетело в тишину — люди у костра, болото и сумрак над краем его.
И в этой необычайной тишине тайги и мари, ничтожным звуком, не громче шороха упавшего листа, показался Олешеку голос комиссара:
— Какой же ты большевик, если за советскую власть потерпеть не можешь?!
Устинкин облизнул распухшие десны, выплюнул кровь и отошел.
Олешек пытливо и с уважением смотрел на красных.
Большевик! Что это за слово, которое заставляет человека забывать страдания?
Он обвел глазами каждого из русских. Он не узнавал их теперь. Одежда изорвалась в клочья, лица их обросли бородами, веки налились кровью, а губы сурово молчали. И никто больше не вспоминал о муке, отданной голодному стойбищу.
«Чего хотят они? Если в Аяне их ждет смерть, то зачем они идут ей навстречу? Если же там нет врага, то зачем они ищут его?»
Олешек обратил глаза и ладони к земле, спрашивая у нее ответа. Молчала трава, молчали кустики клюквы и мох.
Но как бы там ни было, Олешек ведет этих-людей и должен о них заботиться. Он подошел к Небываеву, ткнул пальцем в свои десны и сказал:
— Надо, однако, искать черемшу 4.
Он ушел с одним ножом, оставив винчестер у костра, и вскоре вернулся, неся подмышкой пучок травы. Она пахла острей чеснока, листья 'же были широкие, как у ландышей.
— Ешь! — строго, сказал он каждому. А Устинкину дал черемши вдвое больше. — Ты будешь здоров.
Олешек привел партизан на черемшовое поле. В тени широких листьев долго держалась роса. Казалось, и она пропахла чесноком.
Тут провели они полдня и двинулись дальше. Каждый нес на спине вместе с винтовкой огромную охапку черемши. Они ели ее, медленно шагая вперед.
Устинкин не жаловался уж на боль в крестце. Небываев не сосал кровь из десен. Но напрасно крепли зубы. Дрожа от голода, он пил воду из луж.
Снова вошли в ущелье. Поднялись, топча росшие по камням смолевки, и увидели охотника. Он будто скользил с обрыва и будто не двигался, прячась за вершину пихты, росшей под скалой.
Охотник был в дохе, в рысьей шапке и нагруднике из беличьих лапок. Голенища расшитых торбасов были подвязаны к поясу. Дуло кремниевого ружья торчало над левым плечом.
Все разом остановились.
Небываев крикнул:
— Эй, человек!
Пихта, колыхаясь, шумела, как тополь.
Олешек тронул комиссара за рукав.
— Он мертв и не может ответить.
Подошли ближе. Только тогда заметили, что к ногам охотника подвязаны лыжи.
— Он гнался по снегу за зверем и напоролся на сук, — сказал со страхом Олешек.
Партизаны взобрались на обрыв. Тут нашли они санки, которые тунгус берет с собой, когда уходит один далеко, надеясь вернуться с тяжелой добычей. Охотник стоял к ним спиной. Смерть настигла его на лету. Сук пробил ему грудь и торчал из спины сквозь доху. Пронзенный охотник висел на пихте, скрытой под обрывом. И лыжи его еще выражали стремительность. На санках лежал олений мешок для спанья, под мешком — чайник, котелок, берестяный турсук, полный сушеного мяса, истолченного вместе с кедровым орехом, и три ржаных лепешки.
В тряпочке Олешек нашел еще зубы диких оленей — счет убитых животных.
— Вот кто привел нас сюда, — сказал Олешек. — Он взял с собой все, чтобы идти по черной тайге, которая шумит вокруг всей земли и неба. Только чем он теперь нарубит веток для костра? Топор его остался в долине.
— Да, браток, — сказал повеселевший Усгинкин. Он грыз заплесневшую каменную лепешку, слизывая с ладони крошки. — Долго твой топор будет дожидаться на осине хозяина, а хозяин на пихте — топора. Зря, выходит, я тебя послушался.
Олешек не взял бы у мертвого человека ни муки, ни мяса, даже если бы умирал с голоду. Но, глядя, как партизаны хлебали мясную похлебку и сила и радость возвращались на их истощенные лица, он подумал:
«Не правы ли они, когда берут у мертвых?»
Найденные припасы подбодрили всех. Еще на ужин осталось по горсти сушеного мяса. Стало легче идти. Миновали короткое ущелье и спустились в лесистую долину. Олешек повернул на восток. Размашистые лиственницы предвещали близость моря.
В небе стояли орлы. Чмокали белки над головами. Партизаны залпами расстреливали их и, как картошку, пекли на углях. Олешек грабил норки лесных мышей, набирая зараз по два полных кармана орехов. Шлялись медведи по сопкам, розоватым от листьев брусники. Вверх по ручьям прыгала через перекаты горбуша. Она уже озубатилась, истощилась в мелкой воде, и партизаны ударами ног выбрасывали ее на камни. Олешек палкой разгребал на берегу под хворостом кучи лежалой рыбы. Это медведи зарывали ее впрок, отгрызая голову. — Близко тропа, — говорил Олешек. И, бросая охоту, красные шли дальше. Утром увидели первый след — траву, втоптанную олочем в землю. А через час услышали звон жестяной погремушки. Они рассыпались, цепью окружая этот звук.
По тропе шел тунгус на семи оленях. На переднем, положив шест поперек, сидела девочка. Олень гремел бубенцами, а девочка курила.
Тунгус, увидев людей, спешился и, взглянув на их лица, снял с оленя вьюк с мукой. Ему незачем было спрашивать, кто эти люди и чего они хотят.
Это был последний привал перед Аяном. Веселый привал! Устинкин месил тесто прямо в мешке с мукой. Олешек не успевал поворачивать на огне насаженные на палочки лепешки. Им не давали покрыться коркой и ели сырыми.
Насытились скоро. Потом сели у костра курить. Тунгус рассказывал странные новости.
— В Аяне — советская власть, — говорил он, косясь на синий дым своей трубки. — Она пришла по Лене, Алдану и Мае, чтобы накормить наш край. Она пришла с товарами, и имя ей — Холбос 5. А в бухте напротив Аяна стоят японские солдаты на корабле, остром, как мыс Некой. Кого стерегут они, не знаю.
Со слов тунгуса Небываев не мог уяснить себе истины. Он велел задержать его, увел отряд с тропы и, безоружный, отправился один на разведку.
Аян открылся перед ним на плоском берегу, прижатый к сопкам огромной бухтой. Отсюда, как храм, был виден японский миноносец.
Небываев нес свою усталость, словно груз на спине. Останавливался, вздергивал плечи, опускал голову.
Он вернулся к вечеру с человеком, обутым в ичиги из дымленой коровьей кожи.
Человек был коренаст и рыж. Он бодро сказал партизанам:
— Я председатель временного Аянского ревкома и уполномоченный Якутского комитета партии. Вы поступили хорошо, что не вошли в Аян. Это было бы вредно для советской власти. Мы с великим трудом доставили из Якутска товары, чтобы снабдить голодных тунгусов. Мы открываем первые советские фактории. Но японцы получили сведения от американской шхуны, заходившей в Удскую губу, что по берегу движется большой партизанский отряд. Они ждут вас. Им нужен повод, чтобы открыть огонь. Мы же не поддадимся на эту провокацию. Я выслал вам навстречу по аянской дороге якутов, чтобы остановить вас. Они дошли до Джуг-Джура, никого не встретив. И это к лучшему. Вы — большевики. В силу данных мне партией полномочий я предлагаю отряду немедленно уйти в глубину тайги, обогнуть Аян по сопкам и, выйдя на нельканскую тропу, направиться в Якутск. В двух днях пути от Аяна вас будут ждать на тропе олени и припасы...
Кончив свою речь, человек задумался, и вместе с ним задумались остальные. Еще было светло. Голубые аянские ели бросали широкую тень. Олешек глядел на пепел, вспухавший, как пена в котле.
Небываев сидел рядом, обхватив колени и подняв голову. Тонкие струпья покрывали его потрескавшиеся руки. Небольшие карие глаза смотрели ясно из-под распухших век. Взгляд был полон готовности как угодно отражать удары врага: голодом, усталостью, оружием.
Он поднялся.
— Товарищи, собирайся дальше! Ким топтался на месте. Углы его толстых губ отметила лиловой полоской цынга.
— Значит, не будем драться?
— Не будем.
Устинкин неподвижно лежал на траве.
— В бане бы помыться...
Степунов тихо тянул свою дурацкую песню. Десюков уже собирался в путь.
А Олешек все глядел на пепел, нараставший на углях. Винчестер его висел на сучке. Олочи сушились у огня. Он как будто никуда не собирался.
Олешек сидел, вытянув босые ноги, думал о красных: «Зачем они искали врага и, найдя его, замученные, голодные, снова уходят в тайгу, более страшную, чем враг?»
Он слышал рыжего и теперь понял это, изумившись их преданности его нищему, голодному племени.
Олешек обулся, раскидал костер, снял с сучка винчестер и подошел к Небываеву.
Он подал ему обе руки в знак почтения, словно старому человеку. И Небываев подумал, что Олешек прощается. Ему было жаль расставаться.
— Уходишь? Ну, прощай!
— Нет, — ответил Олешек. — Назови мне то место, где можно сделаться большевиком. Если надо, я выйду с тобой на большую реку, за каменный Джуг-Джур. Там, говорят, тоже тайга.
Небываев крепко пожал ему руку.
— А дальше не хочешь? В город? Там нет тайги.
— Если надо, пойду с тобой в город. Что сказал, то сказал. Возьми меня.
Партизаны уходили в тайгу, толкая свои усталые ноги. Олешек шел с ними рядом. И пихты, одетые в синюю хвою, качали лапами, словно одобряли их мужество.
А девочка, с лицом, обращенным вслед уходившим, долго стояла на тропе.
*****************************
1. Овены — тунгусское племя, живущее на побережье Охотского моря.
2. У тунгусов-охотников есть разные знаки, часто заменяющие им письменность. Сучок, положенный поперек запрещает идти в этом направлении. Ветка, воткнутая в зарубку на дереве, говорит, что близко есть человек.
3. Амака — по-тунгусски дедушка; так зовут тунгусы медведя, когда ласково обращаются к нему.
4. Черемша — растение, исстари известное в Сибири как чудесное противоцынготное средство. Приискатели, нанимаясь на золотые промысла, ставили в договоре условие, чтобы хозяин каждый день давал стакан водки и миску соленой черемши.
5. Так называют якуты кооперацию.
/Р. Фраерман. Повести о Дальнем Востоке. Москва. 1938. С. 45-46./
*
«Не миновали эвенов и сталинские «хватуны»: были арестованы все шаманы, богатые оленеводы, зажиточные жители приморских селений, только что рожденная интеллигенция... Куда же их разместить? Не в лагерь же! - не дай Бог, убегут да других уведут, не поймаешь, ведь тайга, горы, снег для них - дом родной. Выход нашелся простой и эффективный: эвенских арестантов поместили на большую старую баржу, вывели ее далее в море, отцепили от буксира, открыв перед этим доступ в трюм воде. Пожалуй, были и другие способы, но этот затмил все. Лично мне довелось видеть только одного бывшего эвена-арестанта, но он абсолютно не вступал ни в какие контакты с европейцами». /Стафан Казлоўскі (в. Талюшаны Астравецкага р-на, Беларусь). Кароткі нарыс гісторыі і культуры народаў Паўночна-ўсходняй Сібіры эвенаў і юкагіраў (па уласных назіраннях і іншых крыніцах). // Беларусь – Японія. Матэрыялы другіх міжнародных чытанняў, прысвечаных памяці Іосіфа Гашкевіча. Мінск – Астравец, 9-10 кастрычніка 2002 г. Мінск. 2003. С. 137-144./
Впервые эту книгу читают обычно в 14-16 лет. Это первое чтение оставляет прочное воспоминание о чем–то поэтическом, возвышенном и вместе с тем близком и хорошо знакомом. А. Толстой о « Дикой собаке Динго» отзывался так: «Повесть света, пропитана тончайшим, невинным благоуханием любви (раньше выражались «Эросом»), ощущением природы и добротой» (Из письма А. Толстого М. Черному; 22 февраля 1940 года).
«Повесть о первой любви» посвящена нравственным проблемам, ее конфликт – в сфере интимных человеческих переживаний. Первая любовь девочки Тани, горькие переживания ее из-за того, что она растет без отца, непреодоленная любовь Таниной матери к уехавшему от нее мужу, чистая привязанность нанайского мальчика Фильки к Тане, сложные переживания Таниного отца, поздно понявшего, каких больших радостей лишил он себя, устранившись от воспитания дочери, — все это сплетено так плотно и естественно, как бывает только в жизни.
Таня предстает перед нами в один из наиболее сложных в человеческой жизни периодов – когда уходит детство и наступает первая пора возмужания. В эту пору человека часто посещают какие–то неясные мысли, становится неинтересным еще недавно любимое и начинают появляться странные желания. Это смутное томление воплощено в названии повести – Тане вдруг захотелось увидеть австралийскую дикую собаку Динго... Сложные эти переживания создают особую поэтичность образа Тани. «Что же сегодня получилось? Неужели бегущая к морю река навеяла на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда хотелось ей плыть? Зачем она ей? Или это просто уходит то нее детство? Кто знает, когда уходит оно?» С особой правдивостью, проникновенностью и поэтичностью показана в повести первая Танина любовь – весь ее трудный путь, начиная от туманных предчувствий и непонятных настроений, которые ей предшествовали.
В этой повести есть даже свой юношеский «любовный треугольник». Лирично, мягко, с неуловимо грустным оттенком показана любовь к Тане нанайского мальчика Фильки. Сложность Таниного духовного возмужания, ее смятенность, устремленность в неведомое противопоставлены ясности внутреннего мира маленького нанайца.
Филька, от дедов унаследовавший умение читать великую книгу природы, с самого раннего детства уяснивший себе основной закон суровой таежной жизни – никогда не оставлять человека в беде, первый из своего рода приближается к знаниям, к культуре.
Сходство этих двух характеров в повести – сложного Таниного и пленительно-ясного – Филькиного, чистая дружба детей, застенчивая любовь Фильки к Тане усиливают поэтическое звучание всей повести. Очень лирично, мягко, с неуловимо грустным оттенком показана автором и любовь Фильки к Тане. Бесконечно предан он ей и никогда бы не рассказал о своей любви. Лишь предчувствуя разлуку с Таней, решается мальчик на поступок, который может прийти в голову только шестнадцатилетнему влюбленному человеку: «... плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни, а на груди, темной от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно.
Она прочла: «ТАНЯ».
Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов».
Встречей верных друзей – Тани и Фильки – открывается действие повести; ему первому она рассказывает о своем странном желании увидеть дикую собаку Динго. Их последней встречей повесть заканчивается. В момент прощания с Филькой, со своим родным городом, с детством Таня больше уже не вспоминает об экзотической собаке: она поняла, что и близкий ей мир полон чудес и неожиданностей. Многое из того, что для нее недавно было неясным, загадочным, прояснилось, стало значительно более понятным. Она прошла короткий, но содержательный путь духовного возмужания, она стала взрослой.
В статье «... или Повесть о первой любви», рассказывая о том, как писалась «Дикая собака Динго...», Р. И. Фраерман вспоминает таежный поход партизан Дальнего Востока, в котором он был комиссаром. И признается: «Я узнал и полюбил всем сердцем и величественную красоту этого края, и ее бедные, угнетенные при царизме народы. Особенно я полюбил тунгусов, этих веселых, неутомимых охотников, которые в нужде и бедствиях сумели сохранить в чистоте свою душу, любили тайгу, знали ее законы и вечные законы дружбы и любви. Там я нашел своего Фильку».
Назначение на должность комиссара партизанского отряда Р. И. Фраерман получил в самом начале мая 1920 года. Шел ему тогда двадцать девятый год. Был он невысок ростом, по-мальчишески хрупок сложением и моложав настолько, что ему нельзя было дать его лет, хотя по паспорту значилось, что он еще старше. Но к тому времени он уже закончил Могилевское реальное училище и три курса Харьковского технологического института. В 1918 году он отправился на производственную практику на Дальний Восток и больше на студенческую скамью не вернулся. В то бурное и сложное время Р. Фраерман был тесно связан с революционной молодежью и с партийным подпольем. Он был свидетелем разгула семеновцев, японских интервентов и отличавшихся особой жестокостью местных анархистов. Боевые годы были наполнены для будущего писателя многими опасностями и тяжелыми испытаниями.
Непосредственно перед назначением на пост комиссара партизанского отряда он редактировал газету местного военно-революционного штаба «Красный клич».
Весной 1920 года в урочище Керби сосредоточились основные партизанские силы Приамурья, оставившие некоторое время назад сожженный дотла японскими интервентами деревянный, но достаточно богатый и процветающий город Николаевск – на – Амуре. На протяжении всего долгого похода молодой комиссар дальневосточных партизан с каждым днем все внимательнее вглядывался в лица шагавших рядом бойцов, изучал их разнообразные характеры, повадки, манеру держать себя в трудные минуты и тогда, когда наступал долгожданный отдых.
Ведь партизанским комиссаром стал молодой человек, который до этого писал и печатал стихи, был в душе поэтом. Он на всю жизнь запоминал краски и запахи тайги, чтобы напоить ими страницы своих книг. Тогда уже в зеленой дымке таежных зарослей впервые мелькнула тень дикой собаки Динго.
Комиссар и военрук партизанского отряда сразу после окончания изнурительно долгого похода явились к якутскому военкому и сделали подробный доклад о выполнении боевого задания, об обстановке на побережье Охотского моря. Военком выразил всему личному составу отряда благодарность от имени Реввоенсовета республики.
Комиссару приказано было на следующий день явиться для доклада в ревком, где решалась дальнейшая судьба отряда. И здесь действия партизан получили одобрение. Личному составу в добровольном порядке предоставлялась возможность или отправиться на Польский фронт, или остаться в Якутии. Почти все бойцы высказали желание ехать на фронт. Не позволили этого сделать лишь комиссару. Ревком назначил его на ответственную должность заместителя редактора газеты «Ленский коммунар». При этом в ревкоме учитывали, что у комиссара уже был кое-какой редакторский опыт, ведь еще в Керби он редактировал газету. Поэтому все его возражения были в приказном порядке отменены. Газетчики в ту пору в Якутске ценились дороже золота, а слово партизанской правды казалось дороже праведной крови, отдаваемой за революцию.
О подробностях длительного похода, о журналистской работе Р. И. Фраермана мы узнаем из его воспоминаний «Поход», опубликованных в книге М. М. Блинковой «Р. И. Фраерман» (М., 1959.) и неизвестных широкому читателю.
Писатель вспоминал: «Я сделал доклад председателю ревкома, фамилия его была Амосов. Он доклад одобрил и тотчас поручил мне новое задание, назначив меня членом редколлегии якутской газеты «Ленинский коммунар»» (в других источниках «Ленский коммунар»). О Максиме Кировиче Аммосове Фраерман пишет: «...Амосов дельный человек, образован – он историк – и охотно помогает в газетной работе... Амосов все больше и больше нравился мне. Хотя он был председателем ревкома, то есть первым человеком в целом крае, в обращении был прост. Амосов обещал помогать нам в редактировании газеты и пригласил меня и Виктора Бека завтра на обед, пообещал нас хорошо покормить». «Вина за столом не было, не было и разбавленного спирта – обычного для Севера питья. Жареное мясо показалось вкусным, а суп не понравился – он был темного цвета, немного пенистым, причем пена тоже была темная. Тем не менее мы наелись до отвала. И когда уходили к себе в редакцию, Амосов, улыбаясь, спросил – а знаете ли вы, что ели мясо молодого жеребенка? Я пришел в ужас, так как конину ел впервые... Однако ничего не случилось, жеребятина прошла благополучно. Мы вернулись домой с Беком сытые и довольные, закрылись в газетную бумагу и проспали до утра блаженным сном».
«Однажды в редакцию пришел Амосов и сказал, что ревком посылает меня в качестве корреспондента на Сибирский съезд работников печати. И чтобы я немедленно готовился к отъезду. Амосов тоже едет в командировку в Москву и проводит меня до тогдашнего центра Сибири города Ново- Николаевска».
Максим Кирович заботился о своем спутнике: «Амосов отозвал меня в сторонку и сказал, что он беспокоится, как бы я не заболел тифом, предложил мне снять верхнюю и нижнюю рубахи, и когда я разделся, он повесил мне на голую грудь мешок, наполненный нафталином, так как паразиты не терпят этого запаха». Дальше Фраерман пишет: «... я... обратил внимание на ведерко из белой жести, которое Амосов таскал с собой в поездке.
– Что это за ведерко? – спросил я у него.
– А ты загляни и узнаешь, – ответил он.
Я приподнял крышку: ведерко было наполнено маслом.
– Правильно – это топленое масло, которое я накопил из молока моей единственной коровки, – сказал Амосов. – Ведь я крестьянин – бедняк, а стал председателем ревкома.
– А зачем тебе масло?
– Я его везу в подарок Ленину и расскажу ему о нашей далекой стороне и подарю ему это масло. Пусть ест на здоровье!».
В Ново-Николаевске спутники простились.
«Он обнял меня, как родного сына. – И мне показалось, что в его монгольских глазах, чуть прикрытых толстыми, припухшими веками, блеснула скупая слеза.
Я поцеловал его с почтением и нежностью и сказал:
– Прощай! Спасибо, дагор. Ты счастливый человек, ты увидишь Ленина, будешь беседовать с ним и скажешь ему, как мы любим его и думаем о нем».
Я решила сравнить написанное Фраерманом с биографией М. К. Аммосова, так как могут возникнуть вопросы: почему Амосов, а не Аммосов; почему « обнял, как отец и «любил, как родного сына», хотя Максиму Кировичу в 1920-21 годах было 23-24 года (он родился 10 (23) декабря 1897 года), а Фраерман родился в 1891 году, ему было 29-30 лет, и получается, что он даже старше Амосова.
1. «В редакционной комнате я увидел большие кипы газетной бумаги, заготовленной для издания «Ленинского коммунара», а на этих кипах спящего человека, укрытого с головой листами газетной бумаги. Мой приход разбудил его, он скинул с себя старые газеты и поднялся на ноги. Я сказал ему, что ревком назначил меня членом редколлегии и я пришел познакомиться с предстоящей работой. Он тоже представился. Как уже старый член редколлегии, и назвал свою фамилию – Бек, а по имени Виктор».
Я пользовалась книгой «Максим Аммосов – политический и государственный деятель тюркских народов СССР» (Якутск, 2001). На странице 50 читаем: «Вокруг Максима сплачивалось все больше новых соратников из числа рабочих и учащейся молодежи: Богдан Чижик и Габит Тахватуллин, Иван Редников и Виктор Бик, Вера Синеглазова и Рая Цугель...».
По-моему, Виктор Бек у Фраермана и Виктор Бик, соратник М.К. Аммосова, одно и то же лицо.
2. Фраерман называет Амосова председателем ревкома.
В биографии М.К. Аммосова читаем: «Выехали на неделю позже, чем намечалось, и 19 мая группа Аммосова погрузилась, наконец, на пароход и баржу. (...) Вечером в клубе приказчиков устраивается митинг.(...) На другой день Аммосов избирается председателем оргбюро Якутской организации РКП (б) и еще через день назначается председателем Якутского ревкома» (стр. 97).
Все правильно, и год – 1920-й – совпадает.
3. «Амосов – едет в командировку в Москву».
В биографии Аммосова читаем: «В феврале 1921 года Максим Кирович выехал из Якутска в Москву на очередную сессию ВЦИК».
По времени и в сущности совпадает.
4. О предстоящей встрече с Лениным.
Дочь М.К. Аммосова, Лена Максимовна Амосова в статье «Легенды и были об М. К. Аммосове» (стр. 344-352) пишет: «14 февраля 1990 г. я послала запрос в архив ЦК КПСС о встречах с В. И. Лениным. Ответ был дан отрицательный, при этом привели полностью все высказывания личного секретаря Фотиевой по данному поводу, в частности, ее записку к В. И. Ленину, когда папа представил ему на подпись телеграмму: «Аммосов просит...». Лично меня такая форма обращения убедила в обратном: когда к главе государства обращаются без пояснений, то это означает, что он знает не только должность указанного человека, но и его самого (...)
Кроме того из воспоминаний Н. К. Захаренко, Кропачева, мамы, Д. С. Жирковой, и особенно ее мужа, М. Н. Аблязина, экономиста, математика, отличавшегося большой педантичностью, скрупулезностью, известно, что во время отдыха после охоты у костра отец рассказывал не только о своих встречах с В. И. Лениным на съездах и партконференциях (когда он мог его видеть и наблюдать издали), но и о немногих личных беседах с ним.
На стр. 103 этой книги содержится текст приветственной телеграммы конференции. Ниже написано:
«Согласен с указанными исправлениями, Ленин».
К сожалению, не задокументировано, как и при каких обстоятельствах Ленин поручил Аммосову подготовить приведенный выше текст приветствия якутской бедноте. Но нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что вождь Коммунистической партии и Советского государства избрал для исполнения этого поручения именно М. К. Аммосова, которого он знал и которому вполне доверял: «Товарищ Ленин поручил мне передать...».
Значит, документального подтверждения встрече М. К. Аммосова с В. И. Лениным в архивах нет, но встречи на съездах и партконференциях и личные встречи (по воспоминаниям самого Аммосова) были.
В Ново-Николаевске (ныне Новосибирске) Р. И. Фраерман работал в центральной газете Сибири - «Советская Сибирь» под руководством Емельяна Ярославского. За это время Р. Фраерман прошел серьезную школу газетчика, приобрел журналистский опыт. У него появилось много друзей и знакомых, завязались связи в местных литературных кругах, что имело определенное влияние на формирование будущего писателя. Главным итогом этого отрезка жизни было знакомство, даже дружба с большим партийным публицистом и общественным деятелем, каковым был Емельян Ярославский.
Так начался в жизни Р.И. Фраермана новый период, связанный с работой в Москве и Батуми, весьма плодотворный и важный для его творческого развития.
Якутский период жизни Р.И. Фраермана был непродолжителен, но и в человеческом, и в творческом плане дополняет биографию писателя, так как его произведения 30-х годов посвящены Дальнему Востоку, краю, таящему в себе «для человеческой деятельности необозримые богатства и неограниченные возможности».
Русские писатели Сибири проявляли большое внимание к изображению жизни больших и малых сибирских народов, к воссозданию национальных характеров якутов, бурят, эвенков и т. д. Тема революции и гражданской войны вошла в творчество Фраермана именно в этом особом сибирском ракурсе. Революция и гражданская война показаны главным образом в свете их влияния на судьбы малых народов Сибири – нивхов, эвенков (тунгусов), нанайцев (гольдов) и т. д. В эти годы были написаны «Великое кочевье» А. Коптелова, «Большой аргиш» М. Ошарова, «Чукотка» Т. Семушкина, «Воскресшее племя» В. Тана-Богораза, «Человек бежит по снегу» Н. Вагнера, «Пята тысячелетий» и «Борька в тундре» П. Пунуха, «Ой-хо» И. Карнауховой, «Жизнь Имтеургина-старшего» Т. Одулока, «Тансык» А. Кожевникова, «Охотники на Имане» Вс. Лебедева.
Р. Фраерман одним из первых обратился к изображению поворота сибирских народов к новой действительности, к строительству социализма. Им написаны повести «Огневка», «На мысу», «Соболя», «Васька-гиляк», «Афанасий Олешек» (книжный вариант повести «Никичен»), стихотворение «На рассвете».
В 1934 году Р. Фраерман вместе с А. Фадеевым, П. Павленко и А. Гидашем, откликнувшись на призыв только что прошедшего Первого съезда писателей быть ближе к жизни, снова приехал на Дальний Восток. Писатель вновь встретился с дорогим его сердцу краем. Посетил места недавних боев Особой Краснознаменной Дальневосточной армии с японскими захватчиками. Впечатлениями от этой поездки навеяны такие произведения писателя, как рассказ «Несчастье Аи Сенена» и повесть «Шпион».
Пройдут годы со времени первой встречи Р. Фраермана с Дальним Востоком, и он создаст лучшую свою книгу «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», героями которой будут «думная» девушка Таня и наивно – непосредственный, безответно влюбленный в нее, немножко смешной и трогательный нанайский мальчик Филька. К. Паустовский писал: «Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока – о тунгусах, гиляках, нанайцах, корейцах – с такой дружеской теплотой, как Фраерман. Он вместе с ними воевал партизанских отрядах, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька – гиляк, и Никичен, и Олешек, и мальчик Ти Суеви и, наконец, Филька – все это кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинства и справедливости».
Выводы
1. Двух известных людей связывала дружба.
2. Фраерман принес определенную пользу Якутии, работая в газете и выполняя различные поручения.
3. Он сохранил о Якутии и якутянах добрую память.
4. Писатель использовал якутские мотивы в своих произведениях. В повести «Никичен» первая глава называется «Говори, дагор, Ламское море!». Якутия на востоке граничит с Хабаровским краем и Магаданской областью. В начале XX века якутские купцы ввозили товары из Китая и Японии через морской порт Аян до с. Нелькан, а дальше до Якутска. Охотское море якуты называли Ламским морем, или Лаамы. Тракт Якутск – Охотск тянулся на 1025 верст, имел 14 почтовых станций. Поэтому малые народности Дальнего Востока – тунгусы, долганы, гиляки, нанайцы, – были знакомы с якутами, якутской культурой и якутским языком. В повести «Никичен» мы встречаем якутские слова, включенные в тунгусскую речь: «олочи», «ураса»; «капсе», «дагор». Кроме того, на протяжении всего долгого дальневосточного похода молодой комиссар партизанского отряда с каждым днем все внимательнее вглядывался в лица шагавших рядом бойцов, изучал их разнообразные характеры, повадки, манеру держать себя в трудные минуты и тогда, когда наступал долгожданный отдых. Всем этим можно объяснить появление якутских мотивов в его произведениях. В «Повести о первой любви.» мы видим в руках Фильки охотничий нож, сделанный из якутской стали, в лесу растут желтые саранки (сардааны). Якутский период жизни Р. И. Фраермана был непродолжителен, но и в человеческом, и в творческом плане дополняет биографию писателя, так как его произведения 30-х годов посвящены Дальнему Востоку, краю, таящему в себе «для человеческой деятельности необозримые богатства и неограниченные возможности». В статье «... или Повесть о первой любви», рассказывая о том, как писалась «Дикая собака динго...», Р. И. Фраерман вспоминает таежный поход партизан Дальнего Востока, в котором он был комиссаром, и признается: «Я узнал и полюбил всем сердцем и величественную красоту этого края, и ее бедные, угнетенные при царизме народы. Особенно я полюбил тунгусов, этих веселых, неутомимых охотников, которые в нужде и бедствиях сумели сохранить в чистоте свою душу, любили тайгу, знали ее законы и вечные законы дружбы и любви. Там я нашел своего Фильку».
Литература
1. «Максим Аммосов – политический и государственный деятель тюркских народов СССР», Якутск, 2001.
2. Аммосов М. К. «С помощью русских рабочих и крестьян», Якутск, 1967.
3. Аммосова Л. М. «Легенды и были об М. К. Аммосове» (344-352 стр.,1), Якутск, 2001.
4. Блинкова М. М. «Р. И. Фраерман», М., 1959.
5. БСЭ, т.27, М., 1977.
6. Васильев Н. И. История Якутии, Якутск, 2004.
7. Винокурова Л. Е. Статья в Календаре знаменательных и памятных дат «Якутия – 2007», Якутск, 2007.
8. Гражданская война на Дальнем Востоке (1918-1922), М.,1973.
9. Макаров Д. С. «Максим Яркий», Якутск, 1992.
10. Пестерев В. И. «История Якутии в лицах», Якутск, 2001.
11. Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», М., Детгиз,1956.
12. Фраерман Р. И. «Избранное», М., «Советский писатель», 1958.
Р. И. Фраерман
10(22).09.1891 – родился в г. Могилёве.
1917 – закончил 3 курса Харьковского технологического института.
1918 – отправился на производственную практику на Дальний Восток.
1920 – назначен на должность комиссара партизанского отряда. Поход вдоль берега Охотского моря до Якутска.
Конец 1920 – февраль 1921 – работает в Якутске заместителем редактора газеты «Ленский коммунар».
1921 – работает в центральной газете Сибири «Советская Сибирь» под руководством Емельяна Ярославского.
1922 – новый период, связанный с работой журналистом в Москве.
1923 – корреспондент РОСТА в Тифлисе и Батуми.
1923 – Москва. Работал в статистической части, в редакции провинциальной информации.
1926 – работа в газете «Беднота». Начало литературной деятельности.
1934 – в составе писательской бригады вместе с А. Фадеевым, П. Павленко, А. Гидашем направлен на Дальний Восток (г.Хабаровск).
6 июля 1941 – ушел на фронт, вступив в ряды народного ополчения.
Участвовал в боях, работал в армейской газете.
1945-1972 – литературная деятельность.
28.03.1972 – скончался в г. Москве.
Основные произведения
1924 – «Огневка».
1926 – «Буран».
1929 – «Васька-гиляк».
1932 – «Вторая весна».
1933 – «Никичен».
1937 – «Шпион».
1939 – «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».
1944 – «Подвиг в майскую ночь».
1953 – «Желанный цветок». По мотивам китайских сказок.
1956 – «Непоседа».
1957 – «Жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца». Совместно с П. Зайкиным.
1963 – «Золотой василек».
1964 – «Любимый писатель детей: (А. П. Гайдар)».
М. К. Аммосов
10.12.1897 – родился в Хатырыкском наслеге Намского улуса Якутской области.
1906 – поступил в Намское одноклассное училище.
1910 – поступил в Якутское городское 4-х классное училище.
1914 – поступил в Якутскую учительскую семинарию.
1916 – занимается в нелегальном кружке «Первые шаги», которым руководил Е. Ярославский.
1917 – активно участвует в февральских событиях. С марта 1917г. член РКП(б). Выступает на 1-м съезде «Свободных граждан». В октябре избран членом в Совдеп.
1918 – в марте арестован Областным советом. В июле работает секретарем исполкома Совдепа. В августе арестован и выслан. С октября работал учителем в Иркутске и Томске.
1919 – как связной Сибирской подпольной парторганизации переходит колчаковский фронт и в Москве информирует ЦК РКП(б) о положении дел в Сибири. С октября находился на фронте в рядах 5-й Армии, сотрудником Реввоенсовета, политотдела 30-й дивизии, Сиббюро ЦК РКП(б) и членом Сиббюро ЦК РКСМ.
1920 – в марте назначается уполномоченным Сибревкома по организации Советской власти в Якутии. Как председатель Якутского райревкома, затем председатель губревкома руководит созданием органов советской власти. Как секретарь Якутского райбюро, губбюро РКП(б) – создает областную партийную организацию. Активно участвовал в гражданской войне в Якутии, осуществляя партийное руководство мобилизацией всех сил республики для ликвидации пепеляевского похода. Сыграл видную роль в образовании Якутской АССР как составной части РСФСР.
1923-1925 – полномочный представитель Якутской республики при Президиуме ВЦИК. По его инициативе была создана Якутская экспедиция АН СССР по изучению производительных сил края.
1925 – Председатель СНК, с 1927г. – председатель ЯЦИК.
1928 – ответственный инструктор ЦК ВКП(б).
1930 – слушатель Института красной профессуры.
1932-1937 – 1-й секретарь Западно-Казахстанского, Карагандинского и Северо-Казахстанского обкомов ВКП(б).
1937 – в марте избран и.о. 1-го секретаря Киргизского обкома ВКП(б). В июне избран 1-м секретарем Фрунзенского горкома КП(б)К. На 1-м съезде КП(б)К избран 1-м секретарем ЦК КП(б)К.
16.11.1937 – арестован в г.Фрунзе.
28.07.1938 – расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда.
28.04.1956 – реабилитирован.
Автор брошюр и книг, около 300 статей, 200 текстов докладов и речей.
********
Майя Акимова, выпускница Якутской городской национальной гимназии.
Работа была выполнена в 2008 году, когда Майя училась в 11-м классе гимназии. Руководитель: В. И. Илларионова, учитель русского языка и литературы ЯГНГ.


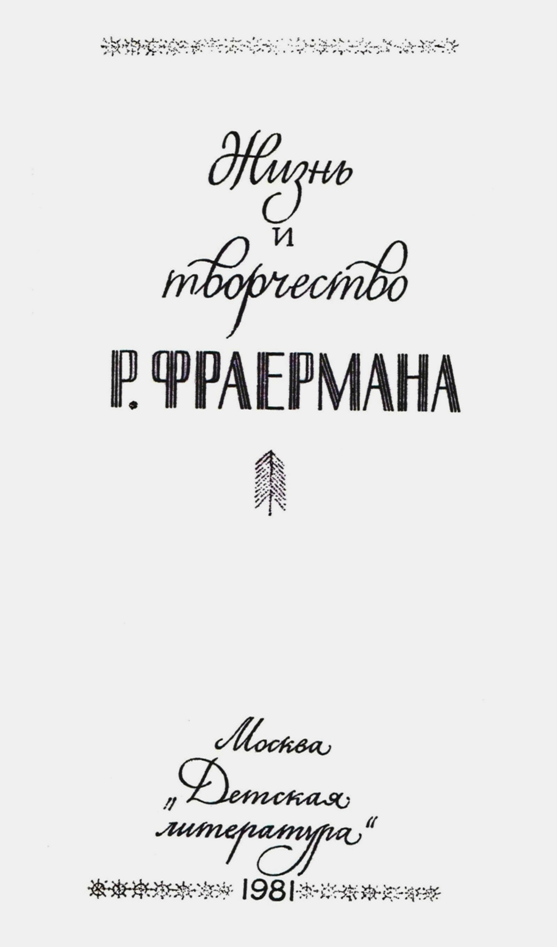












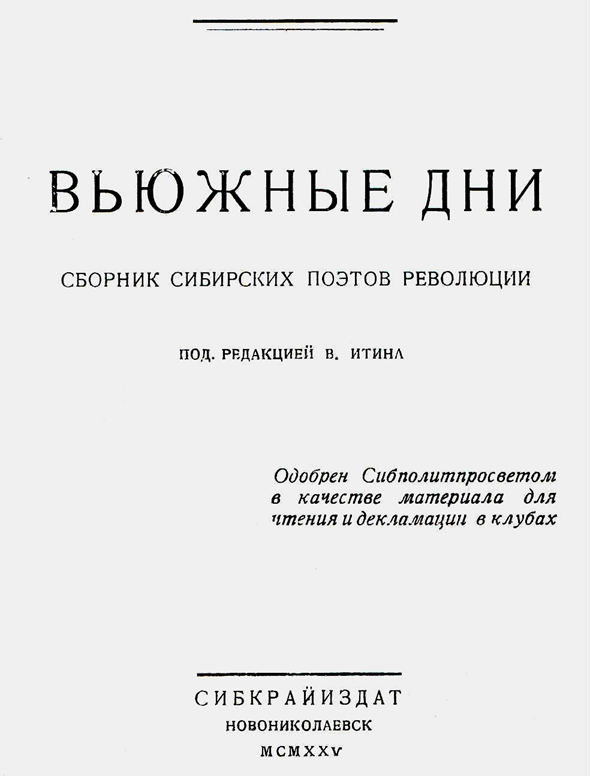















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz