Ёсель (Іосіф) Айзікавіч Рэзьнік - нар. у 1861 г., сын
мешчаніна валаснога мястэчка Івянец Менскага павету Менскай губэрні Расейскай
імпэрыі.
У
1885-1887 гадах працаваў сярод менскіх работнікаў, кіраваў гуртком. 6 лютага
1887 г. ён быў арыштаваны ў друкарні па даносу аднаго з работнікаў, які
аказаўся правакатарам і адміністрацыйным парадкам высланы ў Якуцкую вобласьць
пад галосны нагляд паліцыі на 3 гады.
Быў
паселены ў Тулагінскім насьлезе Мегінскага ўлуса Якуцкай акругі Якуцкай
вобласьці і пражыў там каля году, разам з сям’ёй, якая прыбыла добраахвотна за
ім. Затым, з-за ўскоснай датычнасьці да г. зв. Манастыроўскага ўзброенага
пратэсту сасланых, што не жадалі выязджаць ў Верхаянскую акругу, які адбыўся 22
сакавіка 1889 г. у Якуцку, Рэзьнік быў пераведзены ў акруговае места Верхаянск
Якуцкай вобласьці, куды прыбыў 24 красавіка 1889 г. Дапамагаў у працах
магілёўчаніну Сяргею Каваліку.
20
сакавіка 1892 г. Рэзьнік быў пераведзены ў Якуцк, адкуль 10 ліпеня 1892 г.
выехаў ў Менск, а праз год у Амэрыку.
Літаратура:
* Гурвичъ И.
Первые еврейскіе рабочіе кружки. // Былое. Журналъ посвященный исторіи
освободительнаго движенія. № 6/18. Іюнь. Петербургъ. 1907. С. 67, 72-74.
* Бухбиндер Н. А. Еврейские революционные кружки 80-х и начала
90-х г.г. // Еврейская летопись. Сб. I.
Петроград - Москва. 1923. С. 54.
* Кротов М. А. Якутская ссылка 70 - 80-х годов. Исторический
очерк по неизданным архивным материалам. Москва. 1925.
С. 21. С. 43, 75, 114, 126, 172.
*
Агурский С. Очерки по истории
революционного движения в Белоруссии (1863-1917). Минск. 1928. С. 35.
* Гурвич Е. А. Еврейские рабочее движение в Минске в 80-х
гг. Переработанная стенограмма воспоминаний, читанных на заседаниях секций 30
марта и 10 апреля 1928 года. // Революционное движение среди евреев. Сб. 1.
Москва. 1930. С. 46.
* Капгер А. Верхоянская ссылка. 3- изд. Москва. 1931. С. 26.
* Казарян П. Л. Верхоянская политическая ссылка 1861-1903 гг.
Якутск. 1989. С. 43, 75, 114, 126, 172.
* Багдановіч А. Я. Да гісторыі партыі «Народная воля» ў Мінску і
Беларусі (1880-1892). // Маладосць. № 12. Мінск. 1995. С. 221.
* Резник И. А. 189. // Архивы России о
Якутии. Выпуск 1. Фонды Государственного архива Иркутской области о Якутии.
Справочник. Отв. ред. проф. П. Л. Казарян. Якутск. 2006. С. 460.
Дупра Нарэзаль,
Койданава
ПЕРВЫЕ
ЕВРЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ КРУЖКИ
Начало еврейского рабочего движения в России
обыкновенно относят к концу 80-х г.г., когда возникли еврейские рабочие кружки
в Вильне. Это совершенно неверно. Широкая кружковая пропаганда среди еврейских
рабочих началась на несколько лет раньше в Минске. Там именно сложился
«шаблонный» метод, о котором говорит г. Лядов в своей «Исторіи россійской
соціалъ-демократической рабочей партіи» (стр. 132).
Единичные попытки пропаганды среди рабочих
в Минске совпадают по времени с началом социалистического движения в России. В
1875 г. в Минск приехал студент технологического института Шварц, живший под
именем Рабиновича и, с целью пропаганды, стал работать в кузнице. Вскоре он был
арестован и выслан в Вятскую губ. [* Впоследствии эмигрировал в Америку и теперь живет в
Нью-Йорке.].
Его пропаганда не оставила следов.
Продолжателем Шварца явился студент киевскаго
университета Моисей Веллер, которой успел распропагандировать нескольких
столяров. Веллер вскоре вынужден был скрыться; жил года два в Женеве, вернулся
при Лорис-Меликове и в начале 80-х г.г. покончил самоубийством. Из
распропагандированных им рабочих в Минске, насколько мне известно, не осталось
ни одного: все они с началом массовой еврейской эмиграции переселились кто в
Париж, кто в Америку.
Систематическая пропаганда среди еврейских
рабочих в Минске начата была в 1883 или 1884 году Ефимом (Моисеем) Хургиным,
вскоре по выходе его из тюрьмы, где он содержался по какому-то
народовольческому делу [* В настоящее время лидер консервативного крыла сионистов в Минске и
деятельный член благотворительных обществ, синагогальных братств и т. п.].
Летом 1884 года в Минск приехал Эмиль Абрамович, проведший год в Париже по
окончании гродненской гимназии; он попытался вступить в сношения с Хургиным, с
целью работать сообща в кружках последнего, но у Хургина конспирация была
возведена в культ. Приезжий юноша, нигде не сидевший, кажется, даже без
рекомендаций, встретил у него крайне холодный прием. Абрамович решил
действовать самостоятельно. Он свел знакомство с типографскими рабочими, как
наиболее интеллигентными, образовал кружок, стал с ними заниматься сначала
естествознанием, а сойдясь поближе, перешел к пропаганде социализма.
Абрамович имел необычайное влияние на
рабочих, не только как талантливый лектор, но и как человек редких душевных
качеств, беззаветно, до полного самозабвения преданный делу. Это был демократ
не только на словах, но и по натуре; в нем не было ни капли генеральства, с
рабочими он держал себя просто, как товарищ, без всякого проблеска
покровительственного тона; он никого не подавлял своим авторитетом, и рабочие
искренно любили его и относились к нему с глубоким уважением. Он проводил
каждое лето в Минске и отдавал все свое время рабочим вплоть до получения
звания врача в 1888 году, после чего он поселился в Киеве, где тоже положил
начало рабочему движению. Летом 1889 года он был арестован и сослан в Якутскую
область, откуда вернулся 1896 или 1897 году, к началу социал-демократического
движения в России.
Летом 1885 года я вернулся из Сибири и
поселился в Минске. По приезде и по старому знакомству зашел к Хургину, который
в то время был «генералом» в минском кружке. Он был народовольцем, я же до
ссылки примыкал к чернопередельцам, а в ссылке сделался марксистом, хотя,
должен сознаться, мой марксизм еще сильно отдавал старым народническим запахом.
Но эти теоретические разногласия в то время у нас в Минске не мешали
революционерам уживаться в том же самом кружке. Я поинтересовался состоянием
движения в Минске. Хургин мне сообщил, что в кружках его «организации»
занимается 160 человек. Для того времени это была необычайная, прямо невероятная
цифра. Я попросил его познакомить меня с рабочими, — «Я предложу вас
организации, — ответил он, — если она решит вас допустить, ладно».
С современной партийной точки зрения, он,
вероятно, был прав. Но мы в то время смотрели на дело иначе. Вести социалистическую
пропаганду среди рабочих — обязанность всякого честного интеллигента; этим мы
уплачиваем «исторический долг» народу. Раз на мне лежит обязанность заниматься
пропагандой, то отсюда с очевидностью вытекает, что я имею право требовать,
чтобы мне была предоставлена возможность выполнять эту обязанность. Наконец,
исходя из принципа свободы преподавания, я решительно не признавал ни за каким
кружком права разрешат мне занятие пропагандой: если я хочу пропагандировать
социализм, то я ни у кого не обязан спрашиваться.
Самое предложение меня и моей жены на
баллотировку кружку, в котором, кроме Хургина, нас никто лично не знал, в моих
глазах не имело никакого смысла: ясно было, что кружок может решить дело лишь
на основании рекомендации самого Хургина. Но для нас в этом видна была я
закулисная сторона: Хургин любил быть генералом и поэтому окружал себя всегда
очень юной молодежью, которая преклонялась пред его авторитетом, а в одном улье
двум маткам места нет.
По всем этим соображениям я и моя жена
заявили ему, что, не собираясь вступить в его организацию, мы просим и не
предлагать нас на баллотировку.
Въ числе моих старых товарищей был и Лев
Осипович Рогаллер, из кружка Рабиновича, отсидевший два года в виленской тюрьме
по делу Веллера и находившийся под надзором в Минске. Он познакомил меня с
Абрамовичем и наборщиком Иосифом Резником. Резник был наиболее начитанным из
минских рабочих и пользовался большим уважением в их среде. Каникулы близились
к концу, Абрамович собирался в Дерптский университет и предложил мне взять на
себя руководство его кружком, к которому принадлежал и Резник. Я согласился.
Знакомство мое с его кружком стоялось при
весьма романтической обстановке. Революционеры в Минске в то время были все
наперечет, слежка была чрезвычайно легка; к тому же мы рисовали себе деятельность
начальства такою, какою она в жандармском идеале долженствовала быть; действительность,
надо полагать, была и тут далека от идеала. Как бы то ни было, мы всегда искали
самых уединенных мест, а потому сошлись темной ночью за городом на солдатском
кладбище. Из бывших там, кроме вышеупомянутых, я хорошо запомнил сапожника
Хейфеца, который впоследствии побывал и в Америке и 18 октября 1906 года погиб
вместе с тремя детьми от рук погромщиков в Одессе.
На этой сходке я ознакомился с планом
занятий который был выработан Абрамовичем и продержался в кружках
северо-западного края в течение более чем десятилетнего пропагандистского периода,
предшествовавшего организации Бунда.
Все кружки разделялись на три степени: 1)
кружка грамотности, в которых рабочих учили русскому чтению и письму, 2) кружки
естествознания, 3) кружки социалистические. Новички принимались только в кружки
первой и второй степени, в кружки третьей степени выбирались только молодые
люди и девушки, прошедшие чрез кружок второй степени.
Для настоящего времени такая схема рабочей
организации покажется наивною, но двадцать лет тому назад она вполне отвечала
цели, которую мы себе ставили. Рабочего движения в то время еще не было. Одна
стачка на Морозовской фабрике в Орехове-Зуеве в конце 1884 года, конечно, еще не
составляла движения. С организатором ее Петром Анисимовичеме Моисеенко я много
лет состоял в личной переписке; в своих письмах из Орехова-Зуева он жаловался
на отсутствие интеллигентных сил. Мы в Минске ставили себе задачей создание ядра
интеллигентных рабочих, которые могли бы впоследствии вести пропаганду
собственными силами. Совершенно естественно поэтому мы считали необходимым
начинать работу с изучения русского языка. Дело тут было совсем не в «ассимиляторской»
или русификаторской тенденции, как это объясняли впоследствии, а в
необходимости открыть будущим пропагандистам-рабочим доступ к социалистической
литературе. В средине 80-х г.г. еще еврейской социалистической литературы не
существовало, не считая двух-трех брошюр и листков, изданных около того времени
в Лондоне; но мы и о существовании этих первых опытов не подозревали. Мы
подумывали в то время о переводе естественнонаучных книжек на разговорный
еврейский язык; один перевод даже сделан был стариком-учителем Вольманом, но не
находилось издателя.
Помимо этого, организуя кружки русской
грамотности, мы шли навстречу потребности, которая в то время живо ощущалась в
еврейской массе. Начиная с 60-х г., среди подрастающего поколения
обнаруживается страстное стремление к европейскому образованию. Дети бедных
ремесленников при самой нищенской обстановке ухитрялись поступать в гимназии и
оканчивали курс. Среди евреев нередки были великовозрастные юноши, принимавшиеся
за русский букварь. Обыкновенно они находили бесплатных учителей между
гимназистами из более состоятельных. Наши пропагандисты взяли на себя роль
таких учителей и предлагали свои услуги, не дожидаясь спроса. (Долгое время
среди минских рабочих пропагандисты носили название «учителей».)
С другой стороны молодежь, стремившаяся
учиться, представляла наиболее подходящий элемент для формировки кадров будущей
рабочей интеллигенции. Едва ли все это вполне ясно формулировали для себя в то
время, но это само собою разумелось.
Эта схема имела также достоинство и в
конспиративном отношении. Новейшее поколение революционеров, насколько я к нему
успел присмотреться, не выработало в себе привычки к конспирации. Оно и
понятно: теперь борьба ведется массовая, при которой конспирация служила бы
только помехой делу и в то же время не достигала бы цели.
Конечно, благодаря отсутствию конспирации,
масса народу попадает в лапы полиции, но теперь такое множество революционеров,
что потери, по-видимому, считать но стоит, — лес рубят, щепки летят! Нам
приходилось распоряжаться силами экономнее. К тому же кружковой характер нашей
деятельности позволял нам привлекать свежих рабочих с разбором. В кружках
грамоты и естествознания учителя приглядывались к рабочим и подбирали наиболее
подходящих для социалистических кружков. И действительно, в течение первых трех
лет пропаганды у нас в Минске не было ни одного ареста, несмотря на то, что
через наши кружки прошли сотни рабочих.
Однако, конспиративное обучение людей
начаткам грамоты представлялось мне крайнею нелепостью. Если бы жандармы
накрыли кого-нибудь из нас в таком кружке, они никогда не поверили бы, что
занятия наши носили столь невинный характер, и посадили бы всех в кутузку, а
кое кого и выслали бы, как за самое заправское потрясение основ. Поэтому я
предложил организовать легальную субботнюю школу, которая заменила бы наши
конспиративные кружки первой и второй степени; из этой школы можно было бы уже
вербовать членов социалистических кружков. Многие из тех, с которыми мне об
этом пришлось говорить, относились скептически к возможности осуществления
моего плана. Получить разрешение на школу грамотности у нас было крайне трудно.
Но среди нашей революционной публики был заграничный доктор медицины Марк Вольман
[* Умер в штате
Нью-Джерзи в 1895 г.], тесть которого Ледер содержал начальное училище
для еврейских мальчиков. Вот я и предложил, чтобы Ледер исходатайствовал разрешение
на открытие при своей школе субботнего отделения для взрослых, с тем, чтобы Вольман
был преподавателем. Это было вполне в порядке вещей, потому что Вольмана, за
неимением аттестата зрелости, не допускали к государственному экзамену на
звание врача, вследствие чего он занимался частными уроками; политически он не
был скомпрометирован. Ледер согласился и отправился за разрешением к директору
народных училищ, у которого он находился на самом лучшем счету. Тот тем не менее
письменного разрешения не дал, а сказал на словах: «занимайтесь себе!»
Весть об открытии легальной школы была целым
событием в наших кружках. В течение двух-трех недель число учеников достигло
сотни. Пришлось разделить их на два класса; в помощь Вольману мы дали реалиста
Шлунда, тоже вполне легального человека. Однако, о школе стали поговаривать «в
городѣ», т. е. среди местной буржуазии, относившейся к социалистам весьма
неодобрительно. Директору народных училищ можно было отвести глаза, но не
еврейской буржуазии, которая понимала, куда дело клонится. В воздухе запахло
доносом. Кончилось тем, что недели через четыре по открытии школы директор
народных училищ пригласил к себе Ледера и «посоветовал» ему школу закрыть. Я
лишний раз имел случай убедиться, что в России самое легальное положение —
нелегальное; после месячного опыта с легальностью мы снова вернулись к конспиративному
обучению начаткам русской грамоты. Однако, этот эксперимент не пропал даром.
Во-первых, в школе сразу создалась революционная атмосфера: ученики понимали,
что эта школа только преддверие к чему-то высшему, которое манило их прелестью
запретного плода. Во-вторых, закрытие школы имело революционизирующее влияние
на учеников, которые на себе ощутили прикосновение самодержавной десницы. В-третьих,
ученики вошли в наши конспиративные кружки.
Хургин и его кружок относились к нашей
затее с насмешкой. Но когда школа была закрыта, двое рабочих из его кружков
отправились к раввину Ханелесу и грозили избить его, так как городская молва
называла и его в числе виновников закрытия школы. Нам это непрошенное
заступничество было крайне неприятно. Во-первых, мы не имели никаких данных для
обвинения Ханелеса, который в 70-х г.г. сам относился сочувственно к
пропагандистской деятельности Рабиновича; хотя после ареста Рабиновича, он
устранился от общения с революционерами, но отсюда до доноса еще очень далеко.
Во-вторых, такого рода «террор» мог обратить на нас внимание властей и
повредить нашей деятельности. Однако, дело на этот раз обошлось благополучно.
Конспиративное обучение грамоте требовало
большого числа людей, так как в один кружок нельзя было соединить больше
десятка учащихся. Хотя у нас никакой формальной организации не было, никого мы
не «принимали в кружок», но естественным путем образовалась группа лиц, которые
работали сообща. Кроме меня, моей сестры, моей жены и кружка Абрамовича, в нашу
группу вошли все отщепенцы, не нашедшие себе места в «организации» Хургина. На
местном жаргоне наша группа получила кличку «исааковцев» (в кружках того времени
меня звали запросто Исааком), в отличие от «ефимовцев», учеников Ефима Хургина
[* В конце 90-х г.г.
в Минске появилась новая формация «ефимовцев» — последователи Ефима Гальперна,
сосланного около того же времени в Восточную Сибирь.]. Игнорируя
организацию последних, я вступал, однако, в сношения с отдельными членами ее,
как индивидуумами, когда представлялась надобность.
Пропаганда в рабочих кружках того времени
ограничивалась анализом экономических оснований капиталистического строя и
начертанием социалистического идеала. Политических вопросов касались мало.
Благодаря этому, политические понятия рабочих, да и не одних рабочих,
представляли своеобразную смесь бакунинского анархизма с якобинским
бюрократизмом. Напр. должность председателя отрицалась, собрания
беспорядочностью походили на мирской сход; в результате, кто погорланистее,
монополизировал вес вечер, а остальные должны были молчать. Я ввел в обычай
избрание председателя на каждое собрание и запись ораторов. Затем я стал на
очень простом и общепонятном практическом деле знакомить рабочих с началами
самоуправления и парламентаризма. Рабочие решили устроить собственную библиотечку.
Мы стали вырабатывать, статью за статьей, устав этой библиотечки. Эти занятия
живо заинтересовали учредителей ее, которых было десятка полтора. Вопросы были
так конкретны, что каждый в состоянии был внести какое-нибудь предложение. Это
предложение обсуждалось принципиально, с точки зрения соответствия его началам
демократии и свободы. Обыкновенно я председательствовал на этих собраниях и в
своем резюме освещал принципиальную сторону вопроса, если она не была
достаточно выяснена прениями между самими рабочими. Если мое резюме вызывало
новые вопросы или возражения, то прения возобновлялись. Спешить нам было
незачем и некуда. Одно правило я ввел для ограничения бесконечных словопрений:
не дозволялось повторять того, что уже было высказано другими. Если кто-либо
позволял себе уклоняться от этого правила, то его сейчас же останавливали
криками: «уже высказано»; в таких случаях и я пользовался своею председательскою
властью и, при всеобщем одобрении, останавливал оратора. Такого правила нет и,
конечно, не может быть ни в одном парламентском регламенте, но у нас оно действовало
превосходно.
Я сделал еще попытку организации
потребительного общества, опять с целью главным образом воспитания в рабочих
привычки к ведению общественного дела. Но почва для такого предприятия
оказалась неблагоприятной: на исключением одного или двух рабочих, у нас все
был народ очень молодой, бессемейный, живший на хлебах у родителей и потому
ничего не покупавший.
На первых же порах нам представился случай
обсудить на практике вопросы о централизации и федерализме. У ефимовцев была
небольшая рабочая библиотечка; прослышавши о нашей библиотечке, они предложили
нам объединить их. Но здесь возник вопрос о заведывании объединенной
библиотекой. В настоящее время этот вопрос может показаться забавным: в обеих
библиотечках было так мало книг, что с практической точки зрения не стоило и
разговаривать о том, кто и как ими будет заведыват. Но в то время нам дело
представлялось в ином свете. Ефимовцы были народовольцами и налагали цензуру на
имевшуюся у них нелегальную литературу. Напр., в их библиотеке для
интеллигенции имелся один экземпляр «Наших разногласий» Плеханова; этот
экземпляр, однако, выдавался только лицам вполне, так сказать, «политически
благонадежным», на которых чтение этого произведения, как полагали, не могло
оказать тлетворного влияния. Я вышучивал это «изъятие книг из общественных
библиотек» и предоставление их для чтения, в некотором роде, «особам первых
четырех классов». Далее ефимовцы обвиняли нас в недостаточной конспиративности
при выборе членов наших кружков; мы же стремились охватить своей пропагандой
возможно шире верхи рабочих. На этой почве конфликты были бы неизбежны. Даже и
людей, вполне свыкшихся с приемами конспирации, нередко коробит от слишком
резких ее проявлений; а нужно сказать, что наши революционеры в таких случаях
порою обнаруживают замечательную способность копировать манеры околоточных надзирателей.
Представьте же себе, что мало распропагандированный рабочий является к какому-нибудь
конспиративному чину за легальной книжкой без надлежащего «удостоверения
личности» и встречает не то нигилистский, не то мымрецовский прием. Нам
представлялось, что это могло бы только оттолкнуть от нас рабочих.
На этой почве и возникли у нас в
библиотечном кружке дебаты о централизации и федерализме. Мы выработали план
федеративной связи между обеими библиотечками, ефимовцы настаивали на
централизации: чем кончилось, я теперь уже хорошенько не помню; кажется, дело
так и не сошлось.
Этот чисто практический курс конституционного
права я старался пополнить теоретическими занятиями. Мы выбрали наиболее
развитых рабочих, в том числе трех ефимовцев, и читали сообща Милля «О
представительном правлении», сопровождая чтение комментариями и дебатами о
правах меньшинства и пределах власти большинства.
Зимою 1885-86 г. я также возбудил мысль о
демонстрации по какому-нибудь понятному для всех поводу. Для этого, конечно,
требовалось совместное действие обоих «фракций», если позволено будет так
выразиться, — исааковцев и ефимовцев. Мы пригласили на совещание представителей
ефимовцев. По этому поводу на квартире Иосифа Резника состоялось, кажется, два
собрания. От ефимовцев присутствовало двое рабочих, один плотник и один столяр
(оба теперь в Америке) и несколько интеллигентов, главным оратором которых был
Соломон Мерлинскій [*
Был в ссылке в Вологодской губ. в 1890-1892 гг. В настоящее время живет в
Варшаве и стоит вне политики.]. Он в то время был гимназистом лет
шестнадцати, но он сразу обратил на себя мое внимание своим ясным умом и
значительным для своего возраста развитием. Ефимовцы все были против «открытых
выступлений», — применяя современный термин к условиям того далекого прошлого,
и мысль о демонстрации была отвергнута.
Для меня лично эти собрания послужили
началом знакомству, а впоследствии личной дружбе с Мерлинским. Что-же касается
наших рабочих кружков, то между ними тоже естественно началось общение: наши
ходили на занятия в ефимовские кружки и привлекали к нам ефимовских рабочих.
Как я уже сказал, фракционное разделение это было «организационным», как
выразились бы теперь. В России «организационное» деление почему-то
противополагается «принципиальному». В Америке уже сознано, что вопрос о форме
организации сам по себе тоже представляет важный принципиальный вопрос. В современной
американской политике эта борьба между «исааковцами» и «ефомовцами»
охарактеризована была бы, как борьба «независимых демократов» против партийного
«боссизма» [* Вoss — партийный «хозяин», которому
повинуется партийная «машина». См. об этом мою статью в III томе сборника:
«Государственный строй З. Европы и С. Амер. Соед. Штатов», изд. Глаголева.].
О классовой борьбе в то время у нас велись
только теоретические разговоры; практического значения, в виду малочисленности
наших сил при раздробленности еврейских рабочих в мелких ремесленных мастерских,
эти рассуждения не имели. Самыми крупными предприятиями у нас были типографии;
там положено было основание профессиональному союзу типографских рабочих.
Хозяева сразу обнаружили классовой инстинкт и стали донимать придирками
рабочих, принадлежавших к социалистическим кружкам. Но до открытого конфликта
дело не дошло.
Летом 1886 года независимо от нас вспыхнула
стихийная забастовка обойщиков. Мы сейчас же поспешили на помощь забастовщикам.
На квартире Резника состоялось одно или два собрания; еще одно собрание
состоялось на городском сквере.
Бастовало всего десятка полтора рабочих
одной мастерской. Хозяин собирался было выписать рабочих из Вильна, но стачка
через несколько дней окончилась соглашением. Была еще забастовка учеников
еврейского ремесленного училища, которые находились под влиянием ефимовцев,
забастовка возникла на почве недовольства учеников смотрителем; кажется, ему
даже грозили побоями. В городе она наделала много шуму, потому что училище
содержится на благотворительные средства и во главе его стоят местные нотабля.
Присутствие моей жены на одной из сходок забастовщиков придало делу в глазах
попечителей опасный политический характер. Чем кончилось дело, сейчас уже не
упомню.
Рост наших кружков выдвинул пред нами
квартирный вопрос. Летом собирались за городом, в лесу; зимою приходилось
отыскивать квартиры. Вначале собирались у Резника; он был человек семейный,
жена его содержала мастерскую женских платьев; он сдавал две комнаты внаймы
рабочему и работнице, тоже членам наших кружков. Но собираться всем у него было
по полицейским условиям неудобно. Собирались еще у несемейных рабочих и
работниц; но, во-первых, помехой служили родители, а во-вторых в крошечную
комнатку, где было место только для стола и кровати, набивалось иногда более
десятка народа.
Мы решили снять квартиру для собраний.
Найдена была квартира из трех комнат на Нижнем Базаре, где вечно толчется
народ. Дом был с проходным двором и воротами на три улицы. В полицейском
отношении все предосторожности были соблюдены. Но нам, однако, пришлось бросить
эту квартиру до истечения месячного срока. На квартире поселилось двое молодых
людей, меблишка была немудрая, беднее даже, чем у заурядных еврейских бедняков,
— наши фонды не дозволяли большего. И вот эту квартиру стала посещать, особенно
по вечерам, молодежь обоего пола. Соседи были скандализованы и заключили, что в
квартире приютился тайный притон проституции. Грозили недоразумения с полицией,
которые кончились бы облавой и провалом нескольких десятков рабочих. Пришлось
собрания прекратить. Затем мы наняли квартиру на окраине города (Романовке).
Там поселился вернувшийся из Америки молодой человек Гиршфельд [* В настоящее время врач в
Миннеаполисе, в Соед. Штатах, и видный деятель социалистической партии;
выставлялся социалистическим кандидатом па должность губернатора штата
Миннесоты.], под видом учителя английского языка. Начавшееся эмиграционное
движение давало правдоподобное объяснение для соседей посещению его квартиры
множеством учеников и учениц, собиравшихся группами для совместных уроков.
Однако в непродолжительном времени эту квартиру проследили шпионы; в Минске это
делалось патриархально, шпионы были всему городу известны.
Сколько в наших кружках было всех рабочих,
учесть было трудно. Летом 1886 года мы однажды устроили собрание всех
«учителей» для подведения итогов; оказалось, в «исааковских» кружках всех
степеней было 130 рабочих; сколько было у «ефимовев», мы не знали. Если принять
упомянутую выше цифру Хургина и вычесть тех, которые посещали и те и другие
кружки, то по всей вероятности было всех вместе не менее 250 человекъ. Спустя
два года, я предпринял объезд главных центров Северо-Западного края; в
Белостоке и Гродне совсем не оказалось рабочих кружков, а в Вильне мне Лев
Иогихес [*
Впоследствии долгое время был эмигрантом.] («Левка») сообщил, что у них
есть кружок из четырех рабочих. О великорусских губерниях, конечно, и говорить
нечего. В то время о пропаганде и агитации среди рабочих никто не думал.
Первый арест у нас в Минске произошел в
феврале 1887 года. Взят был Иосиф Резник в типографии по доносу провокатора
рабочего той же типографии Зархина. В награду Зархин получил разрешение на
открытие типографии в одном из уездных городов. Резник был сослан в Якутскую
область, откуда вернулся в 1892 году без права работать в типографиях. В
следующем году он переселился в Америку.
Арест Резника всполошил дремавшую до тех
пор жандармерию. Начался ряд обысков у рабочих; стали тягать их на допросы.
Однако в течение двух слишком лет жандармам не удавалось ничего выпытать. Лишь
в конце 1889 года арест рабочего, который у нас был известен под кличкой
Лапласа (фамилии его не помню), дал им в руки слабого юношу, от которого они
выведали кое-что о наших кружках.
Гораздо больше, чем полицейские
преследования, тормозила нашу работу начавшаяся эмиграция в Америку. Фактически
мы подготовляли социалистических рабочих для Америки. Когда я приехал в
Нью-Йорк, в конце 1890 года, я там застал «Русское рабочее общество
саморазвития», которое в публике называлось «минским рабочим обществом».
Действительно, из 35 членов этого общества 32 были минские рабочие [* В следующем году это
общество, по инициативе д-ра Ингермана, было преобразовано в «Русское
социал-демократическое общество». Это общество оказывало серьезную материальную
поддержку Союзу Освобождении Труда и социал-демократической партии в первые
годы ее существования.] В том же году мы устроили в Нью-Йорке под
русский Новый год «бал минских социалистов», на который приглашены были, кроме
почетных иногородних гостей, все, кто когда-либо участвовал в минских кружках:
таких набралась целая сотня.
Тем не менее пропаганда среди рабочих не
прекращалась в Минске никогда; одни уезжали, на их место являлись другие; так
продолжалось вплоть до начала массового движения еврейских рабочих. Из Минска
наши кружковые рабочие переезжали в поисках работы в другие города. Один из
наиболее деятельных членов первого кружка Абрамовича Яков Звирин попал наборщиком
в типографию «Смоленскаго Вѣстника». Там он сошелся с интеллигенцией, группировавшеюся
около газеты и, при ее содействии, занялся пропагандой среди рабочих. В 1889
году их кружок был арестован. Звирин высидел год въ Крестах и по освобождении,
конечно, уже лишен был права работать в типографиях. Он переселился в Америку и
в настоящее время живет в Нью-Йорке. В какой мере наши минские рабочие содействовали
пробуждению сознания своих товарищей в других городах, мне неизвестно, так как
в 1890 году я сам оставил Россию.
Назвать наши первые рабочие кружки 1884-80
г.г. социал-демократическими в отличие от народовольческих едва ли было бы
правильно. Акимов в своем «Очерке развития социал-демократии в России» называет
Абрамовича социал-демократом. Это совершенно верно по отношению ко времени его
ареста в 1889 году, но я не решился бы утвердительно сказать то же самое о том
периоде, к которому относится образование им первых рабочих кружков в Минске.
Группа Освобождения Труда только что тогда образовалась. Личных связей с нею,
по сколько мне известно, у Абрамовича в бытность его в Париже в 1883-4 году не
установилось. Абрамович был выдающийся по своим способностям и образованию
юноша 19-20 лет, но успел ли он уже самостоятельно выработать себе в то время
ясное социал-демократическое миросозерцание, сомневаюсь. О себе я уже говорил.
Из литературы Группы Освобождения Труда у нас в Минске вплоть до 1890 г. имелся
только один экземпляр «Наших разногласий». Некоторая духовная связь с Группой у
нас установилась только в 1887 году, когда к нам приехал Шмулевич («Кивель»),
прежний «ефимовец», побывавший в Швейцарии и сделавшийся там социал-демократом [* В 1889 г. он вынужден был
бежать из России и до 1896 г. жил в Швейцарии, где был активным членом
социал-демократических организаций. В 1896 г. он переселился в Америку и в
настоящее время живет в Чикаго.]. Но Шмулевич не обладал способностями
миссионера и потому личное влияние его было слабо.
Осенью того же года до нас дошла из
ІПвейцарии брошюра: «Программа для обсуждения программных вопросов». Это было
чрезвычайно дельно, всесторонне и беспристрастно составленное резюме всех
вопросов, по которым в то время среди революционной молодежи существовали
разногласия. Авторы программы рекомендовали образовывать кружки для обсуждения
и выяснения всех спорных вопросов. У нас эта мысль встречена была всеобщим
сочувствием. Устроено было собрание, на которое явилось человек двадцать или
тридцать. Прения велись на страшный анархический лад. Мое предложение избрать
председателя и установить запись ораторов не нашло поддержки, как явная
«исааковская» ересь. Половина вечера прошла в словесном турнире между Хургиным
и Львом Марковичем Заком [* Л. М. Зак был арестован в 1879 г. за участие в одном из
землевольческих кружков, работавших на Волге и на южном Урале, и был
административно сослан в Енисейск, откуда вернулся в 1886 году. Весною 1888 г.
он снова был арестован в Минске и сослан в Якутскую область, откуда он вернулся
в 1896 г. По возвращении из вторичной ссылки, он вместе с моей сестрой
приступил к переводу I т. «Капитала» К. Маркса, но умер в 1897 г. до окончания
работы. Перевод вышел в 1899 г. под редакцией П. Б. Струве.]. Хургин
отстаивал «захват власти», а Зак возражал, что «за этим делом нам надлежит
обратиться к генералу Белову» (местному воинскому начальнику). Мне этот беспорядочный
дуэт надоел и я ушел, не дождавшись конца. В тот же вечер решено было по
полицейским соображениям разбиться на меньшие группы. Таких групп образовалось
три. Одна очень скоро перестала собираться. Другая, состоявшая из семинаристов
и учителей, собиралась некоторое время, но вскоре обнаружилось, что дебаты
колеблют основы народнической веры и приводят к безотрадным выводам. Вследствие
этого, как передавал «Егорыч» [* Один из немногих, ускользнувших от бдительного ока
начальства; состоит на государственной службе, а потому настоящее его имя не
может быть оглашено.], решено было вовсе прекратить обсуждение
программных вопросов и остаться при прежнем миросозерцании. Третья группа,
собиравшаяся на моей квартире, довела обсуждение до конца. В ней участвовали,
кроме меня, жены и сестры, Мерлинский, Шмулевич, Ефим Гальперн, с весны 1888 г.
Абрамович, и др. Мы собирались раз в неделю в течение полугода, я в результате
большинство из нас, включая Абрамовича, мою сестру и меня, приняло по всем
программным вопросам социал-демократические формулы.
И. Гурвич
/Былое. Журналъ посвященный исторіи освободительнаго
движенія. № 6/18. Іюнь. Петербургъ. 1907. С. 65-74./
ПЕРВЫЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
РАБОЧИЕ КРУЖКИ
В БЕЛОРУССИИ
В конце 70-х годов па арене русского революционного
движения появляется рабочий. В Одессе Заславским создается «Южно-Российский Союз
Рабочих», создается «Северно-Русский Рабочий Союз», несколько лет спустя, (в
1883 г.) была основана «Группа Освобождения Труда» впервые бросившая
марксистский лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Возникновение пролетарских трупп, а затем
первой марксистской группы, привело, разумеется, к большому идейному сдвигу в
русском революционном движении: в разных частях страны создаются
социалистические группы, отказывающиеся от мысли, что террором может быть
изменен существующий строй.
Возникли группы, которые восприняли лозунг:
что «освобождение рабочих есть дело рук самих рабочих».
В Белоруссию марксистская мысль проникла
тогда же — в 30-х г. г. Исаак Гурвич, один из первых социал-демократов
Белоруссии, рассказывает следующее о первых рабочих кружках в Минске (в № 6
«Былого» за 1907 год): «отдельные попытки ведения пропаганды среди рабочих в
Минске совпадают с началом социалистического движения в России»....
В 1887 г. в Минске произошел первый провал.
Был арестован и сослан в Якутскую область (в феврале этого года) рабочий-печатник
Иосиф Резник. За этим арестом последовал ряд новых, жандармерии становятся
известны все секреты минских кружков. Главные руководителя кружков эмигрируют
за границу, и систематическая революционная работа среди минских рабочих
временно нарушается.
/С. Агурский. Очерки по истории революционного движения в
Белоруссии (1863-1917). Минск. 1928. С. 33, 35./
А.
Я. Багдановіч
ДА ГІСТОРЫІ ПАРТЫІ “НАРОДНАЯ ВОЛЯ”
Ў МЕНСКУ І БЕЛАРУСІ
(1880-1892)*
[* Гэты нарыс уяўляе
часткова вытрымкі, а часткова скарочанае выкладаньне маіх больш шырокіх успамінаў
пад загалоўкам «Партыя «Нар. волі»” ў Менску і Беларусі, яшчэ не надрукаваных.
Некаторыя факты, прыведзеныя тут, удакладняліся шляхам пісьмовых і асабістых
адносін з таварышамі Р. А. Протасам, Я. А. Гурвіч, А. А. Белахам і нябожчыкам
В. I. Сляпянам. У інтарэсах самаправеркі значныя ўрыўкі з маіх успамінаў,
скарочана выкладзеных тут, былі прачытаны А. А. Белаху і Я. А. Гурвічу і не
сустрэлі з іх боку заўваг або пярэчаньняў. Адказнасьць, аднак, за падачу фактаў
і ацэнку падзей і асоб поўнасьцю ляжыць на мне. А.
Б.
Я
пішу не гісторыю рэвалюцыйнага руху ў Беларусі, а свае асабістыя ўспаміны аб
тым — чаму сам быў сьведкам у тым руху, і аб тым, што чуў ад маіх таварышаў аб
больш раньнім пэрыядзе рэвалюцыйнай барацьбы, калі я яшчэ не прымаў непасрэднага
ўдзелу ў ёй...
I. Народнікі ў
Менску
Я
прымкнуў (к) групе нарадавольцаў у 1882 годзе, а тое, аб чым я хачу тут
расказаць, узыходзіць да (1876) часу руска-турэцкай вайны, значыць, прыблізна к
1877 году і наступным гадам, хаця я жыў у гэты час у Менску, але не быў
сьведкам зараджэньня рэвалюцыйнага руху ў гэтым горадзе і знаю аб ім па
расказах маіх старэйшых таварышаў па рэвалюцыі І. М. Акаловіча, Е. С. Хургіна і
часткова I. А. Гурвіча [* ГУРВІЧ Ісак Адольфавіч (1866, Менск — 1924), дасьледчык эканамічнага
становішча сялян у Расіі. Аўтар кніг «Перасяленьні сялян у Сыбір» (рус. пер.
1888), «Эканамічнае становішча рускай вёскі» (рус. пер. 1896). У 1881-1885
гадах у ссылцы (Сыбір). Пасьля ссылкі ў Менску, меў сувязь з групай
«Вызваленьне працы». З 1889 г. у эміграцыі. Перапісваўся з Ф. Энгельсам, У. I.
Леніным. ГУРВІЧ Алена Ілынічна (Кушалеўская) — яго жонка. ГУРВІЧ Яўгенія
Адольфаўна — сястра — удзельніца рэв. гурткоў у Менску ў 1880-х гадах. Была на
высылцы ва Ўсходняй Сыбіры, адкуль уцякла разам з Л. Д. Троцкім, перакладала К.
Маркса, пасьля рэвалюцыі працавала ў Інстытуце К. Маркса і Ф. Энгельса.],
якія, між іншым, як і Акаловіч, у гэты час былі яшчэ вельмі юныя і ведалі аб ім
па чутках [як і я]. Зводзячы да адзінства гэтыя разрозьненыя паведамленьні, я
павінен іх ахарактарызаваць; як зародкі рэвалюцыйнай прапаганды,
неарганізаванымі (?) адзіночкамі. Прапагандыстамі большай часткай былі
студэнты, якія вярталіся ў Менск са сталіц — Масквы, Пецярбурга, Кіева,
Харкава. Яны прывозілі сякую-такую нелегальную літаратуру або проста
забароненыя кніжкі, накшталт “Што рабіць?”, “Міля з заўвагамі”, “Крок за
крокам”, Герцэна, Дабралюбава, Пісарава, Шэлгунова, Ласаля і т. п.
А
галоўнае — прывозілі “новыя словы”, новыя думкі, рэвалюцыйныя песьні і вершы. Гаварылі,
сьпявалі, дэклямавалі, ...абуджалі, пераконвалі...
Захавалася
ў памяці глухое паведамленьне аб знаходжаньні ў Менску Зундулевіча, які меў
сувязі з яўрэйскай групай рэвалюцыянэраў. Чуў аб гэтым ад Е. С. Хургіна,
слуцкага ураджэнца, які пазьней няўдала страляў у Лёрыс Мелікава...
Сацыялістычная прапаганда сярод яўрэйскага насельніцтва Менска таксама
ўзыходзіць к другой палавіне 70-х гадоў, як і ў сэмінарскай групе, і
першапачаткова трымалася выключна сярод вучэбнай моладзі, галоўным чынам — сярод
студэнтаў унівэрсытэта.
Закранутыя прапагандай ва унівэрсытэцкіх цэнтрах маладыя людзі,
вяртаючыся ў Менск на канікулы, натуральна, шукалі адэптаў сярод сваіх малодшых
таварышаў і стваралі на месцы кадры рэвалюцыйных атрадаў.
І.
А. Гурвіч (“Былое”, чэрвень 1907 г.) згадвае як аб першых прапагандыстах пра
студэнта тэхналягічнага інстытута Шварца, які жыў у Менску пад прозьвішчам
Рабіновіча, і пра студэнта Кіеўскага унівэрсытэта Майсея Вельлера. Яны ўжо вялі
прапаганду сярод яўрэйскіх рабочых. Але, канешне, яны не абмяжоўваліся адным
рабочым асяродзьдзем, а адначасна працавалі і ў асяродзьдзі яўрэйскай
інтэлігентнай моладзі, па свайму ўзросту больш даступнай сацыялістычнай
прапагандзе.
Мне асабіста вядомы як раньнія прапагандысты (пачатку 80-х гадоў): Яфім Саламонавіч Хургін, Ісак
Адольфавіч Гурвіч, яго сястра Яўгенія Адольфаўна Гурвіч, цяпер супрацоўніца
інстытута К. Маркса і Ф. Энгельса, Эміль Абрамавіч Абрамовіч [* АБРАМОВІЧ Эміль Абрамавіч
— арганізатар кіеўскага гуртка марксізму.], сын зубнога ўрача, студэнт
Дэрпцкага унівэрсытэта, урач, які перанёс Якуцкую ссылку і памёр у 1898 г., і
студэнт Кленскі, пазьней ваенны ўрач, які служыў дзесьці ў Туркестане, таварыш
Гурвіча. Той і другі ўжо займаліся рэвалюцыйнай прапагандай у канцы 70-х гадоў.
Па
рэвалюцыйным тэмпэрамэнце самай значнай фігурай гэтага пераліку быў Я. С.
Хургін, самай бліскучай па розуму і таленту I. А. Гурвіч, а самай выдатнай па
самаахвярнасьці, з самаахвярнай адданасьцю справе рэвалюцыі быў Э. А.
Абрамовіч.
У
Бухбіндэра (“Еврейская летопись”, т. 1, 1923 г.) прыведзена характарыстыка
Абрамовіча, зробленая Зубатавым: “Абрамовіч па прынцыпу багатых не лячыў, у
бедных грошай не браў, зарабляў нейкім рамяством жабрацкія грашы, жыў надгалаць
і ўвесь аддаваўся прапагандзе. Яго лічылі сьвятым і схілялі галаву перад ім”.
Калі так гаворыць закляты вораг то якую большую хвалу можна аддаць?
Калі гэтыя трое не былі заснавальнікамі рэвалюцыйнага руху сярод
яўрэйскага насельніцтва ў Менску і Беларусі, то больш за ўсё для яго зрабілі,
асабліва Хургін.
[3
сэмінарыстаў Гаховіч і яго таварышы былі першымі піянэрамі прапаганды
беларускім сялянам. Але гэтая прапаганда была выпадковай, не доўгачасовай і не
глыбокай, бессыстэмнай. Гэта толькі былі першыя спробы, якія не пакінулі прыкметных
вынікаў.]
Між іншым, Хургін першы з яўрэяў зрабіў спробу непасрэднай работы ў
народзе (у канцы 70-х гадоў), г. зн. сярод беларускіх сялян. Да 80-х гадоў
яўрэі вольна жылі ў беларускі вёсках.
Яго бацькі арандавалі вялікае памесьце дзесьці ў Менскі павеце, так што
Я. С., як і яго брат, імя якога я забыў, правёў сваю маладосьць у вёсцы. Браты
аралі зямлю і ведалі толк у сельскай гаспадарцы.
Выхаваньне яны атрымалі строга рэлігійнае, у духу набожных яўрэяў
колішніх часоў. Але і ў гэтых адносінах Я. С. пайшоў далей сярэдняга ўзроўню
яўрэйскай адукацыі: ён быў добры талмудыстам, — званьне, ганаровае ў яўрэйстве.
Дзіўная справа: гэта рэлігійная закваска не пакідала яго ўсё жыцьцё і
неяк сумяшчалася з філязофскім матэрыялізмам.
У
далейшым, у канцы 90-х і пачатку 900-х, яна прывяла яго ва ўлоньне сіянізму.
Але і ў свой найбольш яркі пэрыяд рэвалюцыйнай дзейнасьці, да не малога
сораму сваіх вучняў, ён не пастаянна наведваў сынагогу па суботах і сьвяточных
днях, што на першым час паблажліва тлумачылася неабходнасьцю больш цесных
сувязей з яўрэйскай народнай масай, рэлігійна настроенай. Такое тлумачэньне
ўяўлялася даволі натуральным: у той час цяжка было ўшчыльную падысьці да
яўрэйскай беднаты “эпікорэсу” (эпікурэйцу-вальнадумцу). Адным дзесяцігодзьдзем
раней з такім адшчапенцам і гаварыць не сталі б. Нават у 80-я гады вальнадумцы
з яўрэйскай моладзі ў Менску, якія дазвалялі сабе хадзіць з палкай (?) у суботу
ці закурыць цыгарэту, падвяргаліся нападзеньням набожнага натоўпу, асабліва ў
прадмесьцях. I калі нашы таварышы яўрэі ў кампаніі з рускімі ў дзень суботні
езьдзілі па Сьвіслачы ў лодцы, то з берага спачатку чуліся абавязковыя
напамінкі: “шабес” (субота)! А пасьля папярэджаньня ў лодку са злосьцю кідалі
камянямі і кавалкамі цаглін.
Гавару аб гэтых дробязях, каб даць паняцьце — пры якіх настроях і ў якім
асяродзьдзі даводзілася працаваць яўрэйскай інтэлігенцыі.
Але Хургін ішоў далей: ён не толькі выконваў публічныя рэлігійныя
абрады, але і ў сямейным жыцьці падпарадкоўваўся недарэчным традыцыйным
звычаям. Гэта абурала яго вучняў: у гэтым бачылі няшчырасьць, фальш, з якой
нельга было мірыцца. I гэта ў далейшым павяло, разам з іншымі прычынамі, да
падрыву яго аўтарытэту і к падзеньню яго прывабнасьці.
Калі не лічыць талмудыскай вывучкі, то ён не атрымаў правільнай школьнай
адукацыі і свае даволі шырокія веды набыў упартым чытаньнем у маладосьці, але,
як гэта бывае з самавучкамі, у яго адукацыі сустракаліся даволі значныя
прабелы.
Для яго захопленых паклоньнікаў з гімназістаў, а тым больш з рабочых,
гэтыя прабелы не былі прыкметныя: ён даваў ім тое, аб чым яны і паняцьця не
мелі. Але калі тыя ж гімназісты акуналіся ва унівэрсытэцкую навуку і вярталіся
ў Менск, узброеныя і новым вопытам і ведамі, то непазьбежна ўзьнікала крытычная
“пераацэнка каштоўнасьцей”. Тычылася яна і меркаваньняў, і паводзін настаўніка.
Але настаўнік быў не цярпімы к крытычнаму падыходу да сваёй асобы. Узьніклі
розныя сутыкненьні, і для некаторых расчараваньне было настолькі горкім, што
студэнт Гутцайт, некалі яго захоплены паклоньнік, пасьля аднаго такога
сутыкненьня на глебе патрэбнага і непатрэбнага плакаў ад гора наўзрыд. Але гэта
было ўжо ў канцы 80-х гадоў, а ў 1884-м і 1885-м, калі я ўпершыню пазнаёміўся
са “Сьвірэпым” (рэвалюцыйная клічка), яго аўтарытэт у сваёй групе стаяў вельмі
высока.
Перадаваў ён мне некаторыя падрабязнасьці аб сваіх першых кроках на
шляху рэвалюцыйнай прапаганды ў вёсцы.
Прапаганду ён вёў сярод вясковых хлопцаў. Глеба была спрыяльная: у гэтым
раёне яшчэ сьвежыя былі ўспаміны аб аграрных хваляваньнях пасьля падзеньня
прыгоннага права. На гэтай глебе ён і трымаўся, г. зн. на глебе адносін сялян
да памешчыкаў і на глебе некаторых агульных пытаньняў — адкуль багацьце і ад
чаго беднасьць. Чытаў хлопцам і тлумачыў “Хітрую
мэханіку” Худзякова [* ХУДЗЯКОЎ Іван
Аляксандравіч (1842—1876), рускі фальклярыст, гісторык, этнограф. Удзельнік
рэвалюцыйнага руху. Выкарыстоўваў у сваіх працах фальклорныя матэрыялы
(“Русская книжка”, 1863, «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте», 1865).
У 1866 г. сасланы ў Верхаянск, памёр у псыхіятрычнай лячэбніцы. Пакінуў
успаміны: “Воспомннания каракозовца”.] і таму падобныя папулярныя
кніжкі.
Некаторы час усё было добра. ён стаў ужо тлумачыць аб перабудове
грамадзтва на сацыялістычных пачатках у сэнсе — добра было б зрабіць вось гэтак
і гэтак. Таксама адобрылі. Зрабіў яшчэ крок у бок палітычнага ладу і дайшоў да
цара, як “пачатку ўсіх пачаткаў”, г. зн. усіх бед, — тут вось і сарвалася:
данесьлі станавому.
Як
бачыш прыехаў станавы з двума ўраднікамі, соцкія і дзесяцкія, мабілізавалі
мясцовых сялян, у тым ліку і яго вучняў, і акружылі ўсю сядзібу. Пачуўшы бяду,
Хургін схаваўся ў зарослую кустамі яму, з якой здабывалі гліну на цэглу. Тут
яго і злавілі. Здаровы дзяцюк — ён адбіваўся адчайна, але яго звалілі і ў
літаральным сэнсе прыкруцілі рукі да лапаткаў. I хто ж найбольш стараўся? — з
горкай усьмешкай перадаваў ён. — Мае ж вучні. I мой любімы вучань круціў мне
рукі вяроўкай. Гэтае стараньне лёгка тлумачыцца жаданьнем выгарадзіць сябе,
паказаўшы на справе сваю адданасьць. Два браты былі пасаджаны па гэтай справе.
Першы блін — камяком.
Пасьля выхаду з астрога Хургін разам з рэвалюцыянэрамі з сэмінарыстаў
прымаў удзел у арганізацыі ўцёкаў за граніцу Льва Гартмана, а затым і сам
езьдзіў туды.
Там, па яго словах, ён сустракаўся з Львом
Ціхаміравым, з якім быў знаёмы і раней, сустракаўся з тым жа Гартманам і з
некаторымі другімі нарадавольцамі з эміграцыі. Пасьля вяртаньня ён быў
арыштаваны (1882) за правоз пісьма Гартмана і пасаджаны ў турму на 8 месяцаў з
аддачай пад нагляд паліцыі на 3 гады.
Тут жа пасьля выхаду з турмы Хургін узяўся за прапаганду сярод яўрэйскай
вучнёўскай моладзі — гімназістаў і рэалістаў. Вельмі хутка ён згуртаваў даволі
значную групу, абапіраўся на свае ранейшыя знаёмствы і, відаць, на работу
прапагандыстаў-папярэднікаў, бо цяжка дапусьціць, каб на некранутай глебе ў
кароткі тэрмін можна было завэрбаваць даволі значную колькасьць пасьлядоўнікаў,
якую я застаў у яго гуртку ў 1884-1885 гадах.
Але самае важнае, што ўжо ў гэты час ён і яго вучні змаглі арганізаваць
яўрэйскіх рабочых у гурткі граматнасьці і самаразьвіцьця, г. зн. таго, што мы
называлі “азбукай сацыяльных навук”.
Ужо ў той час да яго далучыліся больш за 20 чалавек яўрэйскай
інтэлігентнай моладзі абодвух полаў, якія кіравалі заняткамі ў гуртках,
аб’яднаўшых звыш 160 рабочых. У далейшым гэта лічба рабочых, з якімі займаліся
рускай граматай, прыродазнаўчымі і сацыяльнымі навукамі, дасягнула 250 чалавек.
У той час рэдкі з народаў такой лічбай мог пахваліцца.
I
не выпадковасьць, што першы сацыял-дэмакратычны зьезд зьбіраўся ў Менску: тут
глеба была ўжо разрыхленая і не мала заставалася парасткаў мінулага, якія не
маглі не аказваць прыцягальнай сілы.
Вось пералік найбольш актыўных членаў гэтай групы, якая слыла пад імем
Хургінцаў або Яфімцаў: МЕРЛІНСКІ Саламон Абрамавіч, ПРОТАС Рувім Абрамавіч,
БЕЛАХ Аўсей Аляксандравіч, СЬЛЯПЯН Уладзімір Іванавіч, УФЛЯНД Міхаіл
Аркадзьевіч, ШМУЛЕВІЧ Ківель, ГУТЦАЙТ і ДУГОЎСКІ (імён не помню), ПОЛЯК Маісей
Абрамавіч, КАЦЕНЕЛЬСОН Соф’я Саламонаўна, па мужу ПРОТАС, і яе сястра Эсфір
Саламонаўна, і па мужу ПОЛЯК, КАПЛАН Якаў і яго сястра Роза, Дуня ЛЕВІНА і
іншыя
Большасьць з гэтых паплацілася турмой і ссылкай. З гэтай “слаўнай
зграі”. Яшчэ зараз жывуць Протас, Белах, Поляк, Соф’я і Эсфір Саламонаўны, Дуня
Левіна і, магчыма, Мерлінскі. Ён даўно пераехаў у Варшаву; яго лёс і адрас мне
не вядомы.
Нядаўні нябожчык Сьляпян (1929), самы юны член гэтай групы, меншы па
росту і таму празваны Малы, успамінаючы і ў старасьці час заняткаў у гуртку Я.
С., піша мне:
«Вось, вось бачу, як Хургін
прынёс кіпы часопісаў (“Современник”, “Русское слово”)... Там былі артыкулы
Чарнышэўскага (“Міля з заўвагамі”), артыкулы Пісарава, Цебраковай... Уся істота
трапятала!»
Усё гэта была слаўная моладзь, якая з трапяткім захапленьнем адносілася
да свайго новага прызваньня.
III. АБ’ЯДНАНЬНЕ
ГРУПОВАК У АДНУ АРГАНІЗАЦЫЮ
(III. “ТРУДЫ И ДНИ” Ў МЕНСКУ)
У
першай палове 80-х гадоў у Менску былі два (буйныя) рэвалюцыйныя аб’яднаньні:
хрысьціянскае і яўрэйскае, якія знаходзіліся між сабой у саюзьніцкіх адносінах,
але не мелі агульнага мясцовага кіруючага цэнтра. Гэта тлумачылася бытавымі і
паліцэйскімі ўмовамі. Яўрэі і хрысьціяне сыходзіліся на глебе гандлёвых і рамесьніцкіх
адносін, — значыць — у краме, на рынку, у майстэрні. (Таму ўсякі сумежны сход,
нават простая хадзьба ў госьці былі б нечым дзіўным і таму падазроным. Усім
вядома было, што яўрэі не ядуць у хрысьціянскіх дамах з-за...)
З
гадамі гэтае адасабленьне паступова падала, але ў 70-х гадах і ў пачатку 80-х
яно яшчэ было пераважным. Былі агульныя справы, як абмен літаратурай, праўка
пашпартоў, уладкаваньне на працу нелегальных, але такога роду вяліся пры дапамозе
перамоў між лідэрамі той або другой групы. Прапаганда вялася асобна і нават на
гэтай глебе была нейкая канкурэнцыя: “яфімаўцы” былі схільныя сяго-таго да сябе
пераманіць. Між іншым, такая спроба была зроблена ў 1884 годзе адносна мяне, як
чалавека, зьвязанага з вёскай і народнымі настаўнікамі.
Хрысьціянская група папаўняла свае кадры пераважна з сэмінарыстаў і таму
ўмоўна называлася “сэмінарскай”, але сэмінарыя была толькі першапачатковай
крыніцай, а кампанавалася арганізацыя з разнастайных элемэнтаў, якія ў яе
ўваходзілі і да яе прымыкалі.
(У
1884 і 1885 гадах, калі я ўвайшоў у гэтую групу (арганізацыйна) па-сапраўднаму,
кіруючая арганізацыя складалася з наступных таварышаў.)
Яна, па сутнасьці, аб’ядноўвала беларускія рэвалюцыйныя элемэнты ў
абодвух моўных ухілах — рускім і польскім. Яна мела сувязі са студэнцтвам
сталічных і іншымі ўнівэрсытэцкімі цэнтрамі; яна мела сувязі праз юнкераў з
сэмінарыстамі з Віленскім юнкерскім вучылішчам і з мясцовым ваенным
асяродзьдзем; праз польскае студэнцтва мела сувязі з польскай партыяй
“Пралетарыят”, якая ўзьнікла ў гэты час; былі сувязі сярод служачых у мясцовым
таварыстве сельскай гаспадаркі і на чыгунках, галоўным чынам у Праўленьні
Лібава-Роменскай чыгункі, і нарэшце, праз маю дапамогу, былі сувязі з народным
настаўніцтвам, г. зн. з вёскай.
Слабым бокам гэтай рэвалюцыйнай групоўкі зьяўлялася цякучасьць яе
саставу і прытым у кадрах: моладзь імкнулася да вышэйшай адукацыі і, зьяжджаючы
ў другія гарады, адрывалася ад сваёй арганізацыі (і нярэдка была страчана для
рэвалюцыі), сувязі слабелі, зношваліся і часта зусім абрываліся. Адкрыцьцё
доступу сэмінарыстам у Варшаўскі і Томскі унівэрсытэты і ў вэтэрынарныя
інстытуты ў палавіне 80-х гадоў моцна адбілася на колькасьці рэвалюцыйнага
актыву ў Менску і Беларусі.
Гэта была адна з прычын, якая патрабавала майго перамяшчэньня ў Менск: я
нікуды не імкнуўся і займаў хаця і сьціплае, але дастаткова незалежнае
становішча. Набываўся даволі моцны апорны пункт: у мяне была самастойная
адасобленая кватэра. Для нашай групоўкі гэта было неабыякава, тым больш што
сувязь з народным настаўніцтвам устанаўлівалася больш жывая і непасрэдная: у
горад таварышы наяжджалі часта і (сустрэчы) спатканьні з імі былі натуральныя і
непрыкметныя. Гэта было каштоўным у інтарэсах прапаганды.
У
той жа час менская арганізацыя атрымала значны прырост рэвалюцыйных сіл. У
канцы 1884 года вярнулася з-за мяжы ў Менск Яўгенія Адольфаўна Гурвіч; затым
сьледам у 1885 годзе вярнуўся са ссылкі з Ішыма яе брат Ісак Адольфавіч Гурвіч
з жонкай Аленай Ільінічнай, народжанай Кушалеўскай родам з Нясьвіжа, і трошкі
пазьней з Шанкурскай ссылкі вярнуўся Станіслаў Іванавіч Грынявецкі, ён жа
далучыў таварыша па ссылцы Франца Банкоўскага. Нашага палку прыбыло! Брат і
сястра Гурвічы і Грынявецкі былі людзьмі з сувязямі і з вялікім рэвалюцыйным
вопытам і таму былі асабліва карысныя. I Грынявецкі і Гурвіч многа чыталі ў
ссылцы, яшчэ больш дыскусіравалі і па частцы праграмных пытаньняў былі лепш
падкаваныя, чым кожны з нас. У іх яўна вызначаўся ўхіл, які мы называлі
“чернопередеческим”, але не да такой ступені, каб нельга было рабіць агульную
справу. Грынявіцкі адразу далучыўся да нашай арганізацыі, з якой ён меў сувязь
і раней (але заставаўся ў Менску не доўга: па асабістых прычынах павінен быў
вярнуцца ў Шанкурск, дзе заставалася яго жонка). І. А. Гурвіч, не сышоўшыся з
Хургіным на глебе сумеснай працы, а часткова з-за тактычных рознагалосьсяў,
стаў вэрбаваць сабе прыхільнікаў з асяродзьдзя арганізаваных яўрэйскіх рабочых,
утварыўшы новую невялікую групоўку “ісакаўцаў”. На гэтай глебе ўзьніклі
крыўдныя непаразуменьні з Хургіным, якія можна ахарактарызаваць як “спрэчка аб
генэральстве”.
Аб
гэтых непаразуменьнях I. А. расказвае сам у артыкуле аб яўрэйскіх рабочых
гуртках у Менску («Былое», 1897 г., кн. 7), так
што я на іх спыняцца не буду, тым больш што яны не мелі для агульнай справы
ніякіх сур’ёзных вынікаў.
Аднак спачатку гэта разглядалася як дэзарганізацыя і перашкода.
У
той жа час мелі месца больш непрыемныя абставіны, якія патрабавалі сур’ёзнай увагі.
З
году ў год на велікодныя канікулы традыцыйна даваўся баль для папаўненьня касы
ў карысьць студэнтаў. Пры дзяльбе дапамогі рэзка праявіўся нацыянальны
сэпаратызм: частка польскага студэнцтва (безумоўна — не рэвалюцыйнага:
Гольцберг і кампанія) унесла прапанову не выдаваць дапамогу студэнтам-яўрэям,
быццам на той аснове, што яўрэйскія капіталісты рэдка наведваюць баль і мала
ахвяруюць.
Студэнты-рэвалюцыянэры пратэставалі супраць гэтага нацыянальнага
выключэньня, прынцыпаў вузкага мэркантылізму — дай і дам, але засталіся ў
меншасьці. Было прынятае кампраміснае рашэньне, і гэта было дурным знакам.
А
між іншым — як-ніяк, няхай па кіраўніках, няхай па практычных меркаваньнях, але
факт той, што адна і тая ж партыйная арганізацыя групавалася, па сутнасьці, па
нацыянальных прыкметах. Гэта быў не лепшы прыклад, ад якога трэба было
пазбавіцца. Як па прычыне гэтых адмоўных паказаньняў, так і ў сувязі з
цякучасьцю саставу абодвух груповак, а значыць, непазьбежнага іх зьнясільваньня
адлівам ва унівэрсытэцкія цэнтры, арыштамі, адыходам з актыўных шэрагаў убок,
што пагардліва называлася “адчальваньнем”, — па гэтых прычынах неабходна было
аб’яднаць свае сілы ў адну арганізацыю з агульным кіраўніцтвам.
Гэтая думка напрошвалася сама сабой, што называецца — пасьпела. У згодзе
“яфімаўцаў” мы не сумняваліся, але было не вядома, як да гэтага аднясецца іх
правадыр — Хургін-Люты, як мы яго празвалі: у гуртку сваіх вучняў ён
генэральстваваў непадзельна і вельмі трымаўся за сваё адзінаўладзьдзе. Яго
дыктатарскія звычкі былі добра вядомыя. Але цяжка было адмаўляць неабходнасьць
адзінага кіраўніцтва, і “Люты” (Яфім Саламонавіч) пайшоў на аб’яднаньне.
Затым быў праведзены сумесны сход таго і другога бакоў (Акаловіч,
Міцкевіч, Тэадаровіч, Паўлоўскі і я), а з боку “лютаўцаў”, акрамя яго самога,
Мерлінскі, Протас, Белах, і за адно пасяджэньне пытаньне было вырашана.
Прынцыповых рознагалосьсяў між намі не было ніякіх: абмяркоўваліся толькі
пытаньні арганізацыйныя і кансьпіратыўнага парадку...
Заставалася па-за аб’яднаньнем група “ісакаўцаў”.
Па
сутнасьці, гэта была чыста сямейная група з трох Гурвічаў. (З інтэлігенцыі
далучыўся да іх Разэнталь, служачы гарадзкой управы.).
Работу яны вялі з нашымі, ужо арганізаванымі рабочымі, прымяняючы часам
формы мітынгаў або масовак у Камароўскім або Антонаўскім лесе, што не мірылася
з прынятымі ў нас кансьпіратыўнымі формамі гуртковай работы.
Трэба было згаварыцца адносна мэтадаў сумеснай работы і, калі можна —
арганізацыйнага аб’яднаньня. Але перамовы між лідэрамі, Хургіным і Ісакам,
толькі вялі да непатрэбнага абвастрэньня адносін.
З
сям’ёю Гурвічаў я неяк адразу сяброўскі сышоўся (і з тых часоў цесная дружба
нязьменна нас аб’ядноўвала) і ў якасьці чалавека сьвежага, не прынізіўшага ні
чыйго самалюбства, узяў на сябе папярэднія перамовы.
Шчыра кажучы, я заўсёды надаваў галоўнае значэньне адзінству мэт і
сумеснай практычнай рабоце для іх дасягненьня і быў пазбаўлены дактрынёрскай
нецярпімасьці дробнага сэктанцтва, а ў тую падрыхтоўчую эпоху рэвалюцыйнага
руху — эпоху, так сказаць, сынтэтычную, тым больш, справа — сама сабой, а
акадэмічныя спрэчкі — самі сабой у вольны час. А справа была такая простая і
такая ясная. Але я лічыў, як і мае таварышы, што адкрытыя выступленьні з
непадрыхтаванымі рабочымі, якія не ўзмоцніліся арганізацыйна і не ўсьвядомілі
сваіх клясавых інтарэсаў, загадзя былі асуджаны на правал, не толькі без
карысьці, але і з несумненнай шкодай для справы.
У
гэтым сэнсе я вёў працяглую гаворку з Ісакам Адольфавічам.
Ён
пярэчыў у духу тых праграмных спрэчак, якія яму даводзілася весьці ў ссылцы, —
пярэчыў, трэба сказаць, прадумана і пераканана, сутнасьць яго пярэчаньняў можа
быць фармуляваная так: ён разумее працу сярод інтэлігенцыі толькі ў тым сэнсе,
каб падрыхтаваць прапагандыстаў і арганізатараў для рабочых. Прапаганда ў
рабочым асяродзьдзі адзіна патрэбная і плённая. Яна адна мае сэнс для
сацыяльнай рэвалюцыі. Работа сярод сялян без арганізаваных рабочых не можа мець
самастойнага значэньня, і пакуль што з яе нічога не выйдзе.
Тэрор, як сыстэму, ён рашуча адмаўляе. Палітыка вашага Выканаўчага
Камітэта — якабінская палітыка, якая наогул нічога не дасьць істотнага, а ў
нашых умовах рашуча не прымянімая: гідру самадзяржаўнага ладу трэба душыць,
навальваючыся масай, кляс супраць клясу, а не секчы ёй галовы. Са старой казкі
вядома, што на месцы сьсечаных вырастаюць новыя ў двайным ліку.
Вы
хочаце строгай кансьпірацыі? Ну, і кансьпіруйце: яна патрэбна для вашай
змоўніцкай працы. Мне асаблівай кансьпірацыі не патрэбна. Займаючыся з рабочымі,
цяжка кансьпіраваць вашымі блянкісцкімі мэтадамі. Уся ваша кансьпірацыя
прывідная і ні да чаго не вядзе. Вы закансьпірваецеся ад саміх сябе: гэта
палітыка страуса, які хавае галаву ў пясок. Ад добрых жандараў і сышчыкаў не
закансьпіруецеся. Будуць правальвацца арганізацыі? Гэта непазьбежна, гэта, калі
хочаце, закон. Што з таго? Хто не хоча правальвацца
і сядзець у турмах, няхай не ідзе ў рэвалюцыю.
Я
прывёў гэтыя “тэзісы” таму, што, па сутнасьці, у гэтай сфэры круціліся нашы
спрэчкі ў далейшым.
Тут
былі, вядома, рознагалосьсі, але не столькі карэннага і актуальнага значэньня,
каб дыскусію лічыць бескарыснай.
Ва
ўсякім разе — адносіны трэба было ўладзіць. Акаловіч, Міцкевіч і амаль усе
былыя “яфімаўцы” гэтага дамагаліся. Хургін пярэчыў, напіраў на асноўны
аргумэнт: яны не прызнаюць нашай праграмы, а значыць, не будуць
падпарадкоўвацца і партыйнай дысцыпліне.
Але большасьць была за вядзеньне перамоў аб зьліцьці або, у крайнім
выпадку, аб узгодненасьці сумеснай работы.
Ад
вядзеньня перамоў Хургін тактычна ўхіліўся. Былі выдзелены для гэтай мэты
Акаловіч, Міцкевіч, Мерлінскі і я. З боку “ісакаўцаў” удзельнічаў ён сам, яго
жонка Алена Ілынічна і Разэнталь, служачы гарадзкой управы.
Мы
многа разоў зьбіраліся за горадам і многа спрачаліся. Было б доўга выкладаць
зьмест гэтых гутарак. Па сутнасьці, гэта была спрэчка брашуры Пляханава
“Социализм и политическая борьба”, адкуль Гурвіч чэрпаў свае аргумэнты, з “Вестником
Народной воли”, адкуль чэрпалі мы свае пярэчаньні, абараняючы праграму і тактыку
сваёй партыі.
Мяккі тон і як бы паважлівы падыход пляханаўскай брашуры да партыі
“Народнай волі” былі нам на руку.
Аднак мы не прыйшлі да канчатковай згоды па праграмных пытаньнях і к
арганізацыйнаму зьліцьцю, але ў сувязі з агульнасьцю мэт і ў сувязі з істотнымі
рознагалосьсямі па асноўных пытаньнях нашай праграмы рашылі працаваць разам, а
для ўзгодненасьці работы — праводзіць, ад выпадку да выпадку, перагаворы і
дзейнічаць па дамоўленасьці. Гэта быў кампраміс, але большага мы не маглі
дасягнуць.
Справа была не столькі ў праграмных рознагалосьсях, колькі ў асобах: I.
А. Гурвіч настойваў на ўключэньні ў кіруючую групу яго жонкі, а Хургін быў
рашуча супраць гэтага.
Аднак гэтыя перагаворы не былі безвыніковымі; не зьліўшыся фармальна, мы
ўсё ж працавалі разам. А пазьней, калі наш наяўны састаў па розных прычынах
значна скараціўся ў ліку, мы, пакінуўшы ўбаку праграмныя рознагалосьсі, без
усякіх размоў і спрэчак фактычна зьліліся ў адну арганізацыю. “Не да жыру, быць
бы жыву”.
У
канцы свайго нарыса “Першыя яўрэйскія рабочыя гурткі” (“Былое”, 1907 г., 7 кн.) I. А. Гурвіч гаворыць: “Як перадаваў «Ягоравіч»
(гэта я. — А. Б.), вырашана было спыніць меркаваньне праграмных пытаньняў і
застацца пры ранейшым сьветаўспрыманьні». Каб пазьбегнуць непаразуменьняў, лічу
неабходным заўважыць, што тут гаворка ідзе пра дэбаты, якія праходзілі значна
пазьней (у 1887 або 1888 годзе) і вяліся не па прычыне зьліцьця і ўзгодненасьці
дзеяньняў, а па выпадку брашуры “Программа для обсуждения программных вопросов”,
г. зн. па пытаньнях тэарэтычных. (Аб гэтых дэбатах я раскажу ў другім месцы,
цяпер жа працягну аб зьбіраньні і згуртаванасьці нашых сіл.)...
/А. Я. Багдановіч. Да гісторыі партыі “Народная воля” ў
Мінску і Беларусі (1880-1892). // Маладосць. № 11. Мінск. 1995. С. 215,
223-227, 230-239./
Д. Яўрэйская група
“Яфімаўцы”, або “Хургінцы”.
Я
пералічыў ужо актыў групы Хургіна, але далёка не ўсіх вылічыў яго вучняў або
прыхільнікаў. Трэба дабавіць яшчэ наступных таварышаў, якія па розных прычынах
у актыў не ўваходзілі. Ці таму, што былі вельмі занятыя, ці таму, што не
вызначаліся выдатным талентам прапагандыста (а гэта было галоўнай нашай
справай) або выконвалі функцыі, якія патрабавалі асаблівай канструктыўнасьці,
як яўкі, адрасы, загадваньне кансьпіратыўнай кватэрай і т. п., што патрабавала
іх адасабленьня, стаяньня ў цяні, убаку.
Такімі былі:
Эсфір Якаўлева, пазьней жонка Я. С. Хургіна. Яна была служачай буйнай
гандлёвай фірмы «Шабат», і на яе імя ішла кансьпіратыўная перапіска і яўкі.
Вялікі магазын з масаю наведвальнікаў выдатна маскіраваў яўкі. Пароль і лёзунг
даваліся ў адпаведнасьці з агульным характарам гандлёвай справы, але выключна
па сваім значэньні.
Ганна Якаўлеўна Уфлянд — сястра папярэдняй, па
прафэсіі — акушэрка, дзявочага яе прозьвішча я не ведаў, а пасьля вяртаньня з
катаргі М. А. Уфлянда яна выйшла за яго замуж, займалася ў рабочых гуртках.
Вольман, доктар; у яго кватэры разьмяшчалася падпольная бібліятэка; у
канцы 80-х эмігрыраваў у Амэрыку, дзе хутка памёр.
Пеймер Вера, швачка, як і Дуня Левіна, таксама швачка, была гаспадыняй
кватэры, дзе разьмяшчалася падпольная друкарня; пасьля яе правалу зьехала ў
Варшаву. Дуня Левіна жыве ў Ленінградзе.
Ліхтэрман Якаў, фармацэўт; у канцы 80-х гадоў паехаў у Коўна, далейшага
лёсу не ведаю.
Хургін — брат лідэра, мылавар, у 1887 годзе эмігрыраваў у Амэрыку.
Помняцца яшчэ Фрумкін Сямён, Поляк Саламон, студэнт, і Зэйдман, які эмігрыраваў у Швэйцарыю. I яшчэ браты Закі,
па мянушках «Зак Вялікі» (Леў Маркавіч) і «Зак Маленькі» (Самуіл), займаліся ў
рабочых гуртках. Леў Маркавіч вылучыўся пазьней у якасці выдатнага
рэвалюцыйнага работніка, выдатны земскі статыстык, публіцыст, перакладчык разам
з Я. А. Гурвіч (цяпер супрацоўніца Інстытута К. Маркса і Ф. Энгельса)
«Капитала». I ў менскі пэрыяд, яшчэ маладым чалавекам, ён зьяўляўся шматабяцаючым
і трымаўся даволі незалежна па адносінах да нарадавольніцкай праграмы. Гальперн
Яфім, па мянушцы “Сьляпы”; ён сёе-тое бачыў, але вельмі кепска і таму часта
“бачыў” шпіёнаў і сышчыкаў, займаўся ў гуртках, пераважна ў рабочых.
Рабочыя кіраўнікі:
Рэзнік Іосіф, рабочы друкарні.
Зьвірын Якаў — таксама. Абое эмігрыравалі ў Амэрыку.
Краскоў — выхадзец з рабочага асяродзьдзя, дасягнуў у гуртках значнай
адукацыі, у самым канцы 80-х гадоў эмігрыраваў.
Сакалоў — сьлесар, тып горкаўскага Ніла з “Мещан”, — сьмелы і
прадпрымальны, арганізатар арцельнай майстэрні; у канцы 80-х гадоў зьехаў у
Жытомір.
Парфіяновіч Казімір, па мянушцы “Казік”,
рабочы чыгункі, а потым займаў нейкую разьездную пасаду; вёў прапаганду сярод
рабочых чыгункі.
Радавых рабочых, арганізаваных у гурткі, я знаў мала: іх ведалі
“настаўнікі”, гэта значыць асобы, якія з імі займаліся. Мая непасрэдная
прапаганда ў рабочым асяродзьдзі абмяжоўвалася вучнямі Яўрэйскага рамеснага
вучылішча, дзе я быў выкладчыкам на працягу шасьці гадоў. Таго-сяго з іх,
настроеных рэвалюцыйна, я помню па імёнах, але ўсе яны ў розны час
эмігрыравалі, рассыпаліся па ўсім свеце, і я атрымліваў ад іх пісьмы і розных
гарадоў Злучаных Штатаў, Аргентыны, Эгіпта і Аўстраліі... Дзе іх толькі не
было?
Пра “ісакаўцаў” я ўжо гаварыў: гэта, па сутнасьці, была сямейная група з
ухілам, які пазьней — па прыкладу нямецкай рабочай партыі — быў названы
сацыял-дэмакратычным, што, між іншым, Гурвічам ніколькі не перашкаджала
працаваць з намі разам.
I
больш або менш адасоблена Рагалер Леў Восіпавіч, раней прапагандыст, які
пазьней рэдка зьяўляўся ў Менску.
Да
іх цягнуўся і Абрамовіч Эміль, студэнт Дэрпцкага унівэрсытэта, потым урач. Але
ён рэдка і на кароткі час зьяўляўся ў Менску: толькі на канікулах (па вяртаньні
са ссылкі), ад арышту да арышту. А ён часта трапляў пад арышт: як мы цяпер
ведаем Зубатаў не выпускаў яго з-пад увагі...
/А. Я. Багдановіч. Да гісторыі партыі “Народная воля” ў
Мінску і Беларусі (1880-1892). // Маладосць. № 12. Мінск. 1995. С. 220-222./
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ДОКУМЕНТЫ
ПО ЯКУТСКОМУ ДЕЛУ
22 марта 1889 года
(Копия выписки из дела)
По постановлению бывш. иркутского
генерал-губернатора, ныне тов. мин. вн. д. генерал-лейтенанта графа Игнатьева,
состоявшемуся 14 апр. 1889 года, преданы военному суду по законам военного
времени при Якутской местн. команде государственные административно-ссыльные
преступники: Лев Коган-Бернштейн, Альберт Гаусман, Николай Зотов, Моисей
Брамсон, Иосиф Минор, Самуил Ратин, Мендель Уфлянд, Мовша Гоц, Иосиф Эстрович,
Михаил Эстрович, Шендер Гуревич,, Матвей Фундаминский, Марк Брагинский, Михаил
Орлов, Липман Берман, Кисиель (он же Константин) Терешкович, Борис Гейман,
Сергей Капгер, Подбельский, Сара Коган-Бернштейн, Вера Гоц, Анисья Болотина,
Паулина Перли, Роза Франк, Евгения Гуревич, Анастасия Шехтер и Анна
Зороастрова, а также государственные ссыльные Исак Магат, Иосиф Резник и
Николай Надеев за соглашение с целью противодействовать распоряжениям
начальства и вооруженное затем сопротивление властям с убийством полицейского
служителя, покушением на убийство и. д. Якутск. губерн. и нанесением ран
офицеру и некоторым нижним чинам означенной местной команды. По военно-судному
делу, поступившему 3 июля на конфирмацию, оказалось: по значительному скоплению
госуд. ссыльных, преимущественно евреев, предназначенных к водворению в
северных округах Верхоянском и Колымском, они, по тесноте помещения в местном
тюремном замке, впредь до отправления по назначению, были временно размещены
отчасти в самом городе, а некоторые по ближайшим к городу улусам. В виду
скорого прибытия новых партий таких же ссыльных и медленности в отправке их в
эти округа, которая, по местным условиям, производилась по 2-3 человека с таким
же числом конвойных через 7-10 дней, и. д. Якутск, губернатора Осташкин в устранение
происходивших от сего неудобств, частых самовольных отлучек вышеупомянутых
ссыльных из улуса в город Якутск, где ими была самовольно устроена библиотека и
читальня, а также уклонения их под разными предлогами от очередной отправки, 16
марта 1889 года сделал распоряжение по окружному и городскому полицейскому
управлению об отправлении их в те округа усиленными партиями по четыре чел.,
через каждые семь дней, при чем обязал предназначенных к отправлению собирать
накануне и, как пересыльных арестантов, заключать в тюремный замок, откуда и
передать их конвоирам; в то же время предписал иметь строгое наблюдение за тем,
чтобы отправляемые в северные округа госуд. ссыльные, во избежание излишнего
требования от содержателей по тракту подвод, как это было замечено, на
основании циркуляра главн. тюр. упр. от 10 окт. 1886 г. за № 1147, имели при
себе каждый не более 5-ти пудов клади, излишнюю же тяжесть сверх 5-ти пудов ни
в каком случае не дозволять им брать. К отправлению таким порядком госуд.
ссыльных в гор. Верхоянск и Средне-Колымск в течение марта и апреля, как более
удобного времени, предназначены были тогда же в Верхоянск: Гейман, Резник с
семьей, Роза Франк, Болотина, Фрума Гуревич, Пик, Анастасия Шехтер, Евгения
Гуревич, Михаил Орлов, Робсман и Винярский; в Средне-Колымск: Альберт Гаусман,
с семейством, и Мовша Гоц, с женою Верою. Такое распоряжение и. д. як. губ.
вызвало неудовольствие ссыльных, видевших в этой мере стеснения для себя и
желавших отсрочить самую отправку их до весны, с вероятною целью, по дошедшим
до губернатора сведениям, побега некоторых из них; поэтому сначала, 18 марта,
явился к и. д. губ. Осташкину ссыльный Мовша Гоц, в качестве депутата от своих
товарищей, с словесной просьбой об отмене этого распоряжения; когда губерн.
объявил Гоцу, что распоряжение это будет оставлено в силе, несмотря ни на какое
противодействие с их стороны, и велел передать об этом прочим ссыльным, то Гоц,
уходя, возвышенным голосом сказал, что они, ссыльные, не исполнят этого
распоряжения. Затем 21 марта, накануне отправки первой усиленной партии, во 2-м
часу дня явились толпою в обл. правление 30 человек ссыльных с письменными
заявлениями, требуя все в один голос принять от них заявления и немедленно
представить их губернатору для отмены сделанных распоряжений об усиленной
отправке в северные округа, которым подчиниться они не могут. На убеждения
советника обл. правл., наведывающего делами экспедиции о ссыльных Добржинского
о незаконности являться целою толпою в присутственное место с целью
противодействовать распоряжениям начальства, с заявлениями, которых принять он
не имеет права, ссыльные продолжали громко настаивать и, на предложение его
удалиться из присутств. места, ответили, что не уйдут до тех пор, пока не будут
доложены их заявления губернатору, при чем не дозволили даже затворить двери
отделения, в котором он занимается. Вследствие чего советник Добржинский
вынужден был послать за полицмейстером, который вскоре прибыл и, видя толпу
ссыльных в возбужденном состоянии, отобрал от них, в видах успокоения,
приготовленные ими заявления, обещаясь доложить их губернатору и объявить им
резолюции по этим заявлениям. По выходе затем, по требованию полицмейстера из
обл. правл., госуд. ссыльные стали доказывать ему правоту своих требований,
говоря, что во всяком случае они не поедут по сделанным последним распоряжениям
губернатора, что могут заставить их к тому только силою, при чем Иосиф Минор,
потрясая рукою, сказал: «мы не шутим с начальством, вы знаете, г. полицмейстер,
чем это пахнет?». По акту, составленному по сему случаю, явились толпою в Як.
обл. пр.: Зотов, Коган Бернштейн, Резник, Пик, Муханов, Терешкович, Брамсон,
Уфлянд, Ратин, Шур, Берман, Минор, Фундаминский, Иосиф Эстрович, Михаил
Эстрович, Ноткин, Брагинский, Гуревич, Гаусман, Орлов, Мовша Гоц, Магат, Фрума
Гуревич, Евгения Гуревич, Роза Франк, Анастасия Шехтер, Вера Гоц, Анисья
Болотина и Паулина Перли, всего 30 чел., некоторые из них с этой целью пришли
из улусов без разрешения. Отобранные от них заявления, по своему содержанию и
оборотам речи, совершенно тождественны, некоторые писаны одним почерком; в
заявлениях они просили об отмене сделанных за последнее время распоряжений и.
д. губернатора с тем, чтобы отправлять их по-прежнему в северные округа по 2
челов. через каждые 10 дней, с правом брать с собою багажа не менее 10 пуд. на
человека, при чем никого перед отправкой не арестовывать и на путевые издержки
выдавать им деньги заблаговременно. По докладу означенных заявлений и. д. губ.
Осташкин положил резолюцию: оставить заявления эти без последствий, а за подачу
их по общему уговору, скопом, с нарушением порядка благочиния в обл. пр., а
также за самовольную явку некоторых из них в город без всякого разрешения и
вмешательство в распоряжения губернатора таких администрат.-ссыльных, до
которых не дошла еще очередь отправки и которые вовсе не были назначены к
высылке в весеннее время, что очевидно сделано было им с целью оказать
противодействие распоряжениям губернатора, несмотря на сделанные по этому
предмету предупреждения ссыльному Гоцу, являвшемуся перед тем к нему депутатом
от своих товарищей, — виновных привлечь на основании 265-270 ст. Ул. о нак. к
законной ответственности и, по объявлении им этой резолюции в гор. полиц. упр.,
заключить их в тюремный замок до окончания следствия по сему обстоятельству;
назначенных к следованию в Верхоянск отправить ныне же по назначению из
тюремного замка; для приведения в исполнение сего распоряжения и охранения
порядка, в виду выраженной ими готовности к неповиновению, по недостаточности
полицейской команды, вызвать в помощь полиции до 30 вооруженных нижних чинов из
местной команды под начальством офицера, о чем тогда сообщено им начальнику
этой команды капитану Важеву. Во исполнение сего як. полицм. полковник Сукачев,
зная, что госуд.-ссыльные, подавшие заявления, собрались в квартире одного из
них, Якова Ноткина, в доме мещанина Монастырева, командировал 22 марта, в 10
час. утра, полиц. надзирателя Олесова, с 50-десятником гор. казачьего полка
Андреем Большевым пригласить их явиться к 11 часам в полиц. упр. для выслушания
резолюции губернатора по заявлениям их. На подобный призыв госуд.-ссыльные
категорически отказались идти, требуя объявления им означенной революции на
квартире, где находятся они в сборе. По докладу об этом и. д. губ. Осташкин
сделал распоряжение о доставке их в полиц. упр. с помощью отряда, вызванного из
местной команды. Согласно этого распоряжения полицмейстер и начальник местной
команды капитан Важев с помощником своим подпоручиком Карамзиным и 30
вооруженными нижними чинами отправились около 11 час. утра в квартиру Ноткина.
Прибыв к дому Монастырева, как это видно из составленного акта, они нашли
ворота запертыми, вследствие чего, для открытия доступа во двор, была выломана
калитка, и в квартиру Ноткина послан был поручик Карамзин с предложением
госуд.-ссыльным добровольно явиться в гор. полиц. упр. по распоряжению
губернатора, на что они ответили отказом; по оцеплении затем квартиры нижними
чинами полицмейстер и нач. команды капитан Важев вновь обратились к ссыльным с
увещанием исполнить требование начальства. Ссыльные вначале выказали колебание,
согласившись на убеждение идти в полиц. упр. только без конвоя, — многие, в
особенности некоторые из женщин, и под конвоем; но в это время из среды их
выступил вперед Лев Коган-Бернштейн и, взяв в руки стул, стал убеждать
товарищей своих тоном, вызывающим и возбуждающим, не падать духом, говоря:
«неужели вы боитесь, я сам служил в солдатах, силою с нами ничего не сделают и
т. п.», после чего ссыльные решительно отказались исполнить предъявленные к ним
требования. Видя такое упорство и бесполезность всех увещаний, начальник
команды капитан Важев приказал подпоручику Карамзину и 10 чел. солдат войти с
ним в комнату и выводить их во двор по несколько человек силою, если не
пожелают идти добровольно. Когда подпоручик Карамзин вошел в комнаты с
солдатами, и ссыльные на троекратное предложение его отказались также выходить,
велел солдатам окружить стоявших в первых рядах и выводить их, тогда один из
них (с большими волосами в серой поддевке), вскочив на диван, стал стрелять в
тех солдат из револьвера; вслед затем последовали учащенные револьверные
выстрелы в самого Карамзина и в окна по направлению к цепи остальных солдат;
вследствие чего вошедшие с подпоруч. Карамзиным в комнаты солдаты, имея ружья
незаряженными, выбежали оттуда, вслед за ними вышел подпор. Карамзин, раненый
пулею в левую ногу, выше 4 вершков коленного сустава, в мягкие части на вылет,
— между тем выстрелы со стороны госуд. ссыльных продолжались в окна и в
отворенные двери по направлению стоявших на дворе солдат и полиц. служителей,
тогда капитан Важев скомандовал солдатам, стоявшим в цепи, сделать выстрел в те
окна, из которых производилась усиленная пальба ссыльных, после того выстрелы
прекратились. Вскоре затем, по извещении полицмейстера о происходившем, прибыл
на место и. д. губерн. Осташкин и, выйдя во двор дома Монастырева, обратился к
некоторым бывшим тут же во дворе ссыльным с увещанием подчиниться требованиям
полиции; один из них, как оказалось впоследствии, Ноткин, подойдя к нему близко,
выстрелил в него 2 раза из револьвера почти в упор и ранил его в живот; полиц.
служитель Хлебников схватил было стрелявшего, но тогда же последовало еще
несколько выстрелов, направленных в уходившего и. д. губерн., а полиц. служ.
Хлебникова смертельно ранили в живот, т.-е. пальба ссыльными возобновилась.
Поэтому капит. Важев вновь скомандовал стрелять и тотчас прекратить эту
стрельбу, когда ссыльные, выбрасывая свои револьверы в окна, стали кричать, что
они сдаются. Взятые после того в доме Монастырева госуд. ссыльные: Константин
Терешкович, Моисей Брамсон, Мендель Уфлянд, Самуил Ратин, Липман Берман,
Альберт Гаусман, Шендер Гуревич, Марк Брагинский, Борис Гейман, Сергей Капгер,
Михаил Эстрович, Роза Франк, Евгения Гуревич, Анастасия Шехтер, Анисья Болотина,
Паулина Перли и Анна Зороастрова отправлены под стражу в местный тюремный
замок. По отправлении их арестован Исаак Магат, подавший накануне заявление
скопом, но не участвовавший в вооруженном сопротивлении, затем был задержан
около дома Монастырева сс.-поселенец Николай Надеев, у которого в кармане
найдено несколько револьверных патронов. В самом же доме, на месте, оказались:
Муханов, Ноткин, Пик и Шур убитыми ружейными выстрелами, и тела их
препровождены в анатомический покой; Фрума Гуревич, Лев Коган-Бернштейн,
Подбельский, Зотов, Иосиф Минор, Мовша Гоц, Иосиф Эстрович, Фундаминский и
Орлов ранеными, и поэтому отправлены в гражданскую больницу, вместе с Верой
Гоц, находившейся при муже, из них Фрума Гуревич и Подбельский, тяжело раненые,
вскоре умерли в больнице. Раны, нанесенные ссыльными подпоруч. Карамзину и
рядовому Горловскому, отнесены к разряду легких; рана, полученная полиц.
служителем Хлебниковым, в диаметре не более пули револьвера малого калибра,
проходила через всю брюшную полость, от которой он в тот же день вечером и
умер. У и. д. губерн. Осташкина по медицинскому освидетельствованию оказалась в
правой стороне живота, немного ниже пупка, легкая контузия, произведенная
револьверною пулею, пробившею в том месте ватное пальто, которое было на нем.
При осмотре дома мещанина Монастырева, из которого взяты означенные ссыльные,
кроме 4 револьверов разных систем, выброшенных ими в окна, найдены еще
6-ствольный револьвер большого калибра, заряженный 5 пулями [* 4 револьвера, выброшенные
в окно, оказались купленными накануне 21 марта в г. Якутске, в лавке Захарова с
сотнею при них патронов; при чем 2 из них Шендером Гуревичем, а другие 2
неизвестно кем из госуд. ссыльных.], кроме того много выстрелянных гильз
и несколько револьверных патронов, 4 кобура и несколько жестяных ящиков также
от револьверных патронов, двуствольное ружье без замков, ствол одноствольного
ружья и записная книжка с 3-мя 5-рублевыми кред. билетами, при этом собрано 25
небольших разорванных клочков бумаги, валявшихся на полу с фамилиями
госуд.-ссыльных, которые указывают на то, что между ними происходили какие-то
выборы, так как на одном из этих клочков бумаги написано: «не могу никого
выбрать, мало еще знаком с публикой. М. Эстрович». Затем при обыске в квартире
Гаусмана и Брамсона оказались еще 2 револьвера. По предъявлении госуд.
ссыльных, взятых в доме Монастырева, в том числе раненых и убитых, подпор.
Карамзин, унт.-офицер Ризов, казак Ципандин, Винокуров и др. признали Николая
Зотова, Льва Когана-Бернштейна и Альберта Гаусмана за тех, которые при взятии
их для вывода из означенного дома, вскочив на диван, первые начали стрелять в
солдат, хотевших оцепить некоторых из них, при чем подпор. Карамзин
удостоверил, что после того видел Зотова стрелявшим с крыльца в уходившего и.
д. губернатора после сделанного в него выстрела Ноткиным. Подсудимые, подавшие
однородные заявления на имя Якутск. губерн. об отмене сделанных им распоряжений
в отношении усиленной отправки их в Верхоянский и Колымский округа, за
исключением Иосифа Резника, который по случаю отправки его 31 марта в Верхоянск
не вызывался в суд, показали, что на подачу означенных заявлений общего
соглашения между ними не было, многие из них собрались по этому случаю в обл.
пр. случайно, где никакого шума и беспорядка не производили. В отношении
оказанного ими вооруженного сопротивления в доме мещанина Монастырева
задержанные в этом доме, отрицая факт какого-либо соглашения на это
преступление, отозвались, что вначале не соглашались идти под конвоем по
неимению письменного распоряжения об их арестовании, выстрелы некоторых
ссыльных были непреднамеренные, а вызванные действиями административных лиц,
главным образом полицмейстера; у кого было оружие и кто из них стрелял отвечать
многие из них отказались; некоторые только показали, что оружия у них не было и
кто имел его — не знают. Перед заключением следствия Николай Зотов, сознаваясь
в том, что при виде насилия солдат и раздирающих криков женщин он выхватил из
кармана револьвер и, вскочив на диван, сделал выстрел в подпор. Карамзина и солдат,
между прочим, показал, что одновременно с его выстрелом раздались и другие
выстрелы и со стороны солдат, и со стороны госуд. ссыльных; после того, увидав
с крыльца и. д. губерн. Осташкина и будучи крайне возмущен убийством дорогих
ему товарищей, умерших на его глазах, выстрелил в него, как виновника всех этих
жертв, один раз, а когда он бросился бежать, стараясь скрыться за солдатами,
сделал в него выстрел в другой раз и ушел сам обратно в комнаты. Из
арестованных Борис Гейман, Сергей Капгер и Анна Зороастрова в подаче заявлений
губерн. не участвовали, прибыли из улусов в Якутск по своим надобностям: Капгер
21 марта вечером, а Гейман и Зороастрова на другой день утром около 11 час. и,
не зная о преступных деяниях своих товарищей, что подтвердилось и на суде,
зашли в квартиру Ноткина, чтобы видеться с некоторыми из своих знакомых, и
узнав в то же время, что они ожидают объявления какой-то резолюции губернатора,
остались там, где и были вскоре взяты.
О предварительном соглашении между ними на
сопротивление начальству при них никакого разговора не было.
Подсудимые Роза Франк и Анастасия Шехтер,
по показаниям полицейского надзирателя Олесова и рядовых Маркова, Иксонова и
др., перед самым началом сопротивления изъявляли намерение подчиниться
требованиям начальства и уговаривали товарищей своих идти в полицейское
управление под конвоем, но не достигли своей цели вследствие сделанного
Коган-Бернштейном воззвания к неповиновению. Исаак Магат, подавший в числе
других заявление на имя губернатора, с целью противодействовать распоряжениям
начальства, во время оказанного сопротивления в квартире Ноткина не был, и
арестован уже после этого. По статейным спискам из подсудимых православного
вероисповедания: Николай Зотов, 26 лет, из дворян Таврической губ., Михаил
Орлов, 25 лет, сын коллежского асессора, Сергей Капгер, 28 лет, из дворян
Воронежской губ., и Анна Зароастрова, 26 лет, дочь священника. Вероисповедания
иудейского: Альберт Гаусман, 29 лет, из мещан, Лев Коган-Бернштейн, 28 лет, сын
купца, бывший студент петербургского университета, Сара Коган-Бернштейн, 28
лет, жена его, Шендер Гуревич, 22 лет, купеческий сын, Мендель Уфлянд, 27 лет,
из мещан, Иосиф Эстрович, 22 лет, сын купца, Исаак Магат, 22 лет, бывший
студент петербургского технологического института, Матвей Фундаминский, 22 лет,
сын купца, Мовша Гоц, 23 лет, купеческий сын, Марк Брагинский, 25 лет, из
мещан, Иосиф Минор, 27 лет, из мещан, Моисей Брамсон, 27 лет, из мещан, Самуил
Ратин, 28 лет, из мещан, Борис Гейман, 23 лет, из мещан, Паулина Перли, 26 лет,
мещанка, Анастасия Шехтер, 29 лет, мещанка, Анисья Болотина, 24 лет, мещанка,
Роза Франк, 28 лет, дочь купца, Липман Берман, 20 лет, из мещан, Михаил
Эстрович, 20 лет, сын купца, и Евгения Гуревич, 18 лет, мещанка. Все они
сосланы административно в Сибирь по особым высочайшим повелениям, из них
Николай Зотов и Михаил Орлов вначале высланы были в Тобольскую губернию, но за
беспорядки и неповиновение властям в пути следования, по постановлению министра
внутренних дел, отправлены в отдаленнейшие места Якутской области; кроме того
Зотова, Орлова, Шендера Гуревича, Веру Гуревич и Кисиеля Терешковича за
беспорядки, произведенные ими в числе других в Томске, согласно распоряжения
тов. мин. вн. дел, предписано в октябре 1888 года разместить их по улусам Якутской
области отдельно одного от другого. Анна Зороастрова выслана была под надзор
полиции в Степное генерал-губернаторство и водворена в Семипалатинск, но затем
разрешено ей переехать в Якутскую область, в место нахождения ссыльного Сергея
Капгера, с которым пожелала вступить в брак; прибыла в ноябре 1888 года.
Приговор.
Военный суд, признав подсудимых
государственных ссыльных:
1) Льва Когана-Бернштейна, 2) Альберта
Гаусмана, 3) Николая Зотова, 4) Марка Брагинского, 5) Моисея Брамсона, 6) Мовшу
Гоца, 7) Шендера Гуревича, 8) Иосифа Минора, 9) Михаила Орлова, 10) Самуила
Ратина, 11) Менделя Уфлянда, 12) Матвея Фундаминского, 13) Иосифа Эстровича,
14) Сару Коган-Бернштейн, 15) Анисью Болотину, 16) Веру Гоц, 17) Паулину Перли,
18) Бориса Геймана, 19) Сергея Капгера, 20) Анну Зороастрову, 21) Розу Франк,
22) Анастасию Шехтер, 23) Липмана Бермана, 24) Кисиеля Терешковича, 25) Михаила
Эстровича и 26) Евгению Гуревич виновными в вооруженном сопротивлении
исполнению распоряжений начальства, по предварительному между собою соглашению,
с убийством при этом полицейского служителя Хлебникова, с покушением на
убийство и. д. Якутского губернатора Осташкина, с нанесением ран подпоручику
Карамзину и рядовому Горловскому, на основании 107 и 279 ст. XXII книги свода
военн. постановлений 1869 года издания 2-го, 118 и 119 ст. уложения о наказ,
уголовн. и исправ. издания 1885 года, приговорил: первых трех —
Когана-Бернштейна, Гаусмана и Зотова, как зачинщиков в означенном преступлении,
подвергнуть смертной казни через повешение; следующих затем 14 человек, как
сообщников, по лишении всех прав состояния, сослать в каторжную работу без
срока; Бориса Геймана, Сергея Капгера, Анну Зороастрову, во внимание того, что
они не участвовали в соглашении со своими товарищами на составление заявления с
целью противодействовать распоряжениям начальства и явились в квартиру Ноткина,
где оказано было затем сопротивление, в самый день происшествия, незадолго
перед самым сопротивлением, а Розу Франк и Анастасию Шехтер, во внимание того,
что перед началом вооруженного сопротивления изъявили намерение подчиниться
требованиям начальства и уговаривали товарищей своих идти в полицейское
управление под конвоем, — по лишении всех прав состояния, сослать в каторжную
работу на пятнадцать лет; остальных: Липмана Бермана, Кисиеля Терешковича,
Михаила Эстровича и Евгению Гуревич, во внимание их несовершеннолетия менее 21
года, согл. 139 ст. ул. о нак., по лишении всех прав состояния сослать в
каторжную работу на десять лет. Подсудимых Исаака Магата и Иосифа Резника, из
которых последний за отправлением в Верхоянск в суд для допроса не вызывался,
за соглашение в числе 30 человек на подачу заявлений с целью противодействовать
распоряжениям начальства по отправлению ссыльных в северные округа Якутской
обл., без всякого участия в самом сопротивлении по сему обстоятельству, на
основании 111 ст. означенной XXII кн., по лишению всех прав состояния, сослать
на поселение в отдаленнейшие места Якутской обл.; привлеченного к делу
ссыльнопоселенца Николая Надеева, который не принимал никакого участия как в
соглашении на подачу заявлений с целью противодействовать распоряжениям
начальства, так и в сопротивлении, оказанном после того тому же начальству, а
имел только патроны от собственного револьвера, оставшегося во время задержания
его на квартире, от ответственности освободить. Суждение о Подбельском, Фруме
Гуревич и о других, за смертью их, прекратить. Употребленные по делу издержки,
по приведении их в известность, взыскать из имущества подсудимых, признанных
виновными.
Мнение.
Открытое заявление, в числе восьми и более
человек, с намерением оказать противодействие распоряжениям начальства, по
закону 263 ст. ул. о нак. и 110 ст. XXII кн. свода военн. пост. 1869 г. издание
2-е, есть явное восстание против властей, правительством установленных, а не
вооруженное сопротивление, которое может быть оказано в числе 2-х или более лиц,
но менее восьми человек. Деяния подсудимых, подавших в числе 30 человек, по
общему соглашению, однородные заявления об отмене сделанных 16 марта 1889 г. и.
д. губ. Осташкиным распоряжений относительно отправки ссыльных согласно
назначения в северные округа Якутской обл. усиленными партиями, которым
подчиниться они не могут, хотя распоряжения эти касались немногих из них, а
затем отказ тех же ссыльных подчиниться требованиям начальства явиться в
полицейское управление для выслушания резолюции губернатора на упомянутые
заявления, выражают явное восстание, с намерением воспротивиться начальству,
которое сопровождалось убийством полицейского служителя Хлебникова, покушением
на убийство и. д. губ. Осташкина и нанесением ран выстрелами из револьверов
подпоручику Карамзину и рядовому Горловскому. В преступлении этом по
обстоятельствам дела положительно изобличаются государственные ссыльные:
Альберт Гаусман, Николай Зотов и Лев Коган- Бернштейн, как зачинщики, Моисей
Брамсон, Иосиф Минор, Самуил Ратин, Мендель Уфлянд, Мовша Гоц, Иосиф Эстрович, Михаил
Эстрович, Шендер Гуревич, Матвей Фундаминский, Марк Брагинский, Михаил Орлов,
Липман Берман, Кисиель Терешкович, Сара Коган-Бернштейн, Вера Гоц, Анисья
Болотина, Паулина Перли, Евгения Гуревич, Анастасия Шехтер и Роза Франк, как
пособники, при чем последние двое — Шехтер и Франк — согласившись в числе
других на подачу заявлений с целью противодействовать распоряжениям начальства,
по приходе военного отряда, изъявили желание идти под конвоем в полицейское
управление для выслушания резолюции и. д. губ. по этим же заявлениям и
уговаривали даже товарищей подчиниться сему требованию. Виновность Исаака
Магата, подавшего в числе других заявление и не бывшего на квартире Ноткина,
где оказано сопротивление начальству, заключается только в преступном
соглашении с целью противодействовать распоряжениям начальства. За
вышеуказанные преступления, на основании 75, 110 и 111 ст. XXII кн. свода воен.
пост. 1869 г. изд. 2-е, полагал бы: Льва Когана-Бернштейна, Альберта Гаусмана и
Николая Зотова, как зачинщиков, по лишении всех прав состояния, подвергнуть
смертной казни через повешение; на сообщников по обстоятельствам дела и по мере
содействия их в самом исполнении преступления: Мовшу Гоца, ходившего перед тем
депутатом к губернатору, Иосифа Минора, выразившегося, что с начальством они не
шутят, Шендера Гуревича, купившего накануне два револьвера, и Михаила Орлова,
неоднократно замеченного в неповиновении, за что по постановлению мин. вн. д.
из Тобольской губернии выслан и отдаленные места Якутской обл., как наиболее
выдающихся и означенном преступлении по своим действиям, по лишении всех прав
состояния, сослать в каторжную работу без срока; Марка Брагинского, Моисея
Брамсона, Самуила Ратина, Менделя Уфлянда, Матвея Фундаминского и Иосифа Эстровича,
как менее выдающихся по своим действиям, сравнительно с предыдущими, по лишении
всех прав состояния, сослать в каторжную работу на двадцать лет; Сару
Коган-Бернштейн, Веру Гоц, Анисью Болотину и Паулину Перли, в виду выраженного
ими вначале колебания и увлечения затем подсудимыми мужчинами, имеющими над
ними по природе и по личным отношениям сильное влияние, по лишении всех прав
состояния, сослать в каторжную работу
на двенадцать лет, Кисиеля Терешковиуа, Липмана Бермана, Михаила Эстровича и
Евгению Гуревич, по их несовершеннолетию, по лишении всех прав состояния,
сослать в каторжную работу: Терешковича, как замеченного прежде вместе с
Орловым и другими в беспорядках и неповиновении, на десять лет, Бермана и
Эстровича на шесть лет; Евгению Гуревич, в виду ее увлечения другими и
выраженного колебания, на четыре года; Анастасию Шехтер и Розу Франк, которые
изъявили готовность идти в полицию под конвоем и уговаривали товарищей своих
подчиниться этому требованию, по лишении всех прав состояния, сослать на
поселение в отдаленные места Якутской области. Подсудимого Исаака Магата за
соглашение в числе 30 человек на подачу заявлений с целью противодействовать
распоряжениям начальства, окончившееся явным восстанием, в котором не принимал
он участия, по лишении всех прав состояния сослать на поселение в отдаленнейшие
места той же области. Что касается до Сергея Капгера, Анны Зороастровой и
Бориса Геймана, которые никаких заявлений об отмене распоряжений губернатора не
подавали, в город Якутск прибыли из улусов уже после того, без всякого оружия,
Капгер 21-го марта, а Зороастрова и Гейман около 11 час. утра на следующий день
и, не зная ничего о преступных намерениях своих товарищей, а также об отказе их
идти по требованию надзирателя Олесова в полицейское управление, зашли в
квартиру Ноткина для свидания с некоторыми из них почти перед самым прибытием
военного отряда, посланного для привода подавших накануне заявления с целью
противодействовать распоряжениям начальства и отказавшихся потом идти по
требованию в полицейское управление для выслушания резолюции и. д. губернатора
на упомянутые заявления, — являются упомянутые ссыльные участниками восстания
без предварительного на то соглашения, так как по прибытии военного отряда не
вышли из квартиры Ноткина по первому требованию и неоднократному убеждению
подчиниться сему требованию начальства, за что, на основании 75 ст. XXII кн.,
согласно 12, 39 и 263 ст. улож. о нак. угол, и испр. по лишении всех особенных,
лично и по состоянию присвоенных прав и
преимуществ, Капгера и Зороастрову сослать на житье в отдаленные места Якутской
обл., а Геймана, происходящего из мещан, вместо отдачи в исправительный
арестантский отдел по третьей степени, на основании 77 ст. того же уложения,
заключить в тюрьму гражданского ведомства на три года, с употреблением на самые
тяжкие из установленных в сих местах заключения работы. Постановленный приговор
о государственном ссыльном Иосифе Резнике, обвиняющемся в соглашении в числе
других на подачу заявлений с целью противодействовать распоряжениям начальства,
который, за отправлением по назначению в Верхоянск, в суд не вызывался, за
нарушением в сем случае 296, 300 и 407 ст. II кн. военного угол. ул. изд. 1864
г., отменить и дело об этом ссыльном передать в надлежащее судебное место
гражданского ведомства, которому предоставить сделать заключение об отобранных
от государственных ссыльных деньгах, оружии и др. вещах. Изложенное мнение по
событию вооруженного сопротивления и признанной судом по внутреннему своему
убеждению виновности в сем преступлении подсудимых государственных
административно-ссыльных, на основании 420 и 422 ст. II кн. военн. угол. уст.
изд. 1864 года и особого высочайшего разрешения, сообщенного бывшему
командующему войсками генерал-лейтенанту графу Игнатьеву, представляю на усмотрение
вашего превосходительства.
Подписал
обер-аудитор Подкопаев.
Конфирмация.
Временно и. д. командующего войсками
генерал-майор Веревкин на докладе положил следующую конфирмацию: На основании
высоч. повеления, сообщенного бывшему командующему Иркутского военного округа
генерал-лейтенанту графу Игнатьеву, в телеграмме главного прокурора, от 20
минувшего июня, определяю: 1) В отношении Когана-Бернштейна, Альберта Гаусмана,
Николая Зотова, Мовши Гоц, Шендера (Александра) Гуревича, Иосифа Минора,
Михаила Орлова, Константина Терешковича, Исаака Магата, Николая Надеева и
умерших: Фрумы Гуревич, Ноткина, Пика, Муханова и Шура, а равно и издержек по
делу, приговор суда утвердить. 2) Определенные судом бессрочные каторжные
работы: Марку Брагинскому, Моисею Брамсону, Самуилу Ратину, Менделю Уфлянду,
Матвею Фундаминскому, Иосифу Эстровичу, Саре Коган-Бернштейн, Вере Гоц, Анисье
Болотиной, Паулине Перли по соображениям, изложенным в настоящем докладе и на
основании пункта 6 ст. 134 улож. о нак. угол, и испр. и примечания к ст. 420
кн. II военн.-угол. уст. изд. 1864 г. заменить таковыми же работами на срок:
первым шести — на двадцать лет, а остальным четырем — на пятнадцать лет. 3)
Определенный судом десятилетний срок каторжных работ Липману Берману, Михаилу
Эстровичу и Евгении Гуревич сократить первым двум — до восьми лет, а последней
до шести лет, на основании соображений, изложенных в настоящем докладе, меньшей
виновности по сравнению с Терешковичем и приведенных в предыдущем пункте
законоположений. 4) Определенный судом пятнадцатилетний срок каторжных работ
Розе Франк и Анастасии Шехтер сократить до четырех лет, в виду 6 и 9 пунктов
приведенной конфирмации 134 ст., приведенного там же примечания к 420 ст. и на
основании соображений, изложенных в докладе обер-аудитора. 5) Определенные
судом наказания Борису Гейману, Анне Зороастровой и Сергею Капгеру заменить
наказаниями согласно мнения обер-аудитора на основании 75 ст. XXII кн. свода
военн. пост. 1869 г. изд. 2-ое и в виду того, что лица эти в подаче заявлений
губернатору не участвовали, а в явном восстании, имевшем место на квартире
Ноткина, по делу до них не относившемуся, сделались участниками без
предварительного соглашения, явившись на квартиру случайно по своим личным
делам, и 6) в отношении Иосифа Резника и об отобранных у госуд. ссыльных
деньгах, вещах и оружии поступить согласно мнения обер-аудитора. Конфирмацию
эту привести в исполнение ныне же установленным в законе порядком. Временно и.
д. командующего войсками Иркутского военного округа генерал-майор Веревкин.
20-го Июля 1889 года. Верно: Обер-аудитор Подкопаев. (Дело департ. полиции за №
7732 часть I, V делопроизводство).
Доклад Осташкина
Департ. Пол. о деле 22 марта 1889 г.
№ 106, от 2 августа 1889 г.
Секретно.
До 1887 года госуд. преступники,
назначенные на водворение в Якутскую область под надзором полиции, высылались
сюда по нескольку человек. С 1887 года преступники эти, преимущественно евреи,
предназначенные к водворению в северные округа области, начали прибывать партиями.
Когда партии этих ссыльных были небольшие, около 7-10 человек, и прибывали в
Якутск в зимнее время, удобное для дальнейшей отправки ссыльных в Верхоянск и
Ср.-Колымск, то они, впредь до отправки дальше по назначению, помещались в
Якутском тюремном замке, выстроенном на 40 человек заключенных. По
исключительным местным условиям госуд. преступники-евреи могут быть отправляемы
на водворение в северные округа области только с ноября по 10 апреля, а в
течение 3-х летних месяцев только до Верхоянска верхами по 2-3 человека с одним
конвоиром-казаком на каждого человека, через 7-10 дней одна партия после
другой; также и до Верхоянска в течение зимы; а летом только до Верхоянска одни
мужчины верхами по одному и по 2 человека, через каждые 7 суток. Отправка поднадзорных
в северные округа производилась областным начальством по правилам, изданным
главн. тюремн. Управл. о порядке препровождения лиц, подлежащих высылке по
делам политического свойства, но в особых отдельных случаях, во внимание к
семейному положению госуд. ссыльных и в виду невыгодных экономических условий
северных округов, делались отступления от этих правил, покуда ссыльные не стали
злоупотреблять таким снисхождением. Семейным ссыльным дозволялось брать тяжести
более 5 пудов на человека, с целью дать им возможность сделать в Якутске
достаточный запас продовольствия, и им выдавалось на руки за несколько дней до
отправления в Верхоянск и Ср.-Колымск, вперед за 2 месяца, пособие, по 18
рублей каждому поднадзорному, на приобретение продовольственных припасов сверх
кормовых денег, причитающихся им по табели по числу нахождения в пути дней. На
одежду и обувь выдавалось каждому поднадзорному на год вперед, т.-е. в начале
года единовременно по 22 руб. 58 коп. С апреля 1888 г. госуд. преступники,
преимущественно евреи, предназначенные главным начальником края в северные
округа области, начали прибывать из Иркутска в Якутск большими партиями, в 11,
17 и 22 челов.; последняя партия в 17 человек прибыла в Якутск 25 февраля 1889
года. Госуд. ссыльных в этих партиях прибыло 70 человек. Они привезли с собою
весьма много багажа в сундуках, чемоданах, ящиках и корзинах, весом гораздо
более 10 пудов на каждого ссыльного. По причинам крайней тесноты Якутск.
тюремн. замка, прибывавшие в Якутск госуд. ссыльные, считающиеся в разряде
пересыльных арестантов, впредь до водворения на постоянное местожительство,
сначала помещались при городской полиции, а затем в зданиях якутской местной
команды, принадлежащих городу, а оттуда отправлялись объясненным выше порядком
в Верхоянск и Ср.-Колымск. Для вновь прибывших партий не оказалось места и в
этих зданиях. Поэтому госуд. ссыльные в числе 30 человек, впредь до наступления
очереди отправки, временно поселены были областным начальством в инородческих
улусах Якутск. округа, отстоящих от города от 12-70 верст. Проживать в самом
городе на частных квартирах не было им дозволено в виду циркуляра министра вн.
д., воспрещающего проживание поднадзорных в городах, где находятся
средне-учебные заведения. Из 70 челов. госуд. преступников, прибывших в Якутск
с апреля 1888 года по 25 февр. 1889 года, 5 человек, переведенных сюда из
Сургута, Тобольской губ., подлежало водворению в гор. Вилюйск, а 65 челов. в
Верхоянск и Ср.-Колымск. К 16 марта 1889 года указанным выше порядком было
отправлено в Вилюйск 5 человек, а 31 челов. в северные округа обл. (Верхоянск и
Ср.-Колымск). Осталось неотправленных в эти округа ссыльных евреев 34 человека.
Из этого числа было 16 человек таких ссыльных, отправка которых по назначению
отложена была до весны 1889 года, хотя многие из них прибыли в Якутск в течение
1888 года. Это были женщины, которым трудно было перенести путь в северн.
округа среди зимы при 35° - 40° мороза, семейные ссыльные, выздоравливавшие,
ожидавшие разрешения главного начальника края на вступление в брак и
оставленные до получения сведений по предмету отношения к воинской повинности.
После отправки таких 16 чел. осталось бы 18 челов., подлежавших отправке в
северные округа, прибывших в Якутск в декабре 1888 г. и в январе, феврале 1889
года. Половину их, мужчин, предполагалось отправить в Верхоянск вьючным путем в
течение лета 1889 года, а остальных — женщин и семейных — в течение будущей
зимы. К марту 1889 года я имел от иркутского ген.-губернатора предписание о
направлении в Якутскую область еще 40 человек госуд. преступников,
преимущественно евреев, подлежащих водворению в северные округа по указанию
генер.-губ. Государств, преступники, прибывшие в Якутск до декабря 1888 года и
отправленные в северные округа до марта 1889 года, не обнаружили явного ослушания
распоряжениям начальства при отправлении их в северные округа. Совсем другого
духа оказались ссыльные, прибывшие в партиях в дек. 1888 года и в январе,
феврале 1889 года и временно распределенные по улусам Якутского округа. Они,
преимущественно евреи, во всем стали обнаруживать какой-то особенный преступный
задор. Администр. ссыльный Марк Брагинский вел дневник за все время следования
партии, в которой он шел от Нижн.-Новгорода до Якутска. В этот дневник он
заносил все случаи противодействия ссыльных по пути требованиям начальства; все
случаи ослушания ссыльных распоряжениям начальника конвоя и жандармам,
препятствовавшим им иметь свидания по пути с поднадзорными, водворенными в
Иркутской губ.; в дневник внесены также все случаи дебоширства пересылавшихся с
конвоирами. Начальник конвоя, доставивший партию госуд. преступников в февр.
1889 года, представил два акта, составленных по пути от Иркутска, об оказанном
ему противодействии и сопротивлении следовать по назначению ссыльными:
Ноткиным, Шуром, Терешковичем, Эстровичем, Шендер Гуревичем, Генею Гуревич,
Зотовым и Орловым. Офицер Попов вынужден был везти этих ссыльных одну станцию
связанными — Зотов и Орлов первоначально водворены были в Тобольск. губ.,
откуда за беспорядки и неповиновение властям мин. вн. д. перевел их в
отдаленнейшие места Якутск. обл. с продолжением срока надзора за ним на два
года (отношение деп.- пол. Якутскому губерн. от 12 авг. 1888 г. за № 3303). На
этом основании Зотов, Соколов и Орлов были назначены к водворению в Ср.-Колымск
в Колымском улусе. Иркутский генер.-губ. в октябре 1888 г. на основании
телеграммы г. тов. мин. вн. д. наведывающего полицией от 30 сентября, предписал
Якутскому губернатору в виду беспорядков, произведенных в Томске высылаемыми в
Вост. Сибирь Шендер и Генею Гуревич, Ноткиным, Терешковичем, Зотовым и Орловым,
разместить их отдельно одного от другого по улусам Якутск. округа. С такими-то
личностями пришлось иметь дело областному начальству при ограниченных средствах
городской и окружной полиции. В городе Якутске дозволено было проживать
временно госуд. ссыльным семейным, по болезни, Резнику и Когану-Бернштейну,
также по болезни, Розе Франк и Болотиной; по предмету отнесения воинской
повинности Соломонову и Эстровичу и Ноткину, предложившему Ирк. метеоролог.
обсерватории свои услуги по устройству метеоролог. наблюдений на Кеньюряхе — на
вершине Верхоянского хребта. Для необходимых приготовлений для устройства на
Кеньюряхе метеорологической станции — с разрешения генерал-губернатора, —
Соломонов и Ноткин наняли себе в г. Якутске квартиру в отдельном флигеле, с
отдельным двором и хозяйственными службами, у домовладельца мещанина
Монастырева. Государственные ссыльные, преимущественно евреи, временно
водворенные в улусах Якутск. окр., стали нарушать существенные требования
положения о полицейском надзоре. В течение февр. и марта мес. они начали
ежедневно самовольно появляться в городе по несколько человек и находились
здесь по несколько дней, обитая здесь по квартирам Соломонова, Ноткина,
Резника, Когана-Бернштейна, Эстровича, Болотиной и Розы Франк. Высылаемые из
Якутска полицией, они, через несколько времени, опять появлялись здесь в
большем числе. Затем до меня дошли слухи, что ссыльные евреи, подлежавшие
водворению на жительство в Верхоянский и Колымский округа на 5 и 8 лет,
намереваются летом бежать из области. 28 февраля Якутский полицмейстер донес
мне, что 27 февраля городскою полицией, при бытности тов. областного прокурора,
в квартире Соломонова и Ноткина обнаружена библиотека и читальня, принявшая
характер общедоступной, и что в этой библиотеке собираются многие поднадзорные,
самовольно прибывающие в город.
В библиотеке вывешено было объявление к
посещающим библиотеку с правилами пользования книгами, журналами и газетами, и
было установлено дежурство. При появлении полиции, собравшиеся в библиотеке
ссыльные не допустили закрытия библиотеки. Полиция отобрала только каталоги
(рукописные) бывшим в библиотеке и читальне книгам и журналам. Из этих
каталогов усмотрено, что для общего пользования на квартиру Ноткина и
Соломонова собрано было принадлежащих разным ссыльным несколько сот книг, из
коих много было книг и брошюр русского и заграничного издания, запрещенных к
обращению. Продолжая самовольно появляться в городе, государств. ссыльные в
большом числе собирались на квартире Ноткина и Соломонова в дни 1-го и 2-го
марта, где обсуждали действия правительства и распоряжения областного
начальства. Имея на глазах удавшийся побег государств, преступника Николая
Паули, задержанного в Петербурге, Федоровой и Кашинцева, появившихся в Париже,
покушение на побег Майнова, Михалевича и Терещенкова, и в ожидании прибытия в
область еще до 40 государств. ссыльных, я счел своим священным долгом положить
конец всем допускаемым поднадзорными нарушениям закона. В этих видах по
соглашению с Якутск. окружным исправником, с 16 марта распорядился об усиленной
отправке в Верхоянск и Ср.-Колымск, в течение времени с 22 марта по 15 апреля,
по санному пути следующих поднадзорных, прибывших в Якутск еще в 1888 году, и
отправка которых в северные округа была отложена до весны 1889 г. по разным
причинам: 1) Эвеля Робсмана, 2) Эдуарда Винярского, 3) Бориса Геймана, 4)
Иосифа Резника, с семейством, 5) Розы Франк, 6) Анисьи Болотиной, 7) Соломона
Пика, 8) Фрумы Гуревич, 9) Мовши Гоц, 10) жены его Веры, бывшей Гасох, 11)
Анастасии Шехтер, 12) Паулины Перли, 13) Моисея Брамсона с семейством, 14)
Альберта Гаусмана с семейством и 15) Липмана Бермана. На оставлении всех этих
ссыльных временно в Якутском округе до весны 1889 года областное начальство
имело разрешение г. генерал-губернатора.
Отправку этих ссыльных в северные округа я
предписал Якутским городской и окружной полициям произвести с 22 марта по 10
или 15 апреля следующим порядком: через каждые 7 дней отправлять по 4 человека
с одним конвоиром-казаком на каждого человека; по правилам о пересылаемых
вместо водворения ссыльных отправлять их не из частных квартир в городе, а
накануне отправки собирать поднадзорных в полиц. гор. упр. и отправлять в
дорогу оттуда или из тюремного замка. Чиновники гор. полиции заявляли мне, что
при отправке ссыльных из частных их квартир они задерживают подолгу почтовых
лошадей, всячески оттягивая выезд из города, и позволяют себе с чинами полиции
унизительное и оскорбительное обращение.
Состоящих на очереди к отправке и
сказывающихся больными помещать для излечения в тюремную больницу. В дорогу
разрешить брать с собою отнюдь не более 5 пудов на каждого ссыльного; в случае
неимения собственной теплой одежды и обуви выдавать таковую казенную
арестантскую. По расчету дней пути выдавать каждому вперед кормовые деньги по
положению и 22 р. 58 коп. каждому на одежду и обувь.
Выдачу же, кроме кормовых, еще на 2 месяца
вперед прекратить, по неимению на это у областного начальства надлежащего
разрешения и по неассигнованию еще в марте кредита на пособие государственным.
Ограничение веса багажа 5 пудами по указанию правил о порядке препровождения
лиц, подлежащих высылке по делам политического свойства, и прекращение выдачи
вперед за 2 месяца пособия я признал необходимым потому, что снисходительностью
в этом отношении, в отдельных случаях, ранее ссыльные явно злоупотребляли.
Багаж состоял у них, кроме запасов продовольствия и привезенных ими из России
книг целыми ящиками, из железных вещей и разных других товаров. Один ссыльный
повез в Средне-Колымск якорь в 2½ пуда весом. Выдаваемое вперед за 2 месяца
пособие употреблялось на приобретение вещей и товаров для барышничества на
месте водворения.
Верхоянский окружной исправник доносил о
том, что госуд. ссыльные обременяют содержателей станций большим количеством
багажа, состоящим из книг, железных вещей и товаров, требуя для каждой партии
из 2-3 ссыльных по 7-10 пар оленей с нартами. На это жаловались областн.
правлению и содержатели станций по Верхоянскому и Колымскому тракту. В выдаче
вперед в дорогу пособия за 2 месяца было отказано ссыльным еще и по той
причине, что многие из них, вскоре по прибытии в Якутск, получили из России от
родственников своих единовременно достаточные суммы, каждый по 25, 40, 50 и 100
р. Деньги от родственников и посылки с платьем и бельем получили: Гоц, Минор, Гаусман,
Брамсон, Ноткин, Шур, Соломонов, Коган-Бернштейн, Брагинский, Фундаминский,
Эстрович, Робсман и Гуревич.
Впоследствии найдена рукопись Брагинского,
в которой делается упрек «товарищам ссыльным-политикам» в том, что они
занимаются барышничеством, в котором заподозрило их областное начальство.
О такой усиленной отправке ссыльных в
течение марта и апреля я донес г. генерал-губернатору от 18 марта 1889 года.
Для своевременного заготовления по тракту лошадей и оленей и для устранения
всяких препятствий к безостановочному и благополучному проследованию партии 18
марта послан был вперед нарочный. Отправку оставшихся остальных 18 ссыльных,
прибывших в Якутск в дек. 88 г. и в январе и феврале 1889 года предполагалось
произвести: мужчин верхами в Верхоянск в течение лета 1889 г., а женщин и
семейных — будущей зимой. До сего времени они были поселены в Якутский округ.
19 марта явился утром ко мне на квартиру административно-ссыльный Мовша Гоц, в
качестве уполномоченного от прочих госуд. ссыльных и требовал об отмене
сделанного 16 марта распоряжения об усиленной отправке ссыльных в северные
округа в течение марта и апреля.
Гоцу я ответил, что сделанное распоряжение
остается в своей силе и, обращаясь к благоразумию его и подлежащих отправке по
назначению ссыльных, внушал ему убедить ссыльных подчиниться распоряжению
начальства, основанному на предписаниях и указаниях высшего правительства.
Гоц ушел, нагло заявив, что политические
ссыльные не подчинятся распоряжению об усиленной отправке. Освобожденный с мая
1888 г. от гласного надзора полиции бывший административно-ссыльный дворянин
Мельников подал мне 20 марта письменное заявление о том, что госуд.
преступникам неудобно будет следовать в Верхоянск и Колымск усиленным способом
потому, что на станциях содержится только по 3 пары лошадей и оленей, что для
лошадей и оленей трудно добывать подножный корм, что люди могут заболеть в
дороге, что им трудно найти по дороге продовольствие и что посылать партии
необходимо через большие промежутки времени — одну партию после другой через 10
дней или даже 2 недели. Указав Мельникову на неуместность подобного его
вмешательства, я оставил его заявление без последствий. Все это делалось и
заявлялось ссыльными и их адвокатом Мельниковым в то время, когда в руках у ссыльных
(Когана-Бернштейна, Гаусмана, Минора, Брагинского), как впоследствии оказалось,
имелись письма от прибывших уже и поселившихся в Верхоянске и Ср.-Колымске
государств. преступников, что февраль, март и апрель самое удобное время для
следования в северные округа семейных людей, для женщин и слабых здоровьем. —
21 марта в 1½ часа дня в Якутск, областное правление явились государственные
преступники целой толпой в 30 человек: Резник, Фрума Гуревич, Пик, Зотов,
Муханов, Терешкович, Брамсон, Уфлянд, Ратин, Роза Франк, Геня Гуревич, Шур,
Берман, Шендер Гуревич, Анисья Болотина, Анастасия Шехтер, Минор, Иосиф
Эстрович, Магат, Фундаминский, Гаусман, Вера Гоц, Мовша Гоц, Ноткин,
Брагинский, Паулина Перли, Михель Эстрович, Орлов, Лев Коган-Бернштейн и Сара
Коган-Бернштейн. Они привели с собою собаку и столпились в коридоре у
помещения, занимаемого экспедицией о ссыльных (2-ое отделение областн.
правления). Они в один голос потребовали от вышедшего к ним советника
областного правления, наведывающего экспедицией о ссыльных, чтобы он принял от
них 30 письменных заявлений на имя Якутского губернатора об отмене усиленной
отправки ссыльных в северные округа в течение марта и апреля месяцев, они
требовали, чтобы эти их заявления сегодня же были у губернатора и чтобы им сегодня
же было объявлено решение или резолюция губернатора. На замечание советника о
том, что целой толпой нельзя являться в присутственное место и подавать
прошение скопищем; на предложение сейчас же разойтись и подать заявление лично
губернатору, так как сегодня у него для посетителей день приемный, они
отказались это исполнить и воспрепятствовали вахмистру запереть дверь из
коридора в помещение экспедиции. Тогда приглашен был в правление полицмейстер.
Прибывший около 2-х часов дня полицмейстер потребовал от толпы государств.
преступников, чтобы они немедленно разошлись, они отказались это исполнить,
требуя, чтобы от них приняты были заявления и поданы сегодня губернатору, на
каковые заявления они сегодня же будут ждать ответа от губернатора.
Полицмейстер отобрал от каждого по заявлению, вывел толпу во двор области,
правления и убедил их разойтись. Уходя со двора, обращаясь к полицмейстеру,
Минор сказал: «Мы ведь не шутим; знаете, чем это пахнет?» Отобранные от
ссыльных заявления полицмейстер представил мне, доложив о происшедшем. 21 марта
вторник был приемный день для просителей, но никто из государств. ссыльных ко
мне не явился и никаких просьб не подавал. О происшедшем 21 марта был составлен
акт, переданный мною г. областному прокурору для производства через судебного
следователя следствия о появлении толпы госуд. ссыльных в областном правлении,
о самовольной отлучке многих ссыльных в город из улусов и об оказанном им
упорстве подчиниться законным распоряжениям начальства. По рассмотрении мною
представленных полицмейстером 30-ти заявлений они оказались все одного
содержания и содержали в себе требование об отмене сделанных мною распоряжений
об усиленной отправке госуд. ссыльных в назначенные для них северные округа
порядком, изложенным выше. По рассмотрении заявлений этих ссыльных, я еще более
убедился, что цель и намерение ссыльных есть чем только можно оттянуть до лета
отправку их в Верхоянск и Колымск и чтобы летом бежать. В тот же день, 21
марта, через полицмейстера подававшие заявления госуд. ссыльные были извещены,
что о резолюции моей по их заявлениям им будет объявлено полицией 22 марта.
Передав через полицмейстера резолюцию мою на их заявления, при сем в копии
прилагаемую, я поручил полицмейстеру собрать всех подавших заявление ссыльных в
городск. полиц. управл. утром 22 марта, объявить им там резолюцию, задержать
их, препроводить в Якутский тюремный замок, содержать их там под стражею,
впредь до производства следствия о появлении ссыльных толпою в обл. правл., о
самовольной отлучке в город из округа и о неподчинении распоряжениям
начальства; а ссыльных, назначенных в очередь к следованию в Верхоянск,
отправить 22 марта прямо из тюремного замка. — По всему было видно, что ни
одному из этих распоряжений ссыльные, сопротивлявшиеся конвою в Енисейской губернии,
при следовании по главному сибирскому тракту, и в Верхоленском округе Иркутской
губернии, добровольно не подчинятся. — Поэтому по соглашению с области,
прокурором, начальником местной команды и полицмейстером, я письменно просил 21
марта начальника Якутской местной команды отрядить на 22 марта 30 человек
вооруженных нижних чинов под командой офицера для содействия городской полиции
на случай сопротивления госуд. ссыльных подчиниться требованиям правительства и
распоряжениям областного начальства об отправлении ссыльных в северные округа.
Отряд воинских чинов с офицером прибыл в Якутск. гор. полиц. упр. в 10 час.
утра. Городская полиция к этому времени узнала, что госуд. ссыльные, подавшие
30 заявлений, собрались на квартире одного из них, Якова Ноткина, где была
открыта библиотека и читальня, где они и ожидают объявления резолюции
губернатора на вчерашние их заявления. Полицмейстер двукратно посылал
полицейского надзирателя и городовых с требованием, чтобы Ноткин и прочие,
подавшие 30 заявлений ссыльные явились до 11 час. в гор. полиц. упр. для
выслушания резолюции губернатора. Исполнить это ссыльные отказались, заявив,
что они требуют, чтобы резолюция губернатора была им объявлена здесь, на
квартире Ноткина, где они для этого и собрались. Тогда, около 11 час. утра,
полицмейстер с начальником Якутской местной команды, с офицером и отрядом
нижних чинов отправились и прибыли к квартире, где собрались госуд.
преступники. — Полицмейстер с начальником местной команды стали увещевать
ссыльных подчиниться требованиям начальства и отправиться в полицейское
управление для выслушания распоряжения губернатора; сначала ссыльные
согласились выйти из квартиры и отправиться в полицию, но после возбуждения со
стороны ссыльного Лейбы Когана-Бернштейна, сказавшего, обращаясь к
полицмейстеру и офицерам: «Что тут церемониться? видали мы их!», ссыльные
сделали в представителей власти несколько выстрелов из револьверов.
Полицмейстер явился ко мне на квартиру и
доложил, что государственные не слушаются и начали стрелять. Прибыв с
полицмейстером на место происшествий, я выстрелов не застал и не слышал их.
Войдя во двор квартиры Ноткина и остановившись здесь, я увидел суетившуюся
ссыльную еврейку и несколько ссыльных; ссыльной и ссыльным я начал говорить,
чтобы все успокоились и подчинились требованиям начальства; в это время один
ссыльный выстрелил в меня в упор из револьвера и затем последовали другие 2
выстрела, сделанные другими ссыльными. Продолжавшееся вооруженное сопротивление
госуд. ссыльных, засевших в доме, нанятом под квартиру Ноткина, и новые
выстрелы с их стороны вынудили военный отряд стрелять в ссыльных в отворенные
двери и окна. Несколько ссыльных убито на месте, несколько ранено опасно и
легко. Ссыльными ранен тяжело в ногу Якутск. местной команды подпоручик Карамзин,
двое нижних чинов и полицейский служитель, к вечеру умерший. После 2-х залпов
военного отряда сопротивление кончилось; все они, находившиеся в одном доме,
задержаны, обысканы, оружие от них отобрано, ссыльные заключены в тюремный
замок, раненые помещены в больницу; обо всем происшедшем составлен акт, который
передан судебному следователю для производства формального следствия под
наблюдением прокурора.
Представив копию с акта, постановленного 22
марта, я об этом донес подробно эстафетой г. генерал-губернатору и
телеграфировал г. министру вн. дел. Произведенными 22 марта беспорядками госуд.
ссыльные достигли того, что назначенная в этот день к отправке в Верхоянск
партия осталась невыбывшею по назначению. — 22 марта убиты на месте
вооруженного сопротивления следующие госуд. ссыльные: Муханов, Пик, Ноткин и
Шур; смертельно ранены и умерли в тюремной больнице Подбельский и Фрума
Гуревич; ранены были, ныне выздоровевшие и содержащиеся в тюремном замке:
Зотов, Минор, Лев Коган-Бернштейн, Мовша Гоц, Михель Эстрович, Орлов и
Фундаминский; арестованы на месте происшествия и содержатся в тюремном замке
ссыльные, участвовавшие в вооруженном сопротивлении властям: Терешкович,
Брамсон, Уфлянд, Ратин, Роза Франк, Геня Гуревич, Берман, Шендер Гуревич,
Анастасия Шехтер, Гаусман, Болотина, Паулина Перли, Зороастрова, Брагинский,
Капгер, Гейман, Иосиф Эстрович, Айзик Магат, Сара Коган-Бернштейн и Вера Гоц
(б. Гассох).
Виновные в вооруженном сопротивлении
властям иркутским ген.-губ. и команд. войск. Иркутск, воен. окр. преданы
военно-полевому суду. Военно-судная комиссия, окончив на месте в июне свои
действия, военно-судное дело и приговор свой представила на конфирмацию г.
команд. войск. Иркутск, воен. окр. — После арестования госуд. преступников
полиция закрыла устроенную ими библиотеку и читальню и произвела тщательный
осмотр как квартиры Ноткина, так и временных квартир в городе прочих
арестованных ссыльных. Результат от осмотра квартир ссыльных получился
следующий. В квартире Ноткина многих книг уже не оказалось, они развезены были
по квартирам других ссыльных. В квартире Пика найдены были вырезанные на
аспидной дощечке фальшивые печати правительственных учреждений и фальшивые
паспорта, которые приложены были к следственному делу. В квартире Фундаминского
найдена представленная мною г. ген.-губ., печатанная в России в
«социалистической типографии» изд. 1888 г., брошюра под заглавием: «Вопросы для
уяснения и выработки социально-революционной программы в России».
В квартире Уфлянда и Шура, найдены
представленные г. ген.-губ-ру: 1) женевского издания, «Самоуправление» — орган
социалистов-революционеров и брошюра «Карл Маркс. Введение к критике философии
права Гегеля, с предисловием П. Л. Лаврова»; 2) весьма преступного содержания
приветствие — «Из Якутска. От русских ссыльных социалистов-революционеров
гражданам Французской Республики»; 3) программа деятельности
социалистов-федералистов и 4) рукописи: Наставление, как должна вести себя
«тюремная вольница», обращение к товарищам о необходимости подачи государю
императору протеста от «Русской политической ссылки в Сибири» и проект самого
протеста. Подлинные эти 3 рукописи переданы мною области, прокурору в виду
закона 19 мая 1871 г. о производстве дознаний о государственных преступлениях,
а списки с них представил департаменту полиции и г. генерал-губернатору.
В бумагах Подбельского найден, за подписью
водворенных в Вилюйске государственных преступников: Майнова, Михалевича,
Терещенкова, Яковлева, Гуревича, Дибобеса, Молдавского и Вадзинского — «адрес
из Вилюйска от ссыльных социалистов-революционеров гражданам Французской
Республики». Адрес этот передан мною областному прокурору в виду закона от 19
мая 1871 г.
Наконец в бумагах Зотова, Минора,
Брагинского, Брамсона и Гаусмана найдены подробные списки госуд. ссыльных,
водворенных в разных местностях Западной и Восточной Сибири. — По арестовании
22-го марта государств. преступников после прекращения вооруженного
сопротивления, вся корреспонденция арестованных подчинена контролю на основании
изданных главным тюремн. управлением правил о порядке содержания в тюрьмах
политических арестантов. Результаты контроля корреспонденции арестованных
получились следующие: оказалось, что они состоят в переписке с госуд.
ссыльными, водворенными в Иркутской и Енисейской губ., а также в Тобольской
губ. и местностях степного генерал-губернаторства. В переписке этой заключались
советы продолжать преступную пропаганду в местах ссылки; сообщались разные
истории и случаи удачного противодействия властям и высказывалась уверенность в
скором успехе в борьбе против существующего в России государственного строя.
Подлинные письма этих ссыльных представлены мною частью в департ. полиции, как
имеющие отношение до государственных ссыльных в других частях Сибири, частью г.
генерал-губернатору, как, имеющие отношение до ссыльных этого
ген.-губернаторства. — С июня месяца, с разрешения мин. вн. дел, переданного
областному начальству г. генерал-губернатором, подчинена контролю
корреспонденция всех водворенных в области административно-ссыльных и прибывших
с ними жен. Контроль над корреспонденцией их дал следующие результаты.
Обнаружено, что до 16 поднадзорных, во избежание удержания части денег в казну
на пополнение выдаваемого им пособия на содержание, получают из России деньги
от родственников (в суммах от 10 до 150 р. за раз) не на свое имя, а на адрес
свободных от гласного надзора жен государственных ссыльных — через Веру Свитыч
и Ревекку Гаусман. — Двум ссыльным родственники обещали устроить кредит у
Якутских купцов до 300-600 р. с уплатой денег впоследствии их доверенным в
России. — Обо всем вышеизложенном имею честь уведомить департамент полиции, в
ответ на телеграмму от 3 июля за № 1936. И. д. губернатора вице-губернатор
Осташкин. (Дело д-та полиц. за № 7732, 1-ая часть V делопроизводства).
/Якутская трагедия
- 22 марта (3 апреля) 1889 г. - Сборник Воспоминаний и Материалов. Под ред. М.
А. Брагинского и К. М. Терешковича. О-во политических каторжан и
ссыльно-поселенцев. Москва. 1925. С. 188-203, 210-223./
*
ИЗБИЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ В ЯКУТСКЕ*
[* Извлечения из статьи в «Социал-Демократ», февраль. Книга
первая. Лондон, 1890 г.]
Свирепость наших современных помпадуров
превышает всякое вероятие. В расправах со своими врагами, революционерами, они
не останавливаются решительно ни перед чем. Сам «незабвенный» Николай нашел бы
их слишком кровожадными. Весною прошлого года в Якутске разыгралась драма,
известие о которой вызвало негодование даже многих умеренных органов
западноевропейской печати. Насколько знаем, возмутительная сущность этой
кровавой драмы сводится к следующему.
В начале февраля прошлого года, главным
начальником Якутской области был назначен и. д. губернатора П. П. Осташкин.
Каков был этот человек, — об этом можно судить по его чиновной карьере. Он
получил образование лишь в красноярском училище для канцелярских служителей и,
кажется, постоянно служил в Сибири. Люди богатые и со связями не отдадут своих
детей в училище для канцелярских служителей; ясно, что у родителей Осташкина не
было ни богатства, ни связей, и что сын их мог сделать карьеру только благодаря
собственной настойчивости и находчивости. И он действительно сделал ее, потому
что исполнять должность губернатора, хотя бы и в Якутске, — это уже не
маленький пост для бедного плебея. Чего стоил Осташкину такой успех? Кто знает
наши порядки вообще, и сибирские в частности, тот не затруднится ответом.
Изворотливости Молчалина не всегда достаточно чиновнику-плебею для подобных
успехов. Ему нужно ее соединить с предприимчивостью Чичикова и с холодной
жестокостью опричника, чтобы быстро всходить по лестнице повышений. По всему
видно, что Осташкин вполне удовлетворял всем этим требованиям. Его родная
сестра находится в административной ссылке в Сибири. Может быть, он сам донес
на нее.
Такого-то человека назначили начальником
Якутской области, где, как известно много ссыльных. Разумеется, он сейчас же
сообразил, что притесняя их, легко заслужить новые поощрения со стороны
начальства. Но соловья баснями не кормят, одних словесных поощрений мало, нужно
добиться утверждения в должности губернатора. Но как добиться этого? Вот, если
бы ссыльные сделали «бунт», он усмирил бы их, и тогда уж наверное, получил бы
щедрую награду. И почему бы им не взбунтоваться? Ведь все равно пропащие головы,
а для Осташкина прямая и огромная выгода. Но ссыльные «злоумышленники», как
нарочно не «бунтовали». Тогда Осташкин решился взбунтовать их по-своему. В
половине марта он сделал распоряжению о немедленной высылке 16 человек ссыльных
в Верхоянск и Средне-Колымск. Перевозка ссыльных в эти отдаленные «города»
должна была совершиться при таких условиях, которые грозили этим жертвам
административного произвола не только страшными лишениями, но прямо смертью от
голода или от холода. Это знали ссыльные, знал и Осташкин, но именно на этом-то
и был построен весь его расчет. Ссыльные, как назначенные, так и не назначенные
к дальнейшей высылке, стали делать ему свои представления, и, наконец,
обратились к нему, каждый от себя, с формальными прошениями. Полицмейстер
Сухачев, принявши эти прошения, сказал ссыльным, чтобы на другой день они
собрались все в квартире одного из них, именно Ноткина. На следующее утро 22
марта, они действительно собрались туда в числе 31 человека... Вскоре к ним
явился полицейский надзиратель Олесов и потребовал, чтобы они все шли в
полицейское управление. Ссыльные отказались сделать это, ссылаясь на вчерашнее
распоряжение полицмейстера. Надзиратель скрылся, а немного спустя после его
ухода явились солдаты, подкрепленные полицейскими и казаками. Как значительны
были силы «христолюбивого воинства» показывает то обстоятельство, что одних
солдат с ружьями, заряженными заранее, было более 100 человек (по некоторым
известиям 140). Вся эта команда ворвалась в довольно обширную квартиру Ноткина
и принялась «брать» ссыльных. «Брали» их так усердно и так удачно, что
немедленно же некоторые из них были избиты прикладами и ранены штыками. У
некоторых из ссыльных были револьверы. Доведенные до крайности, они стали
отстреливаться. Храбрые военачальники только этого и ждали. Что могут сделать
несколько револьверов против солдатских ружей? Ссыльные, разумеется были
побеждены. Шестеро из них были убиты: Подбельский [*
Подбельский прибежал на квартиру Ноткина, услышав перестрелку. Солдаты, как
видно, нарочно пропустили его через свою цепь, чтобы иметь одной жертвой больше.],
Пик, С. Гуревич, Ноткин, Шур и Муханов; девять человек оказались тяжело
ранеными, всех остальных жестоко избили. Так кончился первый акт сочиненной
Осташкиным драмы.
Местом действия второго акта была зала
военного суда: «6 июля — пишет один из осужденных по этому делу — нас привели в
суд, где объявили, что мы предаемся суду для суждения по законам военного
времени. Бернштейна внесли туда на кровати. Кроме судей, нас и громадного
количества солдат, на суде никого не было. 7-го начались допросы. Защитников
нам не дали; обвинительного акта не предъявили; вызывали на суд по одиночке...
допрос каждого отдельного лица продолжался не более пяти минут; вот образчик:
Делопроизводитель: Ваша фамилия?
Подсудимый: Такая-то.
Делопроизводитель: Лета?
Подсудимый: 28.
Вопрос: Вероисповедание?
Ответ: Иудейского.
Вопрос: Исполняете ли вы обряды религии?
Ответ: Со дня первого ареста нет.
Вопрос: Подтверждаете ли вы свои показания,
данные на следствии?
Ответ: Да.
Вопрос: Что имеете сказать в свое
оправдание?
Ответ: Чтобы оправдываться, я должен знать,
в чем меня обвиняют?
Делопроизводитель: Вас обвиняют в
вооруженном сопротивлении властям.
Ответ: На чем основано это обвинение?
Делопроизводитель: Суд не обязан вам этого
предъявлять.
Ответ: Присутствие на квартире не есть еще
сопротивление; я там был, но сопротивления не оказывал. Я не понимаю, почему
меня привлекают по этому делу.
Дело производитель: Неуместно учить суд,
говорите короче, более ничего не имеете заявить?
Подсудимый: Нет.
Делопроизводитель: Можете идти.
(Подсудимого уводят). Таким манером допрашивали каждого из нас».
Это злостное издевательство над правосудием
закончилось 13 июля следующим драконовским приговором: Л. Коган-Бернштейн, А.
Гаусман и Н. Зотов осуждены на смертную казнь через повешение, И. Минор, М.
Гоц, А. Гуревич, М. Орлов, М. Брагинский, М. Фундаминский, М. Брамсон, М.
Уфланд, С. Ратин, И. Эстрович, Сарра Коган-Бернштейн, В. Гассох, А. Болотина,
П. Перли приговорены, по лишению всех прав состояния, к каторжным работам без
срока; А. Шехтер и Р. Франк, в виду того, что они проявили «добрую волю», согласившись
идти в полицию и уговаривали товарищей идти туда («они этого не делали, так как
нечего было и уговаривать, когда все и так хотели идти», — замечает автор уже
цитированного нами письма), по лишении всех прав состояния, к каторжным работам
на 15 лет; С. Каптер, А. Зороастрова и Б. Гейман, ввиду того, что они приехали
из улуса: первый 21 марта, а остальные 22 утром, прошений не подавали, на
квартиру Ноткина пришли случайно, приговариваются (за что?) по лишении всех
прав состояния, к каторжным работам сроком на 15 лет; К. Терешкович, М.
Эстрович, А. Берман, и Е. Гуревич, как несовершеннолетние (!) — к каторжным
работам в рудниках на 10 лет; Магат и Резник, как подававшие прошения, но не
бывшие в квартире Ноткина, по лишении всех прав состояния, ссылаются в
отдаленнейшие и малонаселеннейшие места Якутской области (еще раз за что же, за
прошение?); Надеев, как прошения не подававший, на квартире Ноткина не бывший и
просто захваченный на улице — оправдан. Эта мягкость по отношению к Надееву
дополняется тем, что убитые, как гласит имеющийся у нас документ, «от суда
освобождены». Удивительная снисходительность!
Пятого августа получилась конфирмация
приговора. По «высочайшему повелению» приговор суда, касающийся Бернштейна,
Гаусмана, Зотова, М. Гоца, А. Гуревича, Минора, Орлова, Терешковича, Магата,
Надеева и умерших (!): Гуревич, Ноткина, Пика, Муханова и Шура, — утвержден.
Определенные судом бессрочные каторжные работы Брагинскому, Брамсону, Ратину,
Уфланду, Фундаминскому, И. Эстровичу, Сарре Бернштейн, Болотиной, Гассох, Перли
— заменены каторжными работами: первым шести на — 20 лет, а остальным на 15
лет; определенный судом десятилетний срок каторжных работ Берману, М.
Эстровичу, Е. Гуревич сокращены; первым двум до 8 л., а последней до шести;
определенный судом срок 15 летних каторжных работ Анастасии Шехтер и Розе Франк
сокращен до 4 л.; определенное судом наказание Зороастровой, Капгеру и Гейсману
заменено: первым двум ссылкой в отдаленнейшие места Якутской области с лишением
всех прав состояния, а Гейману — заключением в тюрьму гражданского ведомства с
употреблением на самые тяжкие из установленных в сих местах заключения работы;
по отношению к Резнику, который за отправлением в суд не вызывался, приговор
суда отменен и дело о нем передано в надлежащее судебное место гражданского
ведомства.
Седьмого августа в пять часов утра были
казнены приговоренные к смерти Бернштейн, Гаусман и Зотов. Раненый в бойне на
квартире Ноткина А. Коган-Бернштейн не вставал еще с кровати. Его так и
принесли на ней под виселицу, затем на него надели петлю, а кровать из под него
вытащили.
В ожидании казни, приговоренные вели себя с
замечательным мужеством и достоинством. Письма их к родным и к товарищам,
писанные непосредственно перед казнью, когда на дворе у окон их тюрьмы уже
стояли виселицы, исполнены самообладания и горячей веры в будущее России, их
«матушки и мачехи».
А Осташкин? Он утвержден в должности
губернатора. Таким образом, цель этой гиены была вполне достигнута.
Подвиги царских людоедов до такой степени
красноречивы, что не нуждаются в комментариях. Горе побежденным! — вот что
хочет сказать правительство своим зверски-жестоким обращением с
революционерами, попавшимися к нему в руки. Пусть будет так! Придет время,
когда оно на себе испытает всю беспощадную суровость этого правила.
/Якутская трагедия
- 22 марта (3 апреля) 1889 г. - Сборник Воспоминаний и Материалов. Под ред. М.
А. Брагинского и К. М. Терешковича. О-во политических каторжан и
ссыльно-поселенцев. Москва. 1925. С. 29-34./
ГЛАВА XV
МОНАСТЫРЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Свою статью «Избиение политических ссыльных
в Якутске», Г. В. Плеханов вначале опубликовал на страницах Женевского журнала
«Социал-демократ» без подписи. Небезынтересно отметить, что авторство этой
статьи было установлено только за годы Советской власти в результате обнаружения
подлинной рукописи в личных архивах Г. В. Плеханова. В своей статье Г. В.
Плеханов очень сурово осудил, заклеймил позором русское правительство и его
опричников. «...Весною прошлого года в Якутске разыгралась драма, известие о
которой вызвало негодование даже многих умеренных органов западноевропейской
печати... В начале февраля прошлого года главным начальником Якутской области
был назначен и. д. губернатора П. П. Осташкин. Каков был этот человек — об этом
можно судить по его чиновной карьере. Он получил образование лишь в
Красноярском училище для канцелярских служителей, и, кажется, постоянно служил
в Сибири... Ему нужно соединить ее с предприимчивостью Чичикова и холодной
жестокостью опричника, чтобы быстро восходить по лестнице повышений. По всему
видно, что Осташкин вполне удовлетворял всем этим требованиям. Его родная сестра
находится в административной ссылке в Сибири. Может быть, он сам донес на нее.
Такого-то человека назначили начальником Якутской области, где, как известно,
всегда много, ссыльных. Разумеется, он сейчас же сообразил, что притесняя их,
легко заслужить новые поощрения со стороны начальства... Осташкин решил
взбунтовать их по-своему... А Осташкин? Он утвержден в должности губернатора.
Таким образом, цель этой гиены была вполне достигнута.
Подвиги царских людоедов до такой степени
красноречивы, что не нуждаются в комментариях. Горе побежденным.
Г. В. Плеханов» [* Литературное наследие Г. В. Плеханова. М. 1934, с.
182-188.].
В жестоком подавлении вооруженного
.протеста, избиении этих 34 политссыльных во время кровавой монастыревской
трагедии и в зверском убийстве, по словам Г. В. Плеханова «гиенами царизма», в
том числе отца первого советского наркома, соратника В. И. Ленина П.
Подбельского, активное участие приняли полицмейстер Сумачев,
пятидесятник Н. Олесов, урядник К. Новгородов, из казаков П. Новгородов и
другие.
Царский сатрап якутский губернатор П.
Осташкин в числе других наградил «за усиленную службу в 1889 году урядника К.
Новгородова 3 рублями, казака П. Новгородова 2 р. 50 коп.» [* ЦГА ЯАССР, ф. 12, оп. 15,
д. 321, лл. 377, 377 об.].
В архивах в подлиннике сохранились также их
расписки в получении этих денежных вознаграждений за раболепную службу в
якутском областном полицейском управлении.
/В. Е. Охлопков. История политической ссылки в Якутии. Кн. 1.
(1825-1895 гг.). Якутск. 1982. С. 367-368./
В. Бик
К
МАТЕРИАЛАМ О ЯКУТСКОЙ ТРАГЕДИИ
22 марта 1889 г.
В своем недавно вышедшем труде «Якутская
ссылка 70 - 80-х г.г.» тов. М. Кротов с достаточной полнотой использовал
архивные материалы о кровавой расправе царских опричников над политическими
ссыльными 22 марта 1889 г., оставшейся неотомщенной в ту мрачную эпоху
царствования Александра III и сильнейшего кризиса народничества.
В историко-революционном отделе Архива
Якутии имеется письмо полит.-ссыльного В. Ф. Костюрина к его товарищу по
Карийской каторге, Юрию Тархову, посвященное истории «монастыревской бойни», до
сих пор целиком не опубликованное. Правда, нового оно не вносит в написанную
уже историю одного из гнуснейших преступлений царизма, и в своем труде т.
Кротов отчасти использовал его (в главе «Монастыревская история»); но
напечатанное в целом письмо В. Ф. Костюрина, как показание современника этой
бойни, знавшего подробности ее от товарищей по ссылке, представляет несомненную
историко-революционную ценность.
Дальше Якутска письмо Костюрина не пошло и
очутилось в руках непосредственного виновника кровавой трагедии, и. д.
губернатора Осташкина. Чрезвычайно характерно, как этот последний скрыл от
следственной власти уличающий его документ (Не забудем, что, по свидетельству
одного из авторов изданного обществом политкаторжан в 1924 г. сборника
воспоминаний о Якутской трагедии, т. Брамсона, производивший следствие по делу
«монастыревцев» судебный следователь Меликов проявил достаточную
объективность).
Обратимся к документам.
В отношении на имя якут. обл. прокурора [* Дело Якут. Обл. Упр. — О
государ. преступнике Викторе Костюрине.], датированном 3 июня 1889 г.,
Осташкин пишет:
«Якутский полицеймейстер, от 31 мая за №
107, представил ко мне переданное ему якутским исправником и адресованное в
Забайкальскую область Юрию Тархову письмо, писанное находящимся в ссылке в
Якутском округе Виктором Костюриным.
Так как письмо это содержит в себе описание
обстоятельств вооруженного сопротивления государственных ссыльных 22 марта с.
г., то таковое имею честь препроводить вашему высокородию.
И. д. губернатора (подписи
нет).
Начальник отделения Добржинский».
Оставив без подписи вышеприведенное
отношение, Осташкин перечеркивает его крест-накрест и тут же сбоку, на полях,
кладет такую резолюцию:
«За окончанием следствия [* Курсив мой. В. Б.], письмо приобщить к переписке. П. О. [* Письмо приобщено к
упомянутому выше личному делу В. Ф. Костюрина.]».
Итак, получив письмо Костюрина 31 мая,
Осташкин продержал его под сукном до 3 июня включительно, чтобы, сославшись на
окончание следствия, устранить этот неприятный для него документ от приобщения
к следственному делу. Правда, как явствует из отношения обл. прокурора к
Осташкину от 1 июня 1889 г. [* Дело Я.О.У. — О произведенном 22 марта 1889 г. в г.
Якутске государственными ссыльными вооруженном сопротивлении. Лист дела 205.
Отметим, кстати, что тов. Кротов допустил ошибку, указывая, что следственное
дело о «монастыревцах» было передано военно-судной комиссии 21 мая. Отношением,
датированным этим днем, Осташкин предлагал лишь обл. прокурору передать следств.
дело «прибывшему сего (21 мая — В. Б.) числа председателю военно-судной комиссии», прося
уведомить его (Осташкина) «об исполнении сего». И только в отношений от 1 июня
за № 992 обл. прокурор, информируя в последний раз Осташкина о положении след.
дела (дополнительные допросы подсудимых и свидетелей обвинения, очные ставки),
уведомлял Осташкина о передаче след. дела в.-судной комиссии: «Сообщая о
вышеизложенном вашему превосходительству, имею честь присовокупить, что
следственное дело о беспорядках 21 и 22 марта вместе с сим (курсив мой — В. Б.)
отсылается н военно-судную комиссию».], следственное дело о
«монастыревцах» того же 1 июня было передано им военно-судной комиссии, но это
обстоятельство не аннулирует нашего утверждения о преднамеренном сокрытии Осташкиным
от следствия убийственных для него показаний письма Костюрина.. Это ясно уже по
одному тому, что как раз в день получения письма Костюрина, 31 же мая, Осташкин
направил обл. прокурору выписки из переписки и бумаг «монастыревцев», найденных
в их квартирах полицией «после ареста преступников 22 марта». Указывая, что в
этих выписках «заключаются сведения, характеризующие поведение и направление этих
ссыльных в месте ссылки, образ их жизни и занятий» [* Ibid. Лист дела 200.], Осташкин писал
прокурору:
«Содержащиеся в переписке и бумагах
сведения могут заменить повальный обыск государственных ссыльных, поэтому, в
виду 310 ст., ч. 2, том XV закона о судопр. о преступл. и преступн., выписки из
частной переписки и из бумаг государственных ссыльных имею честь препроводить к
вашему высокоблагородию для приобщения к следственному делу [* Курсив мой. В. Б.]. Далее следует перечисление выписок: 1)
«выписи из писем, полученных арестованными 22 марта ссыльными от ссыльных
других округов Якутск. обл. и других частей Сибири», 2) «заметки из записной
книжки Марка Брагинского о бывших с ними, ссыльными, происшествиях во время
следования в ссылку от Н.-Новгорода до Якутска», 3) «список с рукописи Лейбы
Коган-Бернштейна «Из Якутска от русских социалистов-революционеров приветствие
гражданам Французской республики» и др.
Так устранил царский сатрап от приобщения к
следственному материалу документ, обличавший его подлую, провокационную роль в
кровавой Якутской трагедии 22 марта 1889 года.
В заключение нельзя не отметить характерных
ноток письма Костюрина, диссонирующих с обычным представлением о революционере,
как о борце против различных видов гнета царизма, в том числе, конечно, и
национального. Откровенно скользящий в письме Костюрина антисемитизм
(выражение: «жидки») кладет определенный штрих на внутреннее содержание этого
бывшего карийца.
Письмо
В. Ф. Костюрина к Юрию Тархову (1)
Чурапча,
Батурусского улуса. 24 апреля 1889 года
Юрий, я, брат, перед тобой виноват — письмо
твое я давно получил и даже, как можешь видеть по конверту, написал было тебе и
запечатал письмо, но потом случилось у нас в городе нечто такое, что пришлось
письмо вскрыть, вынуть и уничтожить, а нового-то написать я не собрался. В
уничтоженном письме я прохаживался насчет «жидков», которых послали сюда около
50 человек для отправки в Колыму, но после истории 22 марта мне стало неловко
от всех тех шуточек, которые я отпускал на их счет, и я письмо уничтожил.
Вряд ли ты знаешь подробно, что случилось у
нас, а потому я изложу тебе по порядку. Был у нас губернатор Светлицкий,
милейший человек — джентльмен в полном смысле слова; его здесь все любили — и
обыватели, и наша братия, — такого порядочного человека здесь, вероятно,
никогда не бывало (2). При нем колымчан
отправляли по два, человека через две недели, чтоб они не нагоняли друг друга в
дороге и не мешали бы друг другу добраться благополучно до места назначения,
так как станции там одна от другой верстах в 200 и более, а посредине через
верст 70 или 80 только поварни, т.-е. просто сруб без камелька, где можно с
грехом пополам переночевать. Жителей — никаких, если не считать нескольких юрт
возле станций. По дороге никакой провизии достать нельзя, кроме оленей, если
попадутся, поэтому запасаться надо провизией на целый месяц пути; в виду этого
Светлицкий разрешал брать по 10 пудов клади. Прислано было сюда для отправки в
Колыму более 40 человек, часть уже уехала и человек 25 осталось еще. Переводят
Светлицкого в Иркутск, губернаторское место занимает «Осташкин» — помнишь, тот,
что приезжал на Кару производить следствие по делу иркутского побега Попко еtс? Хорошо. Он объявляет, что теперь будут отправлять иначе, а именно — по 4
человека сразу и два (3) раза в неделю и клади 5
пудов на человека. Колымчане пишут прошения об отмене этого распоряжения,
указывая на распутицу, которая застигнет их в дороге, и на другие неудобства
такой скоропалительной отправки. Несут они свои прошения в областное правление
(они все временно проживали в городе на частных квартирах). Им говорят —
«соберитесь завтра вместе, губернатор вам завтра даст ответ». Они собираются
все на одной квартире, и на другой день туда, действительно, является к ним
полицеймейстер (4) с военной командой и объявляет,
чтоб они шли под конвоем в полицию, где им будет объявлен ответ губернатора, и
что там первые подлежащие отправке будут задержаны и отправлены в тюрьму,
откуда уж будут отвезены дальше. Наши стали возражать, что губернатор обещал им
дать ответ на этой квартире, а не в полиции, и что, наконец, нет надобности в
конвое, они могут пойти в полицию и без конвоя. Завязался спор, обе стороны
настаивают на своем; тогда полицеймейстер объявляет начальнику военной команды:
«Что с ними разговаривать, взять их силой!». Офицер, держа в обеих руках по
револьверу, с несколькими солдатами входит в квартиру. Когда солдаты захотели
пустить в ход приклады, Пик выстрелил из револьвера, кто-то еще выстрелил,
солдаты дали залп в комнаты и выскочили на двор. После первого залпа оказались
убитыми Пик, Гуревич Софья, (ее закололи штыками — три штыка всадили в нее, — собственно,
она была тяжело ранена и только в больнице уже умерла), были ранены Гоц пулей в
грудь навылет и еще кто-то. Был такой дым, такая сумятица, что даже сами участники
не помнят, кто когда был ранен, так как было несколько залпов. В это время
подъезжает Осташкин к дому; из дверей его выбегает жена Брамсона (принявшая в
дыму кого-то из раненых за своего мужа) и с криком: «вы убили моего мужа, убейте
и меня!» — падает в обморок. Подбельский, который на шум выстрелов прибежал из
лавки (5), где он был конторщиком (кончился срок
его ссылки, и он собирался уезжать в Россию и в лавку поступил, чтобы
заработать денег на дорогу, подошел к Осташкину и начал что-то говорить, но,
увидя падающую Брамсон, бросился к ней и стал ее поднимать; кто-то выбегает из
дома и стреляет в Осташкина (6); солдаты
дают залп в окна дома, и какой-то подлец почти в упор выстрелил в Подбельского,
поднимавшего жену Брамсона, и разнес ему череп. Осташкин сейчас же уехал, отдав
приказ стрелять, пока не сдадутся.
Солдаты дали несколько залпов — выпустили
150 патронов, изрешетили весь дом, и в конце концов оказались убитыми, кроме
Пика и Софьи Гуревич, Муханов, Подбельский, Шур и Ноткин, ранены — Гоц (пулей в
грудь навылет), Минор (через ключицу пуля прошла в рот и вышибла один зуб и
отшибла кусочек языка), Бернштейн (прострелена мошонка), Орлов, Зотов (эти
пересылавшиеся в Вилюйск сургутяне — довольно легко), Фундаминский и Эстрович —
штыками легко. Зароастрова была лишь оцарапана штыком, — юбка ее, впрочем, была
прострелена в нескольких местах; царапина была настолько легкая, что она даже в
больницу не попала; у Гасох платок прострелен был, у других барынь (7) и мужчин оказались пальто и шубы прострелены или
проткнуты штыками. И теперь все они — я фамилий всех не помню, пишу на память,
кажется, не вру — Гаусман, Брамсон, Капгер, Зароастрова, Франк Роза, Гейман,
Болотина, Берман, Уфлянд, Магат, Терешкович, Эстрович (их
две), Евгения Гуревич, Перли (женщина), Брагинский и Ратин сидят в
тюрьме (8), а Минор с женой (Настасья Шехтер),
Гоц с женой (Гасох), Бернштейн с женой, Зотов, Орлов и Фундаминский — в
больнице тюремной. Жена Брамсона, Гаусмана, а также Надеев (наш кариец бывший)
и Макар Попов, пришедшие на квартиру после свалки, выпущены перед пасхой.
Теперь их всех обвиняют в подаче прошения
скопом и в вооруженном сопротивлении властям; пока идет предварительное
дознание, и каким судом их судить будут — неизвестно. Бернштейн вряд ли
выживет, остальные раненые почти поправились.
Я был в городе в конце марта с Ростей (9), Малеванным и еще двумя-тремя из наших, бывших в то
время в городе, похоронили убитых Подбельского и Муханова, тела которых были
выданы жене Подбельского, Катерине Сарандович, а тела евреев были выпрошены
еврейским городским обществом — они (молодцы, право) послали раввина просить
Осташкина о разрешении выдать им тела убитых, они хотели схоронить на свой
счет, мы уж потом возвратили им издержки.
Пока никаких подробностей обвинения
неизвестно. Если что узнаю, сообщу.
Мой поклон Леонтию. Не знаешь ли ты, кто из
Кары к нам идет?
Ну, пока до следующего письма. Крепко жму
твою руку.
Виктор.
О себе ничего не пишу, потому что все
по-старому.
Дочка вот только растет, скоро ходить
будет.
Примечания.
1. Георгий Александрович Тархов — уроженец
Нижегородской губ., дворянин, окончил Константиновское артиллерийское училище.
Арестован 15 июня 1879 г. Приговором Петербургского в.-окр. суда 18 ноября 1879
г. осужден на 10 лет крепости по известному процессу Леона Мирского. — Сведения
эти взяты из найденного автором среди бумаг недавно умершего карийца И. Ф.
Зубжицкого списка заключенных карийской каторжной тюрьмы. — Адресовано письмо
В. Ф. Костюриным в деревню Усть-Клю, Читинского окр. Заб. обл., где Тархов
отбывал поселение после выхода с Кары.
2. Как губернатор, Светлицкий,
действительно, представлял нечасто встречавшийся по тому времени тип приличного
администратора, чуждого солдафонства. В издававшейся в то время в Томске газ.
«Сибирский Вестник», в № 49 от 3 мая 1889 г. (приобщен к делу о
«монастыревцах»), в корреспонденции из Иркутска (от 11 апреля 1889 г.),
передающей о происшедшей в Якутске кровавой трагедии, дается такая
характеристика Светлицкому:
«В частных письмах, полученных из Якутска,
высказывается одинаково, что будь на месте по-прежнему г. Светлицкий, ничего
подобного не случилось бы, так как Константина Николаевича все любили и глубоко
уважали, и хотя он был строг, но всегда справедлив и стоял твердо на законной
почве».
3. Здесь допущена Костюриным неточность: по
распоряжению Осташкина, подлежавшие водворению в северных округах ссыльные
должны были отправляться еженедельно по 4 человека.
4. Сухачев. Это был ограниченный человек,
типичный держиморда. Как передавали автору старожилы Якутска, умер он в начале
1893 года от сифилиса.
5. Торговой фирмы Громовой.
6. Пуля
революционера настигла этого верного слугу царизма лишь спустя 15½ лет. Он был
расстрелян в революцию 1905 г. в Туркестане, где занимал какой-то
административный пост.
7. По-видимому, среди политических ссыльных
того времени это выражение было общепринято и не носило свойственного ему
специфического привкуса. По крайней мере, в дневнике М. Брагинского (л. 89 дела
о «монастыревцах») под датой 22 августа (1888 г.) имеются след, строки: «... от
4 до 10 августа — однообразное пребывание в Иркутской тюрьме. Пререкания 2-й
группы с тюремной администрацией. Вопрос о свиданиях с барынями (курсив
мой — В. Б.).
8. Пропущен Ш. С. Гуревич.
9. Ростислав Андреевич Стеблин-Каменский.
/Каторга и ссылка.
Историко-революционный вестник. Кн. 24. № 3. Москва. 1926. С. 196, 198-201./
ПЕРСОНАЛИИ
Осташкин
Павел Петрович — вице-губернатор (27.08.1888 — 1894), надворный советник; и.о.
губернатора Якутской обл. (с февр. по май 1889); 1889 — член Временного
комитета попечения о бедных; действуя от имени губернатора К. Н. Светлицкого,
подавил вооружённое сопротивление политссыльных, отказавшихся следовать по
этапу, т.н. «Монастырёвская трагедия» (22. 03. 1889). 07. 08. 1889 — трёх
организаторов бунта приговорили к повешенью (Н. Л. Зотов, Л. М.
Коган-Бернштейн, А. Л. Гаусман), 23-х — к каторге, 2-х — к ссылке; П. П.
Осташкин был пожалован в статские советники; 1892 — не допустил распространения
на Якутию «Правил о местностях, объявляемых на военном положении»; выезжал для
осмотра залежей каменн. угля в Борогонский улус на предмет промышл. освоения;
31. 03. 1894 - 1917 — председатель Обл. правления Семиреченского
ген.-губернаторства; курировал постройку кафедр, соборного храма в г. Верном
(Алма-Ата, ныне Алматы) (Туркестанские епархиальные ведомости. 1907. № 18. 15
сент. С. 431-438; 100 лет Якутской ссылки. С. 168-173).
/Попов Г. А. Сочинения. Том III. История города Якутска. 1632-1917.
Якутск. 2007. С. 237./
Бик Виктор Ильич, 1888 г.р., уроженец
г. Балаганска Иркутской области, еврей. Гр-н СССР, инструктор отдела
комплектации Якутской национальной библиотеки, проживал в г. Якутске. Арестован
17. 10. 38 УГБ НКВД ЯАССР по ст.ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР. Постановлением УГБ
НКВД ЯАССР от 21. 03. 39 дело прекращено на основании ст. 204 УПК РСФСР. Заключением
Прокуратуры РС(Я) от 24. 04. 2000 по Закону РФ от 18. 10. 91 реабилитирован.
Дело № 1468-р.
/Книга Памяти. Книга – мемориал о реабилитированных жертвах политических
репрессий 1920 - 1950-х годов. Том первый. Якутск. 2002. С 29-30./
ВЕРХОЯНСКАЯ ССЫЛКА
Верхоянск считался городом. В
действительности же, это — десятка четыре юрт, 5-6 деревянных домиков, с
полицейским управлением и церковкой во главе; его взрослое население немногим
более 300 душ. Должно быть Верхоянск только потому удостоился звания города,
что служил административно-фискальным целям царского правительства. Находился
он приблизительно в 13 тысячах километров на северо-восток от Петербурга
(нынешнего Ленинграда), за полярным кругом и в самой холодной точке земного
шара, называемой полюсом холода.
Иногда холода здесь достигали 70°С. [* Наш наблюдатель
метеорологической станции С. Ф. Ковалик рассказывал., как однажды у него лопнул
спиртовым термометр на 60°, но, по его мнению, холод был больший.]. Не
только 70°, но и мороз в 50-60°, — это значит, что когда вы выходите на воздух,
ваше дыхание с шумом вылетает изо рта, потому что оно мгновенно превращается в
льдинки, трение которых и производит шум. И это еще значит, что, если вы вышли с
незакрытым лицом, то через 4-5 минут оно будет обморожено. Если бы не полное
безветрие, обусловленное положением города в котловине, к тому же окруженной
горами и лесами, выжить в нем человеку едва ли было бы возможно.
Но познакомимся предварительно хотя с той
частью дороги в Верхоянск, которая соединяет его на протяжении почти 1000
километров с Якутском, этой столицей отдаленнейших мест Восточной Сибири.
--------
Выезжали ,мы из Якутской тюрьмы. На нас,
двоих ссыльных, дали двух казаков и двух ямщиков. Мы заняли, помнится, пять
парных подвод, потому что под одну дорожную провизию у нас ушло две с лишним.
Дело в том, что пищей мы должны были запастись на весь путь, так как по тракту
достать что-либо съестное было невозможно как по бедности жителей в смысле
материальном, так и в смысле населенности тракта и даже области вообще.
Провизию же, уже совсем готовую, сваренную,
сжаренную и испеченную, везли в замороженном виде: мешками щей, молока и т. д.,
что являлось багажом громоздким; собственно же наши вещи занимали немного
места, если не считать длинного, почти в 2 метра, сибирского чемодана,
заполненного, главным образом, книгами.
Пускаясь в этот путь, о котором даже в
Якутске — на что уж он сам считался у нас в России устрашающим словом! — ходили
легендарные слухи, мы оделись соответственно предстоящим условиям: шуба из
пушистого, густого меха сибирского зайца; такие же шаровары и чулки, поверх
чулок торбасы [*
Сапоги из оленьей кожи шерстью наружу.]; на шубу оленья доха [* Широкая шуба из оленьей
кожи шерстью наружу или богатая — из пыжика]; меховая с внутренней и
наружной стороны шапка с наушниками и меховые же рукавицы; у меня сверх всего
еще и заячье одеяло. Не скрою, тяжеленько высидеть 8-10, а то и 12 часов под
спудом такого вооружения, но обморозиться тоже не сладко.
Дорога в 300 километров, которую мы
проехали на лошадях, не оставила по себе особого впечатления; запомнилось
только необыкновенное радушие якутов, с каким они принимали нас, неведомых и
чуждых им людей, да еще бросалось в глаза их пристрастие к табаку: едва мы распаковывались
из наших одежд, как к нам тянулись одна за другой руки за табаком. Курят
решительно все, начиная от трехлетних детей и кончая дряхлыми старухами. Больше
табака якуты любят только спирт, но насчет него они уже имели опыт:
«государские» [* Т.-е.
политические, от слова государственный преступник.] спирта не возят.
Теперь нам предстояло пересесть на нарты с
оленьей упряжкой. Лошади заменяются оленями вследствие невозможности иметь корм
для них.
Олени
же сами добывают пищу, выбивая копытами из-под снега мох. Даже во время бега
они проворно стучат копытцами и схватывают комочки мха и это не мешает им
пробегать 10-12 километров в час. Но, конечно, настоящая кормежка происходит на
остановках, в таких местах, где под слоем снега находятся сплошные поросли мха.
Длинным обозом в десять нарт, по одному
оленю в каждой, тронулись мы по пути, сулившем нам еще неизведанные злоключения:
около 700 километров почти по безлюдной тундре с редкими станционными юртами и
нежилыми поварнями; прогон от станка до станка в 100-250 километров, как-то их
выдержишь не только из-за лютого мороза, но и на этом, с позволения сказать,
экипаже! Нарта представляет собой длинные полозья, на которых укреплена
небольшой высоты рама с 2-3 продольными досками; спереди полозья загибаются
вверх и соединяются тонкой, обычно тальниковой, дугой; к этой дуге
привязываются ремни-постромки; ни спинок, ни боковин у наших нарт не было; но,
вообще, нарта может быть гораздо благоустроенней — не только со спинкой, но и с
кибиткой, защищающей и от непогоды, и от ветра. В наших же нартах сидеть в
течение долгих часов без опоры для спины было чрезвычайно утомительно, но ведь
имелось в виду примерно наказать нас, какой же может быть вопрос об удобствах?
Кроме того, получить нарту с кибиткой можно было только приобретя ее на свой
счет, мы же были лишены возможности иметь свои деньги, так как они подлежали
конфискации за судебные издержки.
На нарте помещается только один седок, при
чем мужчина, обыкновенно, одну ногу волочит по земле, балансируя ею для
предупреждения перевертывания нарты. Олени мчатся, не считаясь ни с пнями, ни с
выбоинами, и легкая нарта кувыркается каждые 5-10 минут. Женщин и вообще слабых
седоков привязывают к нарте, чтобы они не вываливались; то же, что при
опрокинувшейся нарте пассажир волочится по земле, пока нарта при новом толчке
не примет нормального положения, в расчет не принимается. Да и как избежать
этого? Не может же ямщик постоянно подбегать к вам со своей помощью.
В год нашего путешествия зима была малоснежной,
и я до сих пор помню, как у меня сыпались искры из глаз, когда моя голова
считала придорожные камни, но что же делать? Зная, что помочь ничем нельзя,
сцепивши зубы, молчала; а тут еще чудовищный мороз пробирает через все твои
«сто ризок» и проникает в самое твое нутро. Смотришь на бесконечно вьющуюся по
ледяной пустыне дорогу и не видишь конца ей, не чаешь, что будет же
человеческое жилье, будет тепло. Нет! Олени бегут и бегут, мгновеньем
приостанавливаясь и молниеносно выбивая мох из-под снега, схватывают его на бегу,
мчатся все дальше и дальше. Ты уже коченеешь, не тело только, но, кажется,
самый мозг стынет: в нем нет мыслей, тебя охватывает тупое бездумье,
безразличие ко всему, ты готов заснуть тем сном замерзающего, от которого так
трудно отказаться. Но вот обоз останавливается. В чем дело? Ты равнодушен к
чему бы то ни было и досадуешь за твой нарушенный покой. Но казак уже
развязывает веревки и весело кричит: приехали!
— Приехали? Почему же не видно снопа искр
из трубы камелька, обычного и неотъемлемого признака присутствия якутской юрты?
Почему не слышно лая собак и нет выбежавших из юрты любопытных хозяев? Казак
объясняет — жилья нет; это — поварня. Сиротливо стоит одинокий сруб с кое-как
прилаженной дверью, с отверстием для дыма посредине крыши. Внутри, против
отверстия — очаг, т. е. попросту сложенный из камня круг с некоторым
углублением для дров. Вдоль двух стен — нары. Грейся, отдыхай, полузамерзший
путник!
Благословен обычай, имеющий силу
неписанного закона, по которому всякий, уезжающий из поварни, обязан наготовить
дров для очага, и мы, едва войдя, разожгли костер. Дым расползался по поварне,
слепил глаза, лез в горло, но вот пламя вспыхнуло, потянуло в отверстие крыши,
дым улетучился, а мы принялись отогревать свои закоченевшие тела. На очаге
бурлит огромный чайник, шипят котлеты, кипит котел пахучих щей, но тебе не до
еды: проехав без отдыха 12 часов, ты устал, безумно устал, каждый твой
суставчик просит отдыха, каждая жилка хочет распрямиться, и ты мечтаешь скорее,
скорее лечь, сладко вытянуться и спать! Спать!
Но надо соблюдать порядок, своего рода
дорожную дисциплину: необходимо закусить выпить горячего чая, а для сна
раздеться до белья, иначе «застынешь», т. е. замерзнешь, поучают опытные
казаки.
Раздеться при 50-60° мороза?!
Вы остолбенело смотрите на учителей, но они
только спокойно кивают головой: да, да, не церемонься, мол. Около очага пышет
жаром, стены же поварни, как ни в чем не бывало, искрятся сине-красно-зелеными
бриллиантами прочно осевшего инея. Торопливо глотаешь чай, прожевываешь котлету
и — скорее спать. Мгновенье стоишь в раздумье: как быть? Но другого выхода нет;
разложив на нартах заячье одеяло и прикрывшись другим, бешено срываешь с себя
одежду и, точно бросившись в ледяную прорубь, на минуту замираешь. Но вот
божественное тепло согретого тобою же заячьего меха нежно обволакивает тебя и
переносит в рай наслажденья теплом. Оставив глубокую щель для дыхания,
закрываешь и лицо, засыпая мертвым сном намаявшегося человека. Чуть свет
поднимаемся. И опять мертвящий холод, но теперь еще хуже: одежда за ночь
окостенела, ты отдаешь ей все накопленное тепло и начинаешь скакать и прыгать в
исступлений дикого танца, но это мало помогает, и тогда, пренебрегая опасностью
схватить воспаление легких, начинаешь поджаривать у очага то один, то другой
бок.
Наконец, все готово. Закусили, напились
чаю. Едем. Опять часами та же бесконечная дорога, тот же все пронизывающий
холод. Но всему бывает конец: вот и знаменитый перевал через Верхоянский хребет
(отроги Яблоновского хребта), о котором мы много наслышались еще в Якутске.
Однако при подъеме я не ощутила ни его величия, ни грозной прелести опасности: поднимались
в объезд, сравнительно отлогой дорогой, все же олени ступали медленно и
осторожно, а наши мужчины все спешились, только я по-прежнему была привязана,
да нарта моя уже не кувыркалась. Зато спуск с хребта, уже по возвращении из
Верхоянска, навеки врезался в память и, забегая вперед, скажу о нем несколько
слов.
Высота перевала — около полутора
километров. Спуск местами так крут, что нарта идет почти стоймя и, насколько он
безопасен, можно было понять по приготовлениям, предшествующим ему. Прежде
всего руководство спуском поручалось уже не якуту, а опытному ламуту [* Ламуты — тунгусское
племя, обитающее на крайнем северо-востоке Якутской области и занимающееся
оленьим промыслом.], и его распоряжениям беспрекословно подчинялись все.
Приготовление шло без обычной болтовни, в молчании, прерываемом лишь короткими
приказаниями ламута. С особым вниманием он исследует сбрую оленей, те ременные
гужи, которыми олени привязываются к нартам (теперь — позади их, для того,
чтобы своим сопротивлением сдержать стремительность бега нарты, когда,
спущенная с горы, она стремглав полетит вниз). Олени, несмотря на свойственную
им быстроту, не могут бежать с такой головокружительной скоростью и, упираясь,
тормозят бешеный галоп нарты.
И все же, нарта мчалась так, что казак,
здоровенный парень, вздумавший схватиться за мою карту и бежать вровень с ней,
сразу же оторвался и расшибся. Вообще, возможность несчастных случаев при
спуске не исключена; нам рассказывали станционные якуты, что однажды гужи,
привязывающие оленей к нартам, лопнули, нарта, кувыркаясь, полетела с горы, и
от седока остались только косточки. Поэтому неудивительно, что даже заправские
ямщики готовятся к спуску с тревожной торжественностью и, как правило, ночью,
как бы она ни была светла, никогда на него не решаются.
Теперь возвращаюсь к моменту, когда мы
поднялись на хребет.
Отъехав немного, мы увидели ласкающий взор
сноп искр, а за ними юрту. С какой радостью приветствовали мы это невзрачное
жилье после остановок в поварне! Наконец-то можно будет сбросить с себя весь
груз одежд, расправить отекшие члены и отдохнуть в тепле!
Все юрты строятся по одному плану: стены
составляются из продольно и наклонно поставленных брусьев; снаружи они
обмазываются навозом, на плоскую крышу насыпается земля; зимой это сооружение
покрывается толстым слоем снега и, если прибавить к этому шпаклевку мхом пазов
между брусьями да толстые, приблизительно в четверть метра, льдины в оконных
просветах, казалось бы, тепло в юртах обеспечено; однако, жестокие морозы и
отсутствие печей, кладка которых якутам в то время не была известна, требовали
беспрерывной топки камелька; камелек — слабое подобие камина, с той основной
разницей, что труба камелька прямая, без ходов, поэтому тяга из нее огромная и
пламя вырывается наружу снопом искр, не задерживая тепла, так что юрта согревается
только лучистой теплотой. Тяжелая, обитая кожей, входная дверь открывается
прямо в жилое помещение, и мороз, густым облаком врываясь в юрту, на мгновение
застилает собою все, так что вы не видите ни людей, ни предметов.
Внутренняя обстановка юрты всегда одна и та
же: глиняный пол, камелек, вдоль стен ороны [* Нечто вроде закрытых ларей.]; в переднем углу —
стол и над ним икона, закопченная до такой степени, что трудно разглядеть
изображение; нередко около нее на полочке размещены самодельные деревянные
фигурки каких-то фантастических святых. Казаки рассказывали, как молится якут:
если бог не исполнил просьбы, он начинает его укорять; если же не подействует и
это, тогда уж молельщик сердится и грозит выбросить такого плохого бога и
заменить другим, — надо думать, своего художественного изделия, — что и
приводит в исполнение в случае неудавшейся молитвы.
В юрте тех бедняков, которые имеют корову,
часть помещения отгораживается для скота. Юрты богатых несравненно
благоустроенней: самое помещение по крайней мере вдвое втрое больше, стены
облицованы гладко выструганными досками, такой же с плотно пригнанными досками
пол; камелек большой с соответственным предпечьем, так как тойону (господину)
надо много готовить еды: у богатого якута много приживальщиков. Ороны, если они
есть, один, два, перемежаются с сундуками, обитыми инееподобной жестью; кровать
хозяина за цветистым с оборкой вверху пологом; оконные льдины вычищены до прозрачности
и входная дверь открывается не наружу, а в хорошо устроенные сенцы.
Обыкновенно богатство тойона заключается в
сотнях голов скота; ясно, что для ухода за ним требуются слуги; таким образом
около богача всегда много народу, и сам тойон в конце концов доходит до того,
что не пошевельнет пальцем, признавая высшим благом еду и сон. Но это —
мужчина-тойон; женщина же, хатын (госпожа), хотя и не столько работает, как
беднячка, все же ведет хозяйство и, имея свой штат прислужниц, сама — первая
слуга мужа.
Юрта, в которую мы приехали, была ямщицкая,
следовательно, бедная. Открыв дверь, я чуть не споткнулась о трех ребятишек,
сидевших совершенно голенькими на полу перед пылающим камельком; они ни мало не
смутились, когда их окутал ледяной пар, хлынувший густым облаком со двора. «Ну,
очевидно, этих никакая простуда не возьмет», — подумала я, глядя на их упругие,
красные тельца. Но когда потом, за чаем, высказала эту мысль вслух, казак
рассказал, как не дальше этой весны, повсюду в округе свирепствовавшая оспа
унесла массу таких здоровяков.
Известие о недавно бывшей оспе заставило
насторожиться. Совершенно ясно, что якуты не уничтожают одежды, употреблявшейся
больными; следовательно, получение заразы вполне допустимо. Я сообразила
выбрать для спанья орон, стоявший подальше от кровати хозяев. Почему-то я
полюбопытствовала заглянуть внутрь его и в испуге отскочила: в ороне лежал голый
труп! Хозяин равнодушно объяснил, как вещь вполне для всех понятную, что теперь
праздники и труп не похоронен, так как работать, т. е. рыть могилу, грех.
Когда мы улеглись, а ямщики еще убирались с
оленями, хозяин сидел у камелька, строгая какую-то деревяшку, чуть ли не
будущего боса, и пел. Что это была за песня! В ней и стон вьюги, и вой волка, в
общем нечто душу надрывающее, неимоверно тоскливое. Я подумала: вероятно,
оплакивает своего умершего, и сказала это вслух. Казак усмехнулся. — Не-не, это
он про вас поет.
— ?!
—
Оказалось, якут успел сочинить песню,
описывая приехавших русских: они мерзляки; на них столько кухлянок и дох, что
они еле поворачиваются и не могут шибко бегать. Дальше шло описание самых
характерных черт наружности: он уже уловил особенности вашей разговорной
манеры, жестов, лица, и — песня готова. Наблюдательность якутов поразительна:
то, что для нас пройдет совершенно незамеченным, якутом уже схвачено и так или
иначе квалифицировано и переложено в песню.
--------
Мы ехали уже часов восемь. Мороз стоял
жестокий; дыхание с шумом вырывалось на воздух. Чувствовалось, как все твое
нутро леденеет и одна мысль владеет тобой: тепла! тепла!
А до станции еще не близко. Из разговоров с
казаками выяснилось, что немного в стороне от дороги есть становище ламутов,
можно заехать и переночевать. Сворачиваем с дороги и подъезжаем к еще
невиданному жилищу: ураса. Это походный дом ламутов; он сделан из тонких,
неплотно прилегающих жердей в форме сахарной головы со срезанной верхушкой,
бока остова обтягиваются, уже после установки ураеы, оленьей кожей, покрышка же
приспособлена так, чтобы смотря по надобности, легко задергивать или открывать
ее. Ламуты — кочевники. В промысле за оленями они переходят с места на место и
потому и жилище должно отвечать условиям их жизни: легкое, быстро снимаемое и
устанавливаемое. Закрытое шкурой оленя отверстие заменяет собою дверь; оно так
мало, что мы ползком друг за другом влезаем в урасу.
Здесь глазам нашим представился круглый пол
земля, около четырех метров в поперечнике и, если принять во внимание горящий в
центре костер, свободного места оставалось не так-то много. Едкий дым волнами
ходил по урасе и вызвал у меня горькие слезы; улыбающаяся ламутка, видя это,
предупредительно отдернула верхнюю покрышку и дым дружно взвился кверху, можно
было вздохнуть свободно и осмотреться. Для нас, жителей городов, поразительным
казалось то гостеприимство, с которым встречали эти полудикари неведомых им,
невесть откуда взявшихся людей; но, пожив в условиях их жизни, этой
пустынности, оторванности от людей, научаешься понимать, что значит здесь
появление всякого нового человека. Это возможность, хоть на короткий миг, хоть
косвенно приобщиться к какой-то другой жизни, другим людям, чем те, которых
знаешь повседневно и бесконечно. Так и эти ламуты встретили нас, как желанных,
дорогих гостей; они засуетились напоить нас чаем, устроить места поудобнее, и
мужчины даже вышли помочь ямщикам в уборке оленей. Но наша мечта о тепле, — что
с ней сталось?! Как могут люди большую часть своей жизни проводить в этих
условиях холода, тесноты и неизбежно связанной с ними неопрятности?
Однако, вот передо мною молодая,
краснощекая ламутка, пышущая здоровьем; она весело блестит жемчужными зубами,
посматривая на мои «сто ризок»; сама же она лишь в кожаных шароварах, короткой
оленьей куртке с кожаным же фартуком как спереди, так и сзади; передний фартук
расшит бисером, голенища торбасов — разноцветными тесемками. Есть, значит,
потребность в украшении, своего рода стремление к эстетике.
Ламутка расставила на полу грязную чайную
посуду и налила всем нам чай. Здесь я впервые попробовала оленье молоко; оно
очень густое, вроде жидкой сметаны, и приятное на вкус, но зато кирпичный чай,
по-моему, отвратителен; состоит он из каких-то суррогатов, говорят,
питательных, но терпкий, со специфически неприятным запахом; без молока этот
чай у непривычного человека вызывает тошноту. Бедняки же якуты целую зиму
питаются только этим чаем, лишь изредка балуя себя сорой [* Сора — особым образом
заготовленное на зиму острокислое молоко.], разумеется, без хлеба,
которого у якутов вообще нет. Хлебные злаки произрастают лишь в некоторых,
ближайших к Якутску районах, но и там якуты пекут пресные пышки, не зная
выпечки кислого теста.
Наше пребывание у ламутов закончилось
маленьким, но характерным инцидентом: так как спать надо было, поджав ноги, из
опасения попасть ими в костер, то один из наших казаков, заснувший слишком
крепко, чтобы во сне помнить об этом условии, поплатился прогоревшим торбасом и
теперь в унынии размышлял, как ему доехать, не обморозив ноги. Отблагодарив
ламутов все тем же табаком-махоркой, мы двинулись дальше и на 21-й день нашего
путешествия, как раз во второй день Рождества, остановились на последнюю перед
Верхоянском ночевку. В юрте было неприглядно, за отгорожей нудно жевала корова.
Меня потянуло выйти наружу, как будто там, в раскинувшемся безлюдном просторе,
я могла в последний раз оглянуться назад, проститься с отходящей полосой жизни.
Помню тишину ночи, высокое с золотыми звездами небо и щемящее чувство тоски:
вернешься ли когда-нибудь и, если посчастливится, каким вернешься? Пережитые
ужасы [* Казнь трех
товарищей-сопроцессников и смерть убитых во время вооруженного сопротивления
друзей (имею в виду известный протест якутских ссыльных 22 марта 1889 года
против условий отправки политических в Верхоянск и Колымск). Подробности см. в
Сборнике: «Якутская трагедия» Изд. О-ва Политкаторжан и Ссыльно-Поселенцев 1925
г.] словно надломили душу, и я чувствую себя, как человек смертельно
уставший, почти равнодушный ко всему, что видит. Кончено уже со мной? Но нет,
что-то, еще не умершее под гнетом душевной тяжести, слабо протестовало,
просилось жить, и молодость, молодость, не мирящаяся с угрюмой
действительностью, с ее ненавистью к покорности, напрягала остаток сил и, как
бы помимо сознания, влекла вон из темной ямы отчаяния и апатии. Что-то будет
там, в этом Верхоянске?
--------
Было часа три пополудни, когда мы приехали
в Верхоянск. В волнении, что путь наш наконец завершился, я не заметила, что,
несмотря на еще непоздний час, на дворе стояли сумерки. Все мое внимание было
сосредоточено на окружающем: где же город? Правда, ямщики приостановили для
каких-то своих надобностей оленей перед церковкой, против которой ютился
трехоконный домик, но дальше виднелись лишь кое-где разбросанные кучки снега,
да совсем вдали маячило нечто, похожее на строение. Поехали еще и остановились
у настоящего деревянного здания со стеклянными окнами — полицейское управление;
кучки же снега оказались юртами — это и был город Верхоянск. Он расположен в
котловине, окруженной цепью гор, и впоследствии я тяжко переживала чувство человека,
запертого не за железными дверями, а вот за этими каменными цепями, отрезавшими
тебя от живого мира прочнее всякой тюрьмы. Но теперь, пока что, глаза
перебегали лишь по поверхности видимого.
Неказисто, что и говорить, но ведь мы и не
ждали доброго: разве не сказал мне благорасположенный, дружественный к нам
смотритель Якутской тюрьмы Николаев, что нас двоих сошлют на Быков мыс, где, по
его словам, даже скопцы не выжили, — здесь же вот живут товарищи, ибо, едва
остановился наш обоз у полиции, как они стали сбегаться со всех сторон «города».
Нас живо водворили в случайно пустовавший дом, в котором было даже два
застекленных окна!
Первый вечер прошел в каком-то угаре странных
впечатлений, и от новизны обстановки, и... от товарищей. Не могло не броситься
в глаза, что эти товарищи в общем не те, каких мы привыкли встречать в своей
среде, и с первого взгляда определять как своих. Нет, тут чувствовалось то
новое, незнакомое.
— Привезли вы фамильный чай? — А пшеничный
табак? — Дайте мне под натуру!
Что это? О чем они говорят? И когда
выяснилось, что «под натуру» означает заем с отдачей тем же предметом, мы
окончательно растерялись: в тюрьмах, включая Якутскую, мы всегда жили коммуной,
и теперь нам было дико слышать, чтобы нуждающемуся товарищу давать взаймы то,
что у тебя есть. В мыслях вертелось слово «одичали», но — охватывало ли оно
сущность явления или тут было что-то, еще трудно уловимое первым впечатлением и
в чем предстояло разобраться, только поживши здесь?
--------
26 декабря —- наш первый день в Верхоянске.
Но разве это день? Сквозь стекла окон тускло пробивается серый полумрак и
только пламя камелька рассеивает его в комнате; в двух других комнатах, где вместо
стекол давно нечищеные и потому с пеленой снежного налета льдины, стоит полумрак.
Товарищи объясняют: тьма идет к концу, через пять дней покажется первый луч
солнца, правда, на минуту, но с каждым днем он все дольше и дольше будет нам
светить, пока с первого мая оно уже в течение всего лета не перестанет
заходить.
Потом, летом, случалось наблюдать, как
солнце, доходя до горизонта, мгновенно и быстро начинало подниматься вверх, что
очень красиво, но красота эта некоторыми товарищами оплачивалась дорого: от
беспрерывного света они не могли спать и так называемую «ночь» напролет
бродили, где попало; конечно, это разрушающе сказывалось на нервной системе.
Другие же, наоборот, страдали от месяцами тянувшейся ночи: свирепый холод
вынуждал сидеть в четырех стенах при свете камелька или сальной свечи, человек
терял представление о времени, его разделении на день и ночь. Я помню, как у
меня начинало путаться в голове, когда я запиналась, сказать ли «сегодня» или
«вчера». С течением времени или научишься ориентироваться, или — при всех
прочих условиях — нервы не выдержат...
Как уже сказано, мы приехали, в декабре. От
взятой из Якутска провизии у нас почти ничего не осталось; между тем, в
Верхоянске основным продуктом питания, мясом, запасаются с осени, когда бьется
скот, и тот, кто этого не сделал, до весны остается без мясной пищи, т. е.
голодает, так как хлеб бывает лишь случайно, когда казаки продают свой паек и
ссыльные, покупая его, обзаводятся около 3 кило муки на человека в месяц.
Молока же ни у кого купить нельзя: верхоянская лучшая корова дает в сутки четыре
бутылки, и владеющий коровой имеет молоко только для себя; таким образом
выходило, что, хотя нам выдавалось по 15 рублей кормовых, кормиться нам было
нечем.
Некоторые товарищи, у которых позволял это
сделать запас, дали нам немного мяса. Экономно варя его в присоленной воде, — каких
бы то ни было овощей в Верхоянске полное отсутствие, — мы, что называется,
питались; о молоке и сахаре к чаю приходилось забыть, так что пищевой вопрос
сложился на первый год нашей жизни в Верхоянске настолько неблагоприятно, что
нередко только и думалось о том, как бы поесть досыта.
И
все же, как ни плохи были физические условия нашего существования, сильнее
сказывались и труднее переносились моральные. Помню моменты, когда буквально
задыхалась: казалось, тебя душит нечто невидимое, но огромное, хотелось биться
толовой о стену в надежде заглушить физической болью душевную тяжесть.
Потом постепенно начинаешь тупеть и
привыкать, но и отупение проявлялось различно: у одних оно выражалось в
стремлении занять ум мелочами жизни, отвлекающими мысль от опасного
самоуглубления; другие хватались за развлечения вроде игры в карты, хождения по
гостям к обывателям и пр., но подобные увеселения в общем колонией осуждались,
и лишь немногие шли в разрез с «общественным мнением». Те же, кто упорно
старались удержаться на высоте своего идейного престижа, создавали себе иллюзию
«дела»: запоем читали, одни изучали Маркса, хотя у нас был только 2-й его том,
другие, не довольствуясь существующей, создавали свою философию, при ознакомлении
с которой вспоминалось поприщинское 42-е мартобря, и, наконец, иные изучали по
нескольку языков, при чем ни один француз или англичанин не могли понять, на
каком языке говорит французящий или англичанствующий самоучка. В конечном
счете, на свежего человека все они производили впечатление более или менее
людей странных.
Большинство ссыльных жаждало схватиться за
тот или иной физический труд, конечно, целесообразный, который, помимо всего
прочего, внес бы здоровое разнообразие в их тягостное бытие; но в Верхоянске и
эту задачу осуществить оказалось не так-то просто: препятствия ставились и
природой, и бытом, и отдаленностью от минимально культурных мест, откуда бы
можно получить необходимейшие орудия труда. Впоследствии я расскажу, как и что
мы предпринимали в смысле осуществления нужных нам работ, теперь же закончу
общую характеристику условий жизни верхоянских ссыльных. Помимо отмеченного,
безрадостность их существования усугублялась длительностью сроков ссылки: сюда
ссылались или по суду — отбывшие каторгу, поселенцы, житейцы или административные
— на срок от 8 до 12 лет [* Не надо забывать, что в то время широко практиковалась
система продления сроков, и иногда, как это было в случае с т. Багряновским —
до бесконечности, так что он избавился от надбавок, лишь покончив самоубийством.].
В молодости же (особенно) такой период кажется уходящим в беспредельную даль и
рождает мысль, что тебе, уж не увидеть родного края, да для многих она и
оправдалась.
Оторванность от живого мира — почта приходила
из Якутска 2-3 раза в год — когда даже жалкие отрывки сведений из России
достигали нас уже утеряв ценность современности, завершала картину жизни.
Получалось положение, как если бы людей посадили на годы под огромную крышку,
изолировав от всех и всего: существуй, если можешь, варясь в собственном соку.
Где же тут было сохранить, не говорю, свежесть душевную, но просто душевное
равновесие!
Подлинно жестокая верхоянская зима запирала
ссыльных в их юртах, и единственными их вылазками были перебежки от своей до
юрты товарища; но и эти посещения скоро обрывались: ведь так быстро
исчерпывались темы для общения при отсутствии притока их извне; люди узнавали
друг друга, что называется, до дна, каждый знал о другом не только, что он
скажет в том и другом случае, но и как он это скажет. Естественно, взаимный
интерес терялся, и каждый лишь подмечал в другом тот или иной надлом и отстранялся,
инстинктивно избегая заразы или просто тяжелого впечатления.
В описываемое время в Верхоянске жило 14 политссыльных,
— уголовных здесь совсем не было, — из них двое были определенно ненормальны и
четверо с очевидно поврежденной психикой. Последняя проявлялась в какой-нибудь
странности — в страсти к преувеличению и просто вымыслу, которому автор их
глубоко верил, в навязчивой мысли о самоубийстве, мании преследования, в резко
выраженной слабости воли и т. д. Конечно, почва для психической ненормальности
подготовлялась и предшествующими переживаниями — тюрьмой с ее «активными» и
«пассивными» [*
«Пассивный» протест — голодовка, «активный» — в той или иной форме действенный
бунт.] протестами, длительным, нередко тяжким этапом; но все же, попади
ссыльный в более человеческие условия, он мог бы еще воспрянуть духом, окрепнуть;
здесь же все, начиная с природы и кончая бытом, толкало его к гибели.
Были среди нас и недюжинные по силе,
энергии и уму люди. Достаточно назвать Ковалика и Войноральского. О первом не
говорю: это был характер, в высшей степени выдержанный, дуб, которого не мог
подточить никакой червь; но Войноральский, экспансивный, увлекающийся, с
недисциплинированной волей, погиб, не осуществив тех возможностей, которые были
в нем заложены. Ко времени нашего приезда он был женат на якутке, имел от нее
детей и сильно выпивал. Впоследствии, вернувшись в Россию с мечтой о
революционной работе и встреченный революционерами с большим вниманием, он
быстро выявился, как человек, погибший для дела революции. Трое из нашей
колонии Эдельман Исаак, Багряновский и Бартенев — покончили с собой.
Но что говорить о нас, пришлом,
неприспособленном к местным условиям элементе, если сами якуты отличались
поразительной нервностью; не говоря о таких ее проявлениях, как выкрики
бессмысленных или нецензурных слов при всяком резком звуке, — они страдали
болезнью, известной под именем имерячения, состоящей в том, что одержимый ею
автоматично повторяет все ваши действия, не останавливаясь решительно ни перед
чем; понятно, до чего может довести такого рода болезнь, если найдутся охотники
поиздеваться над имеряком. Основной причиной этой болезни, признается крайнее
однообразие жизни, бедной впечатлениями.
--------
Нас, собравшихся здесь, разделить точно по
партийности можно было далеко не всех. Вообще, надо сказать, до девяностых
годов не редкостью было встретить революционера с весьма смутным теоретическим
обоснованием своей революционной идеологии, и это было вполне понятно, как
логическое следствие тех общественно-бытовых условий, в которых воспитывалась
молодежь того времени.
Жизнь
ее протекала под гнетом цензуры и сыска, начиная со школьной скамьи, когда пробуждавшаяся
мысль жаждала понять и уяснить себе окружающую общественность со всей
сложностью и уродливостью ее проявлений. Она, эта мысль, всячески подавлялась и
преследовалась узаконенными, но по существу беззаконными, приемами ретивых
служителей самодержавия, а нередко и самой семьей, невежественной или
запуганной. Книга, которая могла бы юношеству уяснить и научно обосновать его
стремления, охранялась, как опаснейший яд. Куда ни кидался пытливый ум в поисках
истины, он всюду наталкивался на рогатки, и нужна была чистота молодости с ее
ненавистью к торжествующему насилию, с ее жаждой справедливости, чтобы разрушить
овсе преграды и, выработав свое миропонимание, ринуться в борьбу, схватиться с
врагом, на которого указывала сама жизнь.
Такова вкратце психология рядового революционера,
революционера-массовика, которому не посчастливилось ни пожить за границей, ни
созреть в исключительно благоприятной обстановке, среди более осведомленных и
опытных товарищей, чтобы быть во всеоружии теоретического знания.
С этой оговоркой среди нас было:
принадлежавших и не принадлежавших формально к партии «Народная Воля» — 8 человек
(Мельников В. И., Бартенев Д. И., Шульмейстер, Блох, Соломонов, С. И. Каптер,
А. А. Зороастрова,. И. Эдельман); один — к партии «Пролетариат» (Винярский);
двое (Говорюхин и Резник) — к разным революционным кружкам; трое — по процессу
193 (Ковалик С. Ф., Войноральский П. И., Стопани С. А.), т. е. люди вообще
самых разнообразных направлений, начиная от анархистов и кончая народниками. По
социальному происхождению и положению распределялись так: мещан 9, дворян 4,
духовного звания 1. Из них: студентов 6, рабочих 2, народных учителей 2,
мировых судей 2, фельдшер 1, бухгалтер 1.
--------
Наступила страстно ожидаемая весна: за одну
ночь лес зазеленел, снег быстро исчез; земля здесь оттаивает всего на полметра
глубины, и слякоть, свойственной российской весне, здесь не бывает.
Ссыльные готовились к работам: решили сами
накосить сена, мечтая обзавестись коровой и даже лошадью, засадить огород, так
как полное отсутствие овощей сильно сказывалось не только на вкусовых
ощущениях, но и на здоровье. Овощи здесь были такой редкостью, что верхоянская
знать, получив с оказией из Якутска картофель, приглашала гостей специальной
запиской «на картофель»; впрочем; точно так же, как они же, приглашая в гости,
писали: «пожалуйте откушать чаю с сахаром», хотя у них-то сахар всегда был.
Итак, ссыльные оживились, предвкушая во
всех смыслах необходимый им физический труд. Но когда наступило время косьбы,
оказалось, что якуты косят горбушами и кос не имеют, косить же пришлось по
колена в воде, а скошенное сено пучками навязывать к вбиваемым в воде же
колышкам. Все это, вместе взятое, делало косьбу тяжелой, но мужчины наши
героически преодолевали все препятствия и, наконец, изнеможенные, но торжествующие
возвратились по домам. И вдруг, о ужас, облетел слух: река Яна вот-вот
разольется и снесет все сено, надо его спешно вывезти, а ни лошадей, ни волов у
колонии нет! Бросились туда, сюда в поисках перевозочных средств — никакого
толку: всем, у кого есть скот, самим нужно спешно спасать свое. Так и погибло
наше сено, скошенное с таким трудом.
С огородом вышло удачнее, хотя и не без
неожиданных потерь. Посадить, за отсутствием семенных средств, пришлось лишь
картофель и капусту. Ухаживали как нельзя больше, не давали воли лишней
травинке, а когда стали выкапывать, лунки оказались почти пустыми, если не
считать мелочи величиной с орех. В чем дело? Оказалось; расхитили мыши. Стали
отыскивать их норы и извлекать оттуда потом добытое наше достояние; но собрали
ничтожное количество, вероятно не отыскав всех мышиных складов [* Кстати сказать, в
Верхоянске водятся мириады мышей; холод их нисколько не берет: у нас был
огромный ледник, набитый доверху льдом, и мыши преспокойно разгуливали по нем в
поисках зарытого во льду мяса. Кошек в Верхоянске не было: они, очевидно, здесь
не выживали.]. Капустные же вилки вызреть не успели, и пришлось
использовать только листья; заквашенные на зиму ржаной мукой, они шли на
приварок к нашим водянистым супам, но при этом издавали далеко не ароматичный
запах.
Как уже упоминалось, в быту якутов печей не
существовало, и перед ссыльными стал вопрос: почему бы их не ввести в
Верхоянске? Первым за осуществление этой мысли взялся Ковалик. «По его словам,
руководствуясь физикой, он выработал план кладки печи. Но и тут, как во всяком
верхоянском начинании, явилось препятствие: песку, необходимого при обжигании
кирпичей, нигде поблизости не было, из сырца же печи при самой тщательной
кладке выдерживали самое большее две зимы. Тем не менее дело с установкой печей
пошло, и не только все мы, но и обыватели, стали обзаводиться ими, при чем
наемными рабочими были Ковалик и другие ссыльные. И вот весною же принялись за
выделку кирпичей.
Что же касается выработки самой примитивной
мебели, с которой у нас было очень бедно, — столов, табуретов, полок, — дело
обстояло совсем плохо: ближайшие к Верхоянску леса состояли из корявой
лиственницы, совершенно негодной для поделок, нужный же материал можно было
приобрести лишь за 150-200 километров от Верхоянска, что не отвечало ни нашим
перевозочным, ни денежным средствам. Помню, какое огорчение пережили мы, когда
у нас раскололось топорище, которое не из чего было сделать вновь.
В таких-то условиях скудности или полного
отсутствия нужных материалов, инструментов и орудий труда проходили
хозяйственные начинания верхоянских ссыльных. Поневоле пришлось сузить, а то и
просто бросить планы организации работ в размере и формах, которые могли бы
захватить большинство ссыльных. Оставалось ограничиться домашними работами;
правда, и они мало походили на те, какие подразумевались под этим названием в
России. Зимой, например, чтобы получить воду, привозили с реки глыбы льда,
которые надо было раскалывать на более мелкие куски и дать им растаять. Не
только бочек для привоза воды, но даже какой-либо посуды для ее хранения при
доме в Верхоянске не водилось и для таяния льда мы употребляли фляги из-под
спирта. Купив дров, надо было переколоть их на поленья, пригодные для топки
камелька, поглощавшего их в огромном количестве, так как, хотя у нас и были
печи, без камелька мы не обходились. Льдины, заменявшие стекла, требовалось
ежедневно и очень тщательно очищать от налета инея, иначе наружный, и без того
слабый свет почти не проникает в комнату. Дальше уже шли такие работы, как
приготовление пищи, мойка полов, стирка белья и прочее. И так как мы избегали
наемного труда, то у нас уходила добрая часть времени на подобные занятия.
--------
Ко времени моего приезда в Верхоянск
отношения между ссыльными и местной властью были не плохие: исправник держал
себя добродушно-индифферентно. Он был уже окончательно спившийся человек. Его
помощник Ф. Ф. Слепцов и командир казаков В. Н. Березкин относились даже
приязненно. Среди нас все же существовало предвзятое отношение к обывательщине
вообще, к властям же в особенности. Но скудность жизни, нудное однообразие
делали свое дело, и две столь различных категории людей в конце концов находили
точки соприкосновения.
Так называемая интеллигенция верхоянская
еще и потому тяготела к нам, что в ее представлении мы являлись
энциклопедистами по образованию или, как она выражалась, мы «произошли все
науки». Отсюда настойчивое приглашение товарища, не окончившего ветеринарный
институт, в качестве доктора к заболевшему члену семьи. Никакие возражения, что
лечить не только людей, но и скот он не может, не убеждали, и отказ ими
понимался как «гордость», нежелание помочь им. Меня самое, не имевшую к
медицине ни малейшего отношения, предупредили о предстоящей мне роли акушерки у
племянницы помощника исправника. Самое энергичное с моей стороны сопротивление
подобному предложению встречало только недоверчивые улыбки, плохо скрывавшие
обиду, и, чтобы избежать вражды, я вынуждена была взяться за курс акушерства, к
счастью, оказавшийся в нашей библиотеке.
Однако, не надо забывать, что исправник в
Верхоянске — это власть превыше всего, власть, в руках которой не только ваша
судьба, но и жизнь: хочу — караю, хочу — милую. Недаром один из них со
свободной развязностью заявил: я здесь — царь и бог! Наш пьяница-исправник мало
интересовался ссыльными: бежать им некуда, а все остальное не важно. Но вот
происходит смена: является новый царь-исправник — Кондаков. Слышим, не пьет, но
со странностями; этим нас не удивишь, ибо, как обычай, в наше гиблое место
людей стоящих не назначают. Доктор Архангельский, например, в Верхоянск прислан
потому, что в пьяном виде отравил больного; назначая его сюда, начальство
решило разом убить двух зайцев: и доктора наказать, и Верхоянск не оставить без
медицинской помощи.
Как нарочно, при новом начальнике у нас явилась
настоятельная необходимость обратиться к нему. Дело состояло в том, что по
полученным нами сведениям сосланный в Булунь
тов. А. Н. Лебедев находился в отчаянном положении: в Булуни (местечко около
700 километров к северо-западу от Верхоянска, с населением в полтора-два
десятка юрт) внезапно появилась неизвестная эпидемия, от которой в короткий
срок умерло человек двадцать; чрезвычайно напуганные якуты обособились юрта от
юрты и даже ходили с завязанными ртами в надежде оградиться от заразы. Кроме
товарища Лебедева, политссыльных в Булуни не было; он заболел, и ему грозила
гибель уже от одного того, что может наступит момент, когда он не в силах будет
наколоть дров, чтобы истопить камелек и приготовить пищу или даже просто
горячей воды. Ко всему, у него в это время не было денег. Мы решили хлопотать
перед исправником о переводе Лебедева в Верхоянск, тем более не ожидая отказа,
что тов. Лебедеву до окончания срока осталось что-то вроде 3 месяцев. Учитывая
же его болезнь, решили просить также о посылке за ним двух товарищей.
С
этим и отправились наши два делегата к исправнику. В первый их визит исправник
почти согласился с нашим предложением, просил только придти на следующий день
для каких-то детальных выяснений. Когда же они явились вновь, «выяснение»
приняло такой характер, что исправник пригрозил одному из делегатов арестом, и
только успевшие узнать об этом товарищи бросились в полицию и не допустили
ареста. Арест же во что бы то ни стало нужно было предотвратить, помимо всех
других серьезных соображений, еще и потому, что делегат был лишенным прав (тов.
Багряновский), и по некоторым выпадам исправника можно было понять, что он не остановится
и перед применением телесного наказания.
Надо сказать, что в это время шла полюса
страшного нажима на политических ссыльных, правительство решило приравнять их к
уголовным, и как раз мы узнали о трагедии в Карийской тюрьме: каторжанка Сигида
была подвергнута издевательству, после чего и умерла. Значительно позже мы
узнали и о том яростном отпоре, которым ответили мужская и женская Карийская
каторга на поползновения правительства, но пока мы, хотя и не знали еще о
последнем обстоятельстве, также решили, какою бы то ни было ценой, не допустить
ареста нашего делегата.
В конце концов, мы его отстояли, но, так
как вопрос о посылке за товарищем Лебедевым остался открытым, то переговоры с
исправником должны были продолжаться. Для этой будто бы цели исправник назначил
ссыльным собраться в одной из наших квартир. Ничего не подозревая, мы выбрали
мой и моего мужа дом (упоминаю об этом потому, что у меня в то время было двое
маленьких детей), куда и явился исправник Кондаков со своим помощником Ф. Ф.
Слепцовым и казачьим командиром В. Н. Березкиным. Каково же было наше
возмущение, когда вслед за их приходом наш дом окружили якуты, вооруженные
кольями, а позади их мелькали казаки и некоторые из них с ружьями.
Мы все бросились к исправнику, окружили его
плотным кольцом и тут началась такая словесная атака, что в конце концов он
совершенно растерялся и не знал, ни что ему возражать, ни что делать. Ни
Слепцов, ни Березкин не только не одобряли его плана, но категорически
отказались содействовать его осуществлению, и во все время осады нами
исправника безучастно, сидели в сторонке. Таким образом, эта счастливая
случайность, вытекавшая, как оказалось потом, из существовавшей между нашими
правителями взаимной вражды, спасла нас от жестокой расправы, при чем
пострадали бы еще и дети.
Дело кончилось тем, что у якутов отобрали
колья, внесли их в комнату и составили о всем происшедшем протокол.
Нам, ссыльным, выходка Кондакова стоила не
только пережитой встряски, но грозила последствиями, которые с логической
необходимостью вытекали из факта внушения якутами мысли, что нас можно
избивать. До сих пор во всей нашей округе якуты считали «государских», как они
нас называли, неприкосновенными. Кондаков показал им другое. К счастью, из
Якутска было сделано Кондакову внушение, и якуты, какими-то непонятными для нас
путями узнававшие решительно все, что делается на расстоянии от Верхоянска до
Якутска, никакими «поступками» себя не проявили. Но все же для поддержания
«авторитета» власти Слепцов и Березкин были удалены из Верхоянска. Кондаков же
остался, и пока его не убрали, ссыльные не могли чувствовать себя спокойно...
--------
Вышеописанные (как бытовые, так и
климатические) условия жизни в Верхоянске, сжимали человека в своих ледяных
объятиях, не только не давая ему развернуться, но медленно и верно доводя его
до душевного изнеможения. О побеге из Верхоянска нечего было и думать: обычным
и единственным Верхоянско-Якутским трактом бежать было немыслимо без того,
чтобы сразу не быть пойманным: якуты — и это их удивительная способность — не
уступали телеграфу в быстроте передачи новостей на большие расстояния. Находясь
в Верхоянске, например, они точно сообщали нам, что якутская почта в данный момент
находится в 200 километрах от Верхоянска. И с прибытием почты сведения
подтверждались. Вместе с тем, при их чрезвычайно развитой наблюдательности, от
их зоркого глаза никоим образом не могло ускользнуть появление на тракте
русского.
Бежать же к Ледовитому океану, с расчетом
попасть на иностранное китоловное судно, значило ставить свою жизнь на карту
почти без надежды на выигрыш. Войноральский и Ковалик по приезде в Верхоянск,
думали организовать побеги и с этой целью добились права держать почтовую гоньбу,
но потом. Ковалик, по невыясненным точно причинам, от дела отошел и у
Войноральского из этого плана ничего не вышло.
В итоге все условия жизни в Верхоянске как
будто нарочно были подобраны к тому, чтобы, что называется, сварить ссыльных в
их собственном соку.
В самом деле, заброшенные за тысячи
километров от всего, чем может быть жива человеческая душа, попавшие в
первобытные условия существования, они даже в самой природе края нашли суровую
мачеху, связавшую их энергию, их стремления приложить силы к осмысленному труду
и тем оградить себя от разлагающего влияния духовной и физической
бездеятельности. Нам было ясно, что нельзя безнаказанно прожить долгие годы в
подобной обстановке, и мы не могли не сознавать своей неминуемой гибели, хотя,
быть может не только от других, но и от себя самих, глубоко прятали эту мысль:
ведь, и без того всем было не легко!
И вот, наступал чей-нибудь срок выезда. Я
помню проводы одного из таких счастливцев. Высокий, плечистый, он идет с понуро
опущенной головой в сопровождении товарищей; они веселы, нервно повышенны их
голоса, напряжен смех. Радуются ли они за товарища, или смехом заглушают
сомнение о наступлении такого же дня и для них — трудно разобраться. Он же,
отъезжающий, годы деливший с ними горе верхоянского бытия, с корнем отрывался
от них и, будто виноватый в том, что оставляет товарищей, еще не может отдаться
радости, отравленной горечью.
Подобный отъезд был типичен.
Вопрос, поставленный мною в ночь перед въездом
в Верхоянск: каким вернешься, — не потерял своего смысла и по выезде. Не думаю
ошибиться, если скажу, что огромное большинство пробывших годы в Верхоянске,
было настолько надломлено, что требовалось немало времени, чтобы они, как
смятая трава, выпрямились и вновь потянулись к солнцу — борьбе.
/А. Капгер. Верхоянская ссылка. Дополненное 3-е издание.
Москва. 1931. 36 с./
КАПГЕР (девичья фамилия ЗОРОАСТРОВА) АННА
АЛЕКСЕЕВНА, дочь священника, род. в 1863 г. в с. Савинки Новоузенского уезда
Самарской губ. Окончив гимназию, поступила на Высшие женские курсы в
Петербурге. Была членом московского народовольческого кружка. Арестована 19
января 1886 г. в г. Новоузенске Самарской губ. 16 июля 1887 г. выслана на 5 лет
в Семипалатинскую губ. Переведена в Якутск по собственному желанию и вступила в
брак с С. И. Капгером. За участие в событиях 22 марта 1889 г. («Монастыревка»)
ее вместе с мужем присудили к лишению всех прав состояния и перевели в
Верхоянский округ 25 декабря 1889 г. Уехала с мужем в Воронеж по окончании
срока ссылки 17 августа 1895 г. В дальнейшем в революционном движении не
участвовала. После Октябрьской революции работала в советских учреждениях.
После 1934 г. сведений о ней не имеется.
КАПГЕР СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, род. в 1861 г. в
семье дворянина г. Воронежа. Окончив гимназию, поступил в Петровскую
земледельческую и лесную академию, за революционную деятельность исключен.
Выехал в 1884 г. в Париж и установил связь с эмиграцией, по возвращении с мая
1885 г. вел революционную работу в Центральной России. Арестован в апреле 1886
г. и по повелению от 17 июня 1887 г. выслан в Сибирь сроком на 5 лет. С апреля
1888 г. был поселен в Якутском округе, за участие в «Монастыревке» (22 марта
1889 г.) переведен в Верхоянский округ, куда прибыл 25 декабря 1889 г. и
оставался до августа 1895 г. По возвращении жил в Воронеже, находился под
негласным надзором полиции, вел революционную работу. Убит белогвардейцами 10
июля 1918 г.
/П. Л. Казарян. Верхоянская политическая ссылка 1861-1903 гг.
Якутск. 1989. С. 127-128./
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ССЫЛЬНЫЕ, ЖИВШИЕ В ВЕРХОЯНСКЕ
В 80-х годах и позже до 1903 года.
25) Капгер, Сергей Иванович; «выходец из
Дании, родственник датской королевской семьи».
26) Капгер, Анна Ал., его жена, урожденная
Зоорастова.
33) Резник, мастеровой.
/В. Ногин. На полюсе холода. 2-е изд. Москва –
Петроград. 1923. С. 8, 9./.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Ко второму изданию интересной книги В.
Ногина «На полюсе холода» приложен список политических ссыльных, живших в
Верхоянске с 60-х годов до 1903 г. Как первый, появляющийся в печати список
верхоянских политических ссыльных [* Желательно было бы, чтобы кто-нибудь из бывших колымчан
составил аналогичный список о колымских (их 3).], он очень важен для
историка политической ссылки, но требует значительных исправлений, о чем в
своем предисловии говорит и сам автор. В списке 101 фамилия, начиная с
каракозовца А. И. Худякова. Замечания делаются (ради экономии места) по порядку
нумерации...
25 и 26. Капгер и Зороастрова судились за
вооруженное сопротивление в Якутске в марте 1889 г. Вернулись из ссылки в 96 г.
и жили потом в Бельгии.
Н. Тютчев
/Каторга и Ссылка.
Историко-Революционный вестник. Кн. 8. № 1. Москва. 1924. С. 298./
189) Резник,
Иосиф Айзикович; адм.-сс. (1838-1892), мещ. Минской губ., наборщик, еврей,
женат, 27 л. В 1885-1887 г.г. Резник работал среди минских рабочих. О нем
отзываются, как о наиболее начитанном из рабочих и пользовавшемся среди них
большой популярностью. Его пропаганда не носила какого-либо определенного
характера и ограничивалась, как и вся пропаганда в минских кружках того
времени, «анализом экономических оснований капиталистического строя и
начертанием социалистического идеала». В феврале 1887 г. Резник был арестован в
типографии по доносу одного из рабочих типографии, оказавшегося провокатором и
вскоре выслан в Якутск. обл. под гл. надзор полиции на 3 г. Поселенный в
Тулагинском н. Мегинск. у., прожил там с семьей, прибывшей за ним добровольно
около года, а затем, из-за столкновений с полицейск. служителями, был переведен
в Верхоянск. В июле 1889 г. от Иркутск. ген.-губерн. была получена телеграмма
след. содержания: «тов. министра Шебеко телеграфирует: дознанием, возбужденным
в Киеве о лекаре Эмилие Абрамовиче [* А-ч был арестован за прпаганду среди рабочих: после 2-х
годичен. тюремн. заключения сослан в Якутскую обл., где и пробыл с 1893 г. по
1896 г.] установлена преступная переписка его с находящимся в Якутске,
ссыльным Иос. Резником». Предлагалось у последнего и его жены произвести обыск
и отобрать всю подозрительную переписку. При обыске, однако, не нашли ничего
кроме 4 незначительных писем, которые и были отправлены в Деп-т полиции. По
«монастыревскому» делу Якутск. окр. судом Р. присужден к 10-месячн. тюремному
заключению. В марте 1890 г. получилось извещение о продлении надзора еще на 2
г. Выехал из Якутска в Минск 10/VI 1892 г. [«Былое» кн. VI, 1907 г. Д. 228].
/М. А. Кротов.
Якутская ссылка 70 - 80-х годов. Исторический очерк по неизданным
архивным материалам. Москва. 1925. С. 212./
Резник Иосиф Айзикович, сын мещанина из
Иванецка Минской губ., род. в 1861 г. Работал
наборщиком. Один из активных рабочих-революционеров. В 1885-1887 гг. руководил
кружком минских рабочих. Арестован 6 февраля 1887 г. и по повелению от 10 июля
выслан в Сибирь на три года. В Верхоянск прибыл 24 апреля 1889 г. Срок ссылки
увеличен на два года. 20 марта 1892 г. переведен в Якутск, откуда 10 июля выехал
в Минск. О дальнейшей деятельности сведений не имеется.
/П. Л. Казарян.
Верхоянская политическая ссылка 1861-1903 гг. Якутск. 1989. С. 126./















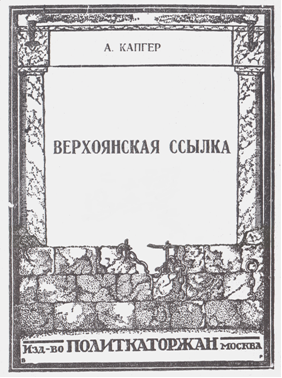












Brak komentarzy:
Prześlij komentarz